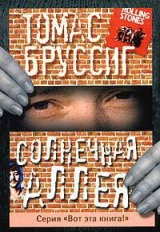
Текст книги "Солнечная аллея"
Автор книги: Томас Бруссиг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
В последующие дни парни девятых и десятых классов, что называется, пустились во все тяжкие с одной-единственной целью: каждый хотел проштрафиться, чтобы его тоже в порядке перевоспитания приговорили выступить на собрании. Только зря они старались: двумя козлами отпущения лимит грешников был исчерпан. Дело в том, что на отчетно-выборных собраниях неизменно присутствовали представители районного молодежного начальства, и если бы все выступающие запели вдруг одну и ту же покаянную песню про то, какие они были раньше нехорошие, но как отныне клятвенно обещают исправиться, школу, чего доброго, еще сочли бы кузницей пороков и очагом идеологического растления. И тем не менее, все оставшееся до собрания время в школе то и дело происходили «чп», виновников которых при обычных обстоятельствах приговорили бы к выступлению неминуемо. Так, на уроке физики в ответ на вопрос о трех главных правилах поведения при ядерном взрыве Волосатик бодро ответил:
– Первое: обязательно посмотреть на вспышку, потому что больше такого уже не увидишь. Второе: лечь и укрыться белой простыней. Третье: медленно, не возбуждая паники, ползти на кладбище.
Волосатику влепили «кол», но к выступлению на собрании не приговорили.
На уроке физкультуры Марио исхитрился метнуть гранату аж на четыре метра. Его обвинили в пацифизме, приказали, чтобы силенок набрался, сделать пятьдесят отжимов лежа, причем десять из них с хлопком. Но чести быть приговоренным к выступлению на собрании и он не сподобился. Толстый, тот и вовсе дал себя застукать у школьного флагштока при попытке опустить флаг. Это вообще граничило чуть ли не с терроризмом, но Толстого приговорили всего лишь быть знаменосцем на демонстрации 7 октября: он должен был нести огромное знамя, гордо именуемое «стягом», и вот это наказание и вправду оказалось нешуточным, ибо 7 октября весь день, как из ведра, лил дождь. Остальные-то приходили, показывались ненадолго и втихаря смывались, а Толстый со своим стягом смыться никак не мог. К тому же, под дождем стяг, и так тяжелый, намок и стал совсем уж свинцовым. Он настолько отяжелел, что развеваться был не в состоянии, и нести его приходилось не вертикально, а только в наклонном положении. По законам рычага положение это требовало от знаменосца неимоверных усилий. В итоге Толстый и вправду изрядно укантовался, пока нес набрякший стяг на весу перед собой так, чтобы с трибун можно было разглядеть эмблему.
И все равно Миха остался единственным, кого приговорили выступать на собрании. Кроме Мирьям, разумеется.
Встретились они в полной темноте в каморке за сценой главного школьного зала. Мирьям, как всегда, опоздала, собрание уже шло полным ходом. Главная активистка давно бубнила свой нескончаемый отчетный доклад, так и кишевший процентными показателями. Почти все показатели, так ли, иначе ли, были за сто процентов, и только очень немногие чуть-чуть до ста недотягивали. Активистка обожала все переводить в проценты: оценки по русскому языку, заявления допризывников о трех-, десяти – и двадцатипятилетнем сроке их будущей военной службы, добровольные взносы в фонд мира, членство в Союзе свободной немецкой молодежи, Обществе германо-советской дружбы, Немецком союзе физкультурников, в Обществе добровольного содействия армии, участие в школьных экскурсиях, субботниках и слетах юных техников, количество посещений библиотеки и книговыдачу… Когда она принялась излагать процентные показатели ежедневной раздачи молока учащимся («семнадцать и семь десятых процента учащихся девятых классов пьют цельное молоко с процентной жирностью два и восемь, по сравнению с прошлым годом прирост составил два и две десятых процента»), в зале обнаружились первые спящие. Единственным человеком, которого от всей этой тягомотины не клонило в сон, был Миха, да и то потому, что он сидел за сценой и сгорал от нетерпения.
Потом, наконец, хихикая и без синей форменной блузки, пришла Мирьям и с порога прошептала:
– Ай-яй-яй, как же я опоздала, нехорошо, нехорошо! Я хоть куда надо пришла?
Миха был настолько потрясен, что чуть было не сказал ей: мол, куда не надо она вообще прийти не может, но от волнения почти потерял дар речи и только прошипел:
– Да-да, все правильно.
Они были вдвоем, в тесноте и в темноте. Еще ни разу он не был настолько к ней близко. Мирьям вскинула на Миху глаза, потом повернулась к нему спиной и мигом стянула с себя футболку. Под футболкой на ней ничего не было.
– Чур, не подсматривать! – шепнула она, хихикнув, а у Михи даже дыхание перехватило, настолько он обалдел.
Мирьям тем временем извлекла из полиэтиленового пакета синюю блузку Союза свободной немецкой молодежи и быстренько ее на себя набросила. И, даже не успев толком застегнуться, уже снова к Михе повернулась. Тот все еще сидел ни жив, ни мертв.
– Ну? – прошептала Мирьям. – Ты-то чем отличился?
– Что-что? – переспросил Миха, который от волнения плохо слышал, а соображал и того хуже.
– Ну, я имею в виду, тебя ведь тоже приговорили?
– Ах вон что, ну конечно! – обрадовался Миха, тут же перестав шептать и заговорив почти в полный голос, так что каждый, кто в зале еще не совсем заснул, при желании вполне мог его расслышать. – Я на самого Ленина посягнул, а вдобавок еще и на партию, и на рабочий класс. Представляешь, что тут началось?
Но чем больше пыжился Миха показать себя с самой выгодной стороны, тем заметнее Мирьям скучнела.
– Они так-у-ую разборку мне устроили, меня уже почти…
– А на западе целуются совсем по-другому, – проговорила вдруг Мирьям таким мечтательным голосом, что Миха только сглотнул и разом умолк. – Прямо так и разбирает кому-нибудь продемонстрировать, – шепнула она и снова захихикала. А потом вдруг перестала хихикать – словно ее идея осенила. И Миха сразу догадался, какая именно это идея.А в каморке за сценой теснотища, отступить некуда. В темноте он вдруг ясно и совсем близко различил ее полные, влажно поблескивающие губы. Она придвигалась к нему очень медленно, он чувствовал, как под синей форменной блузкой вздымаются и опадают тугие полушария ее грудей, как застилает все вокруг благоуханный дурман. И закрыл глаза, успев только подумать: «Все равно никто не поверит…»
Но именно в эту секунду активистка завершили спою речь, и на трибуну вызвали Мирьям. И хотя в комнатушке за сценой было темно, однако не настолько, чтобы разочарование в глазах Михи можно было не заметить.
– Ничего, продемонстрирую как-нибудь в другой раз, – сказала Мирьям, хихикнув напоследок, после чего вышла на трибуну и бодро произнесла речь о том, что парни, которые на три года уходят в армию, кажутся ей особенно мужественными, и лично она, конечно же, такому мужчине готова все три года хранить верность. Эрдмуте Лёффелинг удовлетворенно кивала. И только один Миха из-за сцены видел, как Мирьям, произнося всю эту дребедень, держит за спиной скрещенные пальчики.
Сам же Миха, почти сподобившийся поцелуя, пребывал от этого «почти» в таком обалдении, что после первых же фраз начал отклоняться от заготовленного текста своей речи.
– Дорогие товарищи, друзья! Я хотел бы сказать о том, насколько важно в наши дни знать произведения основоположников единственного в мире подлинно научного мировоззрения. Все их помыслы были пронизаны великой, поистине бессмертной любовью. – И, едва Миха произнес это слово, взор его блаженно просиял, и он, позабыв обо всем на свете, зашелся вдохновенной тирадой: – Любовью, которая наделяла их силой и непобедимостью и окрыляла, как бабочек, помогая вылупиться из кокона, в котором все они тоскливо прозябали, и в свободном, счастливом парении витать над нашим прекрасным миром, над солнечными лугами, полными самых дивных душистых цветов и самых пленительных красок…
Тревожно оглянувшись по сторонам, Толстый тихо спросил:
– Мужики, ему в еду ничего не подмешали, а?
На что Марио только шепнул:
– Если подмешали, я бы тоже не отказался попробовать.
Воодушевление Михи имело следствием то, что, закрывая вечер, Эрдмуте Лёффелинг в своей коротенькой заключительной речи даже задалась вопросом: «Может ли революционер быть страстным?», чтобы тут же дать на него твердый ответ: «Да, революционер может быть страстным!»
И не удержи Марио Миху силой, тот непременно бы вскочил и с сияющим взором выкрикнул бы на весь зал: «Да! Да! Так давайте же и мы жить более страстно!»
После собрания Миха подошел к Мирьям и сказал ей так, чтобы никто не услышал:
– А я видел, как ты во время своей речи пальчики скрестила.
– Да? – только и спросила Мирьям. – Значит, это наш с тобой секрет.
И, оставив Миху стоять столбом, упорхнула к выходу.
Тут Михе почудилось, что он слышит знакомый сытый рокот «АВО». Он кинулся на улицу, но успел увидеть лишь спину Мирьям на заднем сиденье умчавшегося мотоцикла. Однако в тот вечер уже ничто не могло поломать ему кайф, даже очередная проверка документов, которую учинил ему участковый.
«Она обещала мне поцелуй, она обещала мне поцелуй!» – ликующе повторял он про себя всю дорогу. И только возле дома, зная, что мать наверняка смотрит на него из кухонного окна, постарался взять себя в руки.
ГДЕ ВСЕ ГАЛДЯТ НАПЕРЕБОЙ
Мать Михи звали Дорис, и она любила повторять: «Только на мне вся лавочка и держится!» В сущности, так оно и было. А под «всей лавочкой», кроме Михи, подразумевались еще его брат Бернд и сестра Сабина, оба старше Михи.
Сейчас Бернд служил в армии, хотя ему едва не удалось отвертеться. Штука в том, что его угораздило родиться 29 февраля. А в армии, судя по всему, считалось, что в феврале всегда и при всех обстоятельствах дней только двадцать восемь, и точка. Короче, повестку на освидетельствование Бернд не получал ни разу. И когда в газете вдруг появилось объявление: родившиеся в такие-то годы обязаны пройти медицинское освидетельствование для призыва на военную службу, Бернд поначалу решил это дело просто проигнорировать:
– Никто не вправе требовать, чтобы я каждый день читал газету! – кипятился он. – Ни одна собака меня не хватится, это дело в жизни не всплывет.
Мама Михи, госпожа Куппиш, уже тогда отличавшаяся некоторой боязливостью, только и заметила:
– Такие дела всегда всплывают.
Словом, Бернд все-таки отправился в военкомат. И выложил газету на стол призывной комиссии со словами:
– Добрый день! Вот, пришел по вашему объявлению.
Офицеры из призывной комиссии юмор Бернда не оценили и незамедлительно принялись на него орать:
– Оставить шуточки! У нас тут другие порядки. Не только в любом, но и во всяческом отношении!
Они припугнули Бернда диктатурой пролетариата, объявив ему, что он и так уже переступил все границы – «не только дозволенного, но и вседозволенного».
Когда Бернд вернулся с освидетельствования, он только про одно и рассказывал: до чего «чудно они все там разговаривают». Но едва в армию загремел, тамошнюю странную манеру изъясняться сам очень быстро усвоил. Так что когда он в отпуск приехал, Куппиши узнали своего сына и брата с совершенно неожиданной стороны. Вместо того чтобы, как раньше, спросить: «Когда, наконец, мы будем ужинать?», – он вопрошал: «Жрачку когда-нибудь дадут?» А когда его спросили, как ему понравилось в театре, в ответ прозвучало примерно вот что: «По выдвижении в зрительный зал занял заданную позицию в восьмом ряду. В остальном без происшествий». Ясное дело, домашних это обеспокоило, но виду они не подавали. «Это у него временное, – так они решили. – Само пройдет».
Хотя Бернд и трубил в армии, без него в тесной квартире ничуть не стало просторней. Жить дома, как считал Миха, вообще дело нелегкое. Глава семейства, Куппиш-старший, работал на трамвае вагоновожатым, и ему приходилось частенько подниматься в такое время, когда обычные люди имеют обыкновение спать. Из-за тонкой перегородки до Михи доносились все звуки, которыми человек обычно начинает день. А поскольку график работы у господина Куппиша был нерегулярный, Миха никогда не знал, когда у отца выходной. Не то что отец Очкарика, тот был инженер и домой приходил каждый день без пяти пять, минута в минуту. Михе такая определенность казалась поистине райским блаженством. У Очкарика, к тому же, не было ни братьев, ни сестер. У Михи, напротив, помимо брата Бернда имелась сестра, тоже старшая, по имени Сабина. И она сейчас как раз вступила в пору, когда полагается иметь «постоянных партнеров», которых Сабина почему-то неизменно приводила домой жить. Впрочем, Сабина, похоже, принцип постоянства усвоила не до конца – она всякий раз приводила в дом новогопостоянного партнера. Миха уже и по именам их не старался запоминать, говорил просто: «Сабинин очередной». Всякого постоянного-очередного Сабина любила столь пылко, что старалась подражать ему во всем. В итоге Куппиш – старший однажды застукал дочь, когда та писала заявление в партию. От возмущения и ужаса папа Куппиш чуть на потолок не полез (что в малогабаритной квартире было, пожалуй, не слишком трудно), но Сабина в оправдание только кивнула на очередного:
– Так он тоже в партии.
– И я дам тебе рекомендацию! – горячо заверил очередной. – Ведь ты же попросишь у меня рекомендацию, не так ли?
Сабина радостно закивала, но господин Куппиш без долгих слов положил конец ее партийным чаяниям, попросту забрав у дочки заявление, которое, несколько раз сложив, сунул под ножку стола, ибо стол шатался.
Как ни тесна была квартира, а для большого кресла в ней место нашлось. Громадное, что твой трон, кресло, с изголовьем, могучими валиками подлокотников и глубоко проваливающимся сиденьем. Это было излюбленное и постоянное место дяди Хайнца, или, как его за глаза звали, «западного дядюшки». Видно, кресло дядюшке Хайнцу очень нравилось, ибо приезжал он часто. Назначение кресла, в сущности, к тому и сводилось, чтобы принимать западного дядюшку в свое лоно.
Господин Куппиш читал «Берлинер цайтунг» и не читал «Нойес Дойчланд». «БЦ» была, как-никак, городской газетой с местными новостями и даже разделом объявлений, а «НД» называлась центральный орган.Госпожа Куппиш давно сообразила, что во всех газетах, в сущности, печатается то же самое, что в «НД», только на день позже, и решила сагитировать супруга подписаться на «НД». Но господин Куппиш заартачился:
– Только этого мне не хватало! Чтобы я заставлял себя еще и это дерьмо читать!
– Но ведь сосед читает, – не отступалась госпожа Куппиш. – Значит, наверно, не такое уж дерьмо.
– Так он в органах! – кипятился господин Куппиш.
– Откуда тебе это так хорошо известно?
– А потому что он читает «НД»!
Господин Куппиш постоянно находил все новые и новые доказательства, что их сосед работает в органах. Госпожа Куппиш не вполне разделяла его уверенность. Диспуты на эту тему велись без конца.
Он: – Кроме того, у них есть телефон.
Она: – Это еще ничего не доказывает!
Он: – Да неужели? Может, мы с тобой работаем в органах?
Она: – Ну конечно же нет.
Он: – Может, у насесть телефон? Вот видишь…
Она: – Да, но… – Впрочем, тут госпожа Куппиш так и не нашлась, что сказать. Телефона в доме и вправду не было.
– А я вот возьму, – хорохорился господин Куппиш, – и напишу заявление.
– Только осторожно, Хорст, умоляю, осторожно, – всполошилась госпожа Куппиш.
Дядюшка Хайнц, западный родич, никогда в жизни ни про какие заявления слыхом не слыхивал.
– Заявление? А что это такое?
– Это единственное, чего они там, наверху, боятся, – провозгласил господин Куппиш, многозначительно выкатывая глаза, словно его заявления способны привести в трепет самых могущественных владык в самых неприступных дворцах. – Это когда я утром захожу в ванную и обнаруживаю, что опять отключили воду, потому что эти идиоты в который раз взялись чинить свои трубы…
– Ах, заявление – это всего лишь жалоба, – снижая отцовский пафос, отмахнулся Миха, а госпожа Куппиш снизила пафос еще больше:
– Жалоба? Да какая там жалоба? Это только называется так! Можно подумать, будто мы и вправду жалуемся!
– Ясное дело, жалуемся, – стоял на своем господин Куппиш.
– Да нет! – решительно заявила госпожа Куппиш. – Мы сигнализируем… доводим до сведения… обращаем внимание… выражаем озабоченность… наконец, ходатайствуем, просим… Но чтобы жаловаться?Мы? Никогда!
Дядюшка Хайнц приходился братом госпоже Куппиш и тоже жил на Солнечной аллее, правда, на другом, длинном ее конце. И осознавал свой долг западного дядюшки перед восточными родственниками.
– Глядите-ка, что я вам провез, – с миной заговорщика конспиративным полушепотом заявлял он всякий раз с порога вместо приветствия. Ибо все, что привозил дядя Хайнц, было не привезено, а провезено. Небольшие шоколадки он засовывал себе в носки, а упаковку маленьких, из упругого мармелада, «резиновых медвежат» прятал в кальсонах. С подобной «контрабандой» его ни разу не застукали. Тем не менее, на границе его неизменно прошибал пот.
– Хайнц, это же все разрешено, – наверно, уже в сотый раз объяснял ему Миха. – Медвежат провозить можно!
Миха мечтал, чтобы дядя привез ему с запада пластинку. Конечно, не сразу «Moscow, Moscow», но, может, хотя бы «The Doors». Однако Хайнцу подобные акции казались слишком рискованными. Он знал, что бывает за контрабанду:
– Двадцать пять лет Сибири! Двадцать пять лет Сибири за полкило кофе!
Миха только головой тряс.
– Знаю я эту историю. Ты спутал, дядя: полгода Сибири за двадцать пять кило кофе.
Даже игрушечные автомодели – и те внушали дядюшке опасения.
– Нет-нет, получается, я показываю вам, какие у нас делают автомобили. Да за такое с ходу статья, погоди, как же это у них называется? Пропаганда низкопоклонства перед классовым врагом, вот! – кричал он. – Или, если я привезу миленькую такую маленькую полицейскую машинку, они еще, чего доброго, начнут мне шить умиление и умаление классового врага! Чтобы я из-за этого в Сибирь на лесоповал угодил, нет уж, дудки! Но чего ради ты все время просишь эти дурацкие автомобильчики?
И в самом деле, дались же Михе эти игрушечные автомобильчики!
Всякий раз, когда приезжал Хайнц, господин Куппиш принимался колдовать над раздвижным столом. Хотя раздвинуть его не мог. Тем не менее, он не уставал утверждать, что раздвижной стол – очень практичная вещь. И даже рукоятку, с помощью которой якобы можно варьировать высоту стола, господин Куппиш находил чрезвычайно практичной. Он, впрочем, считал, что и складные велосипеды весьма практичны, и складывающиеся из двух половинок зубные щетки. Всякое уродство, сулившее экономию места, удостаивалось от господина Куппиша похвалы за практичность. Неунывающий оптимизм, с которым он хватался за все свои практичные предметы, отдавал, пожалуй, чем-то вроде религиозного фанатизма.
– Это делается в два счета, – заявлял он всякий раз. И в два счета терпел очередное фиаско.
Усевшись посреди крохотной квартирки в огромное кресло, Хайнц, оглядевшись по сторонам, с неизменным вздохом заявлял:
– Это же чистой воды камера смертников!
Когда-то, много лет назад, он обнаружил за батареями центрального отопления асбестовые плиты и возопил:
– Асбест! У вас асбест! От него бывает рак легких!
Господин Куппиш, который само слово «асбест» слышал впервые, отозвался незамедлительно:
– Я напишу заявление!
Госпожа Куппиш запричитала:
– Только осторожно, Хорст, умоляю, осторожно!
Господин Куппиш, как водится, никакого заявления не написал, и об асбесте постепенно все забыли, хоть дядюшка Хайнц при каждом визите не уставал напоминать о нем вздохом и присказкой: «Это же чистой воды камера смертников!» Мысленно сравнивая своих предков с четой Розенбергов в нью-йоркской тюрьме Синг-Синг, Миха иногда даже пытался вообразить, какое зрелище являли бы его предки в камере смертников. (Фазер, наверно, и на электрическом стуле еще кричал бы: «Я напишу заявление! Учтите, я невиновен!»)
Однажды Хайнц «провез» для госпожи Куппиш туфли, набитые для конспирации старыми газетами, и господин Куппиш, с любопытством расправив на столе смятую страницу из «Бильда», углубился в чтение. Внезапно он побелел.
– Смотрите, – прошептал он, указывая на жирный заголовок:
«СМЕРТЬ ПОСЛЕ ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ МУКИ! УБИЙЦА-АСБЕСТ НАГРАЖДАЕТ РАКОМ!»
– Камера смертников! – взвился дядя Хайнц. – Что я вам говорил!
Госпожа Куппиш принялась вычислять.
Господин Куппиш, Миха и Сабина приняли в ее вычислениях живейшее участие.
– Мы сюда въехали…
– Погоди-ка…
– Ну да… как раз пятнадцать…
– Да нет, раньше…
– Ничего не раньше! Если отбросить время, когда мы уезжали в отпуск…
– И когда нас не было дома… Миха, Сабина, вы ведь тоже по шесть часов в день в школе болтались.
– Получается… Как раз почти пятнадцать лет.
Пятнадцать лет! На столе лежала жеваная страница из газеты «Бильд», где жирным черным по грязновато-белому было написано: убийца-асбест награждает раком и за пятнадцать лет сводит человека в могилу.
– Я напишу заявление, – произнес господин Куппиш дрогнувшим голосом.
– Только осторожно, Хорст, умоляю, осторожно! Не вздумай писать, откуда у тебя эти сведения. Сам подумай, разве они позволят Мише учиться в Москве, если мы беспрерывно будем писать жалобы?
– Он собирается учиться в Москве? – возмущенно воскликнул Хайнц. – Да ему в Гарвард надо, в Оксфорд, в Сорбонну! После России кем он станет? Всю жизнь или с автоматом под мышкой, или с гирей на ноге.
– Хайнц, только не при мальчике, – зашипела госпожа Куппиш.
Между тем Миха вовсе не рвался учиться в Москве, за него мать так решила. В семье подобные решения всегда принимала она. Чтобы поехать учиться в Москву, Михе надо было в последний год попасть в подготовительный класс специальной школы, которую народная молва давно окрестила «красным монастырем». А чтобы попасть в «красный монастырь», ему полагалось быть юношей во всех отношениях безупречным. Это значит – безупречно учиться на круглые пятерки, иметь безупречную цель в жизни и безупречные политические взгляды, выказывать безупречную активность и безупречное прилежание, дружить с безупречными друзьями и происходить из безупречной семьи.
– Нам всем нужно беречь нашу без-уп-речную репутацию, – отчеканила госпожа Куппиш, которая знала, что говорит. – Хорст! Отныне ты больше не читаешь «Берлинер цайтунг», ты читаешь «НД».
– Как так «НД»? Она такая огромная!
– Именно. Сразу все и заметят.
– Да нет, при нашей тесноте, скажи на милость, как я ее тут за столом разверну?
– А ты садись к окну и читай там. И когда люди из органов явятся к нашим соседям про нас расспрашивать, те скажут: у них читают «НД». И все будет в ажуре: Мишу примут в «красный монастырь» и он поедет в Москву учиться.
– Люди из органов к нашим соседям не явятся,потому что наши соседи самилюди из органов, – провозгласил господин Куппиш.
– Ну да, тебе же всегда все известно, – отозвалась госпожа Куппиш.
– Еще бы мне это было не известно! Когда я своими глазами видел: им их «вартбург» за неделю починили и обратно пригнали. Ну? Как еще ты это объяснишь?
В итоге Миха однажды, повстречав соседа на лестнице, напрямик спросил, где он работает. Сосед смерил Миху взглядом, давая понять, что некоторые вопросы задавать неприлично. Миха в ответ прикинулся дурачком и начал оправдываться:
– Вы не подумайте, я ради себя спрашиваю, мне же профессию выбирать. И когда я вижу, что человек только в половину девятого на работу уходит, а жена его весь день дома сидит… Понимаете, и высыпаешься, и вдвоем на жизнь хватает, вот бы и мне что-то в этом роде…
Ясное дело, сосед ничего ему не ответил.
А Миха и вправду не знал, кем ему стать. Болтаясь на площадке, он слушал, как Очкарик с Марио дискутируют на свою новую излюбленную тему. Очкарик обнаружил, что после школы, судя по всему, невозможно подыскать высшее учебное заведение, где образование было бы лишено политической направленности – а если такого заведения нет, к чему тогда вообще заканчивать школу?
Марио: – А насчет архитектуры как?
Очкарик: – Строить дома, как партия прикажет?
Очкарик успел разузнать, что даже на историческом факультете, на отделении древнейшей и древней истории, от политики никуда: тебе вдалбливают, как человек с первобытнообщинных времен мечтал о партийном руководстве.
Впрочем, дискуссии эти, как правило, обрывались, едва со стороны границы, от контрольно-пропускного пункта, показывался автобус с западными туристами, пожаловавшими на восток. Миха и Марио мчались навстречу автобусу и, вытаращив глаза и по-нищенски простирая руки, истошно блеяли: «Голодаем! Помогите!»
Туристы, потрясенные нищетой и народными бедствиями за железным занавесом, выхватывали фотоаппараты, торопясь запечатлеть ужасающие картины голода, а Миха и Марио, проводив автобус глазами, хохотали до упаду, представляя, как где-нибудь в Питтсбурге, Осаке или Барселоне незнакомые люди разглядывают их физиономии на фотоснимках. Остальные ребята с площадки в этих игрищах участия не принимали. Зато Миха с Марио упражнялись в своей художественной самодеятельности все изощреннее – сгибались в три погибели, исступленно рылись в урнах, изображали голодные обмороки или устраивали потасовку из – за капустного листа, оброненного перед овощным магазином. Разумеется, они-то надеялись спектаклем «Голодаем! Помогите!» когда-нибудь рассмешить Мирьям, а может, даже вызвать ее восхищение, но, как назло, автобус с западными туристами проезжал через границу, когда Мирьям поблизости не оказывалось.







