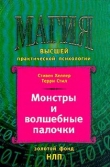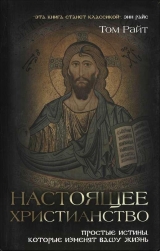
Текст книги "Настоящее христианство"
Автор книги: Том Райт
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Каким же образом происходит это поклонение?
* * *
Прежде всего, христианское поклонение – это изумленная хвала Богу Творцу. И потому, прославляя Бога, мы снова и снова пересказываем, самыми разными словами, историю творения и нового творения. Но если мы не слишком прилежны, такое поклонение может стать тривиальным и сентиментальным: мы просто радуемся тому миру, какой он есть. Мудрое христианское поклонение включает в себя осознание того факта, что творение устремилось совершенно не туда, что оно испорчено и отравлено, так что через все творение проходит ужасная трещина – как и через нас самих, носителей образа Божьего, призванных заботиться о мире. Вот почему христианское поклонение включает в себя прославление вмешательства Бога в прошлом в Иисусе Мессии и обетования о том, что начатое им дело будет завершено. Другими словами, как мы это видели в 4 и 5 главах Откровения, поклонение Богу Творцу всегда сопровождается и завершается поклонением Богу Искупителю, который возлюбил и спас мир. И тогда христиане рассказывают историю о спасательной операции Бога наряду с историями о творении. Причем история спасения здесь именно становится историей избавления и обновления творения.
Пересказ историй, воспоминание о великих деяниях Бога – вот что составляет самую суть христианского поклонения. Об этом часто забывают во время горячих и спонтанных богослужений, которые практикуются сегодня в некоторых церквах. Мы знаем Бога через Его деяния: через то, что Он совершил при сотворении мира, в Израиле и особенно в Иисусе, и через то, что Он делает в мире через Святого Духа. Христиане прославляют именно этого Бога, который совершил именно эти дела. И, разумеется, мы находим описание этих событий в Писании, в Библии.
В свое время нам еще придется поговорить о Библии подробнее, а сейчас я хочу сказать довольно простую вещь: чтение Библии вслух всегда занимало и занимает важнейшее место в практике христианского поклонения. И когда мы по любым причинам отказываемся от этого: опускаем чтения, чтобы сделать службу короче, или поем библейские стихи, превращая их в музыкальный номер, или читаем лишь те несколько стихов, о которых намерен говорить проповедник, – мы упускаем нечто важное. Мы читаем Писание вслух не для того, чтобы передать информацию или напомнить прихожанам о каких–то библейских отрывках или темах, о которых они почти забыли. И это не просто отправная точка для проповеди, хотя слова проповедника о прочитанных отрывках часто совершенно уместны. Но когда мы читаем Писание за богослужением, мы делаем это в первую очередь для того, чтобы прославить Бога и то, что Он совершил.
С чисто практической точки зрения сегодня, во временных рамках богослужений большинства нынешних церквей Запада, за одну службу невозможно прочесть более одной–двух глав Писания. Но это не должно нам мешать понимать, что именно мы делаем. Каждый раз, когда мы собираемся для поклонения, за каждой «службой» мы славим всю целиком историю творения и искупления. Разумеется, мы не сможем прочесть всю Библию за одну службу. Но мы можем и должны прочитать не менее двух библейских отрывков, и хорошо бы один из них был из Ветхого Завета.
Приведу такую аналогию. Я сейчас нахожусь в комнате с довольно маленькими окнами. Если я встану с другой стороны комнаты, то увижу лишь небольшой кусочек внешнего мира: часть противоположного дома и немножко неба. Но если я приближусь к окнам, то могу увидеть деревья, поля, животных, море, отдаленные холмы. Два–три кратких библейских чтения – это как бы окна, на которые ты глядишь с противоположного конца комнаты. Мы можем увидеть через них довольно мало предметов. Но чем лучше мы знаем Библию, тем ближе мы стоим к окнам, так что, хотя окна не становятся больше, мы можем окинуть взглядом весь библейский пейзаж.
И потому в центре даже самых простых актов христианского поклонения должно стоять чтение Писания. Иногда служба позволяет собравшимся поразмышлять над библейскими отрывками. Иногда у них есть возможность дать на эти фрагменты свой отклик, церковь накопила богатые запасы соответствующего материала, часто также взятого из Библии: тексты песнопений или слова, которые позволяют христианам отозваться на услышанное, продолжая благодарить за это Бога. Именно так создается основа богослужения, которое представляет собой «витрину» для Писания, окружение, показывающее, что мы относимся к Библии со всей надлежащей серьезностью. Если хорошее вино наливают в пластиковый стаканчик, а не в бокал, который позволяет наслаждаться его цветом, ароматом и вкусом, мы обращаемся с вином не должным образом. То же самое можно сказать о Библии: если, когда это возможно, мы не создаем подходящего окружения, где ее можно услышать и где можно прославлять ее суть – рассказ о могучих делах Творца и Искупителя, – мы не оказываем ей должного почтения.
Разумеется, когда мы хотим пить и у нас есть только пластиковый стаканчик, мы пьем из него. И порой (скажем, на пикнике) мы можем сознательно отказаться от стекла в пользу пластика. Лучше поклоняться Богу хотя бы и хаотичным образом, чем не поклоняться вообще. Но в обычных условиях мы все же будем пить вино из бокалов.
В частности, с самых древних времен христиане использовали Псалтирь. Это неисчерпаемое богатство, так что псалмы можно читать про себя и вслух, петь, шептать, заучивать наизусть и даже провозглашать с крыш. Они выражают весь спектр переживаний, с которыми мы сталкиваемся или которые, можно надеяться, нас не коснутся, и открыто приносят свои чувства, естественные, такие как есть, в присутствие Бога, как охотничья собака приносит своему хозяину все странные предметы, которые находит на поле. «Посмотри! – восклицает псалмопевец. – Вот что я нашел сегодня! Разве это не удивительно? Что ты намерен делать со всем этим?»
Псалмы соединяют такие понятия, которые часто кажутся нам полными противоположностями перед лицом Бога. Они с легкостью переходят от тесных отношений любви к ужасу и трепету и возвращаются назад. Они соединяют жесткие и яростные вопросы с простым и тихим доверием. Это – широкий спектр переживаний: от кротких размышлений до бурного неистовства, от плача и мрака отчаяния до торжества священного праздника. Если мы пойдем от вопля, которым начинается псалом 21 («Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?»), к его заключительным словам, где Бог услышал молитву и ответил на нее, а затем сразу начнем читать исполненный спокойного доверия и убежденности псалом 22 («Господь – Пастырь мой»), мы увидим, что прошли путем удивительного умиротворения. Мы обретаем мудрое и здравое равновесие, когда от напыщенного триумфализма псалма 135 («Поразил царей великих, ибо вовек милость Его; и убил царей сильных, ибо вовек милость Его», где все время звучит небольшой рефрен как радостное восклицание торжества после каждого стиха) переходим к полному краху псалма 136 («При реках Вавилона, там сидели мы и плакали»).
Разумеется, мы никогда не поймем всего, что есть в Псалтири. Конечно, для нас останутся загадки и проблемы. Некоторые церкви, некоторые общины и некоторые христиане найдут там такие места, которые они не в силах произносить с чистой совестью, в частности, те строки, которые наполнены горькими проклятиями в адрес врагов. Здесь приходится принимать решения на каждом шагу. Но ни одно христианское собрание не должно отказываться от постоянного и вдумчивого использования Псалтири. Великая трагедия современного богослужения состоит в том, что здесь мы имеем зияющую пустоту. И это вызов для нового поколения создателей и исполнителей музыки. Это также вызов и некоторым традициям, включая мою, где Псалтирь всегда стояла в центре богослужения: правильно ли мы пользуемся этой книгой? Углубляемся ли мы в нее все больше и больше или же просто ходим около нее кругами?
Таким образом, Библия – это одно из главных блюд в меню христианского поклонения, а не просто основа христианского вероучения. Однако одна знаменитая история в Писании со всей ясностью говорит о том, что даже Писание не стоит здесь в самом центре. Когда воскресший Иисус встретился с двумя учениками на дороге в Эммаус, их сердца загорелись в тот момент, когда он разъяснял им Библию. Но их глаза открылись, так что они узнали Иисуса, тогда, когда он преломлял хлеб.
* * *
Трапеза Господня, Причастие, Евхаристия, Месса – эти слова звучат для нас как детские стишки «царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной». Прежде всего, следует сказать, что названия здесь совершенно не важны. Да, в прежние времена этот вопрос был поводом для великих богословских, культурных и политических сражений: как понимать слова и действия во время службы с преломлением хлеба (если использовать нейтральное название) и к какой категории отнести саму службу. Это время прошло. Большинство христианских церквей на протяжении последних нескольких десятилетий стихийно сблизились в понимании того, что происходит во время главной христианской службы, что она значит и как в ней лучше участвовать. Хотя некоторые проблемы с пониманием еще остаются. Я надеюсь, что в этой главе мы сделаем шаги к прояснению некоторых из них.
Прежде всего, я хочу сказать о трех важных вещах. Во–первых, мы преломляем хлеб и пьем из чаши, вспоминая историю жизни и смерти Иисуса, потому, что так повелел нам Иисус: «Делайте это в воспоминание обо Мне». Здесь все просто. Более того, мы можем понять, почему он это нам заповедал: потому что эти действия объясняют смысл его смерти лучше, чем что–либо иное. Это не теория: Иисус умер за наши грехи, чтобы нас спасти, а не за то, чтобы дать нам верные представления о чем–либо, хотя верные представления и важны.
Во–вторых, это не просто нечто вроде симпатической магии, чего опасались подозрительные протестанты. Это действие, подобно символическим действиям древних пророков, становится той точкой, где небо пересекается с землей. Павел говорит: «Всякий раз, как вы едите этот хлеб и пьёте чашу, – вы смерть Господа возвещаете, пока Он не придет» (1 Кор 11:26). Павел не говорит, что это удобный момент для произнесения проповеди. Подобно рукопожатию или поцелую, здесь само действие что–то сообщает.
И потому, в–третьих, преломление хлеба – это не просто повод вспомнить о том, что случилось в глубоком прошлом (иногда подозрительные католики приписывают такое понимание протестантам). Когда мы преломляем хлеб и пьем вино, мы присоединяемся к ученикам Иисуса в горнице на Тайной вечере. Мы соединяемся и с самим Иисусом, молящимся в Гефсиманском саду или стоящим перед Кайафой и Пилатом. Мы становимся едины с ним, висящим на кресте и восстающим из гробницы. Прошлое и настоящее соединяются. Событие двухтысячелетней давности становится трапезой, которую мы разделяем здесь и сейчас.
Но не только прошлое входит здесь в настоящее. Преломление хлеба – это один из тех моментов, когда тонкая перегородка, отделяющая небо от земли, становится проницаемой, а потому именно здесь Божье будущее врывается в настоящее. Как дети Израиля, все еще блуждающие по пустыне, могли отведать плодов Обетованной земли, которые принесли шпионы после своей секретной экспедиции, так и мы, преломляя хлеб, можем ощутить вкус Божьего нового творения – того нового творения, прототипом и родоначальником которого стал сам Иисус.
Отчасти этим объясняются его слова: «Это есть тело Мое» и «Это есть кровь Моя». Чтобы это понять, нам не нужны сложные метафизические теории с длинными латинскими терминами. Иисус – реальный и живой Иисус, который пребывает на небесах и господствует над землей, Иисус, который внес Божье будущее в настоящее, – этот Иисус хочет не просто влиять на нас, но избавить нас; не просто дать нам знания, но исцелить нас; не просто дать нам темы для размышления, но дать нам пищу, напитать нас самим собой. Вот в чем значение этой трапезы.
Величайшая проблема протестантских церквей в отношении этой трапезы заключается в идее, что это «доброе дело», которое люди «исполняют», чтобы снискать благорасположение Бога. Некоторые протестанты до сих пор относятся таким образом к любому «делу» в церкви, хотя, если мы не сидим молча и неподвижно, мы неизбежно «делаем» что–нибудь во время совместного поклонения. И даже если мы выберем молитву в молчании, как это делают квакеры, это все равно остается общим делом: люди собираются и хранят молчание. Разумеется, всегда существует опасность забыть о смысле общего действия, так что оно становится каким–то самодостаточным ритуалом. Вспомним опять о бокалах и пластиковых стаканчиках: в некоторых церквах хранятся самые лучшие (если можно так выразиться) бокалы для вина из тех, что они могли себе позволить приобрести, но никого уже не заботит качество вина. А одновременно есть церкви, которые так гордятся тем, что отказались от бокалов и перешли на дешевые стаканчики, что в них также люди больше думают о внешних формах, чем о подлинном смысле происходящего.
Так что опасность здесь, как можно понять, заключается не в «католическом стиле» ритуала. Люди могут забыть о главном, когда слишком много думают о том, в какой момент и каким образом правильно сотворить крестное знамение, но то же самое происходит и тогда, когда они озабочены тем, чтобы все воздевали руки во время молитвы или чтобы никто не творил крестного знамения, не воздевал рук и не делал каких–то еще жестов. Однажды я столкнулся с таким явлением: в одной церкви прихожане отказались от хора с его одеяниями и органиста, которые казались им «слишком профессиональными», а вместо этого задействовали полдюжины людей, которые во время службы нажимали на кнопки и перемещали движки, чтобы контролировать звук, освещение и изображение на экране. Все, что мы делаем во время службы, может стать ритуалом, обладающим самостоятельной ценностью. А одновременно, все, что делается во время службы, может стать чистым актом благодарности и радостным ответом на дар благодати.
Теперь нам будет легче понять, что имеют в виду представители некоторых христианских традиций, которые называют службу преломления хлеба «жертвой». Долгое время это слово вызывало споры, участники которых делали две главных ошибки. Во–первых, многие предполагали, что, принося ветхозаветные жертвы, люди пытались что–то «сделать», чтобы снискать расположение Бога. Это неверно. За таким представлением стоит неправильное понимание иудейского Закона, где жертвоприношений требовал сам Бог, а жертва была знаком благодарности, а не попыткой подкупить или задобрить Бога. Разумеется, мы не знаем, о чем думал каждый древний иудей, приходивший поклониться Богу. Но жертвоприношения были не средством давления на Бога, но давали возможность ответить на Его любовь.
Во–вторых, бесконечные запутанные споры шли вокруг вопроса о взаимоотношениях между службой преломления хлеба и жертвой, принесенной Иисусом на кресте. Католики нередко говорили, что это тождественные вещи, а протестанты видели в этом попытку повторить то, что произошло один–единственный раз и никогда уже не повторится. Обычно протестанты говорили, что преломление хлеба – это иная жертва, а не та, что принес Иисус (например, что это «жертва хваления», которую приносят собравшиеся), а католики видели здесь попытку добавить нечто новое к уже совершившейся жертве Иисуса, которая (как они могли бы сказать) «сакраментально» присутствует в хлебе и вине.
Я думаю, что мы можем выйти из тупика этих бесплодных споров, если поставим поклонение в контекст более масштабной картины неба и земли, Божьего будущего и нашего настоящего, помня о том, что эти вещи сходятся в Иисусе и в Святом Духе. Согласно библейским представлениям (которые современное мышление не столько опровергает, сколько просто игнорирует) небо и земля пересекаются в особые моменты и в особых местах, а особенно там, где присутствуют Иисус и Дух. Подобным образом в некоторые моменты и в некоторых местах Божье будущее и Божье прошлое (то есть такие события, как смерть и воскресение Иисуса) входят в настоящее – как если бы ты сел за трапезу и вдруг увидел, что за твоим столом сидят твои прапрадеды и твои праправнуки. Так действует Божье время. Именно потому христианское поклонение такое, какое оно есть.
Я думаю, что эта картина дает нам нужные рамки и для любых размышлений о поклонении, и для любых споров христиан о таинствах. Все прочее – это примечания, темпераменты, традиции и – будем реалистами – личные симпатии и антипатии (так я их называю, когда встречаю их в самом себе) и иррациональные предрассудки (так я назову их, если встречу у вас). И здесь две великих заповеди Закона (любовь к Богу и любовь к ближнему) подскажут нам, что делать. Как христиане мы должны быть готовы проявлять милосердие и терпение. И нам не следует лишать себя и наши церкви возможности полноценно совершать важнейший акт христианского поклонения, превращая эту трапезу в повод для ссор.
* * *
В этой главе я говорил о совместном поклонении христиан в церкви. С самого начала было ясно, что христианство – это совместное дело. Но одновременно с этим авторы первых веков считали, что каждый отдельный член Тела Христова должен бодрствовать и жить своей верой, знать, за что он отвечает, и реализовывать в своей жизни то, что дает ему поклонение. Таким образом, когда христиане собираются вместе, каждый приносит сюда свою радость и боль, свои озарения и нерешенные проблемы.
И потому каждый христианин и, если это возможно, каждая христианская семья должны освоить личное поклонение и поклонение в малых группах. И здесь должны действовать те же самые принципы, разумеется, с учетом многообразных местных особенностей. Здесь важнее всего не то, как мы это делаем, но сам тот факт, что мы это делаем. Вспомним снова главы 4 и 5 Откровения. Все творение поклоняется Богу. И мы не должны оставаться наблюдателями, подобно мухам на стене, но мы призваны присоединиться к общему хору. Как мы можем от этого отказаться?
12. Молитва
Отче наш, Который на небесах!
Да святится имя Твое.
Да придет Царство Твое.
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Хлеб наш насущный дай нам сегодня.
И прости нам долги наши, как и мы простили
должникам нашим.
И не введи нас во искушение.
Но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава
во веки. Аминь.
Я хорошо знаю, что разные христиане здесь предпочли бы немного разные переводы. Я привык к традиционному переводу, который повторял с детства, но мирюсь и с другими. Здесь есть проблемы: три греческие версии этой молитвы (у Матфея, у Луки и в раннехристианском литературном произведении под названием «Дидахе») не совсем совпадают, их трудно перевести слово в слово на современные языки, а переводы не могут точно передать духа арамейской молитвы, которую, вероятно, произносил сам Иисус.
Но снова можно сказать: это неважно. Поверхностный шум не должен отвлекать нас от главного.
Лучше обратимся к ее содержанию. Это молитва о чести и славе Бога. Это молитва о наступлении Божьего Царства и на земле, как на небе, – как мы могли увидеть, это во многом кратко выражает самую суть христианства. Это молитва о хлебе, о наших повседневных нуждах. И это молитва об избавлении от зла. Каждая ее строчка отражает то, что делал во время своего служения сам Иисус. Это не расплывчатая молитва обобщенному «божеству». И это даже не типичная иудейская молитва (хотя практически для каждого ее элемента можно найти параллели в молитвах иудеев того времени). Эта молитва, если можно так сказать, на которой остался отпечаток Иисуса.
В конце концов, именно Иисус ходил, провозглашая, что пришло время воздать должную честь имени Отца, пришло время наступления Его Царства и на земле, как на небе. Это Иисус накормил толпу в пустыне хлебом. Это Иисус прощал грешников и призывал своих учеников поступать так же. Это Иисус сознательно вступил в «искушение», в великое испытание, которое, подобно гигантской волне цунами, должно было обрушиться на Израиль и на весь мир, и, приняв всю его мощь на себя, он избавил от него других. И это Иисус установил Божье Царство, облекся Божьей силой и умер и воскрес, чтобы отразить Божью славу. «Молитва Господня», как мы ее называем, прямо связана с тем, что Иисус делал в Галилее. И затем – в Гефсимании. И она прямо смотрит на то, чего Иисус достиг своей смертью и воскресением.
Таким образом, мы, произнося эту молитву, говорим Отцу: Иисус поймал меня в сеть (этот образ он сам употреблял) Благой вести. Я хочу примкнуть к этому движению за Царство. Меня влечет путь жизни Иисуса, в котором небо соединяется с землей. Я хочу участвовать в программе Иисуса «хлеб – миру» ради самого себя и ради других. Я нуждаюсь в прощении – моего греха, моих долгов, всего, что висит на моей шее, – и я хочу давать это же прощение другим. (Обратите внимание на то, что в середине молитвы мы даем обещание жить определенным образом, что не слишком легко.) И поскольку я живу в реальном мире, где зло все еще обладает властью, мне нужна защита и избавление от него. И через все это я признаю и прославляю Царство, силу и славу Отца.
Эта молитва содержит большинство из вещей, о которых нам нужно молиться. Как и притчи Иисуса, она невелика по объему, но удивительно широка по охвату. Некоторые произносят ее медленно, останавливаясь на каждой фразе, чтобы принести Богу конкретные лежащие на сердце проблемы из соответствующей категории. Другие люди начинают или заканчивают ею свою продолжительную молитву, так что «Отче наш» или создает контекст, или дает резюме для всей молитвы. Некоторые медленно повторяют ее много раз и открывают, что они начинают глубже понимать любовь Бога и чувствовать Его присутствие, что они как бы входят в то место, где небо пересекается с землей и где действует сила Евангелия, дающая хлеб, прощение и избавление. Неважно, как мы ее используем, важно ее использовать. Начните и посмотрите, куда это начинание вас приведет.
* * *
Христианская молитва проста, так что слова «Отче наш» может произносить даже ребенок. Но она предполагает выполнение нами многих требований, что мы понимаем по мере углубления в нее. Агония псалмов достигает своей наивысшей точки в Гефсимании, где Иисус со слезами и в кровавом поту ведет мучительный диалог со своим Отцом о завершающем шаге своей жизни и своего призвания. В результате он оказался на кресте, где мог произнести лишь слова отчаяния, первые строки псалма 21 («Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?») – выразив этим воплем, внушенным Богом, свою богооставленность. И когда Иисус призывал нас взять свой крест и последовать за ним, он, несомненно, подразумевал, что и мы будем переживать подобные моменты.
Мы призваны жить в месте пересечения неба и земли – земли, которая еще ожидает своего полного искупления в будущем, – и в месте пересечения Божьего будущего с нашим настоящим. Мы как бы рказались на маленьком острове в зоне, где со скрежетом сталкиваются великие тектонические плиты: небо и земля, будущее и настоящее. Так что нам следует готовиться к землетрясению. Когда Павел произносит свои величайшие слова о Духе и грядущем обновлении всей вселенной, он, посреди этих рассуждений, говорит, что мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой, Дух самого Бога, ходатайствует за нас, как то угодно Богу. Этот небольшой текст (Рим 8:26–27) крайне важен и по своему содержанию, и по тому, где он находится в Послании. Все Божье творение стонет в родовых схватках, ожидая рождения нового мира из своей утробы. И церковь, Божий народ в Мессии, также участвует в этом, так что и мы стонем, ожидая искупления. (За несколько стихов до того Павел говорил об участии в страданиях Мессии. Может быть, он при этом думал о Гефсимании?) Самая характерная черта христианской молитвы заключается именно в том, что мы оказались в месте пересечения двух веков, почувствовали себя творением, мучительно ожидающим нового рождения.
И это удивительное новое обетование, которое решительно отделяет христианскую молитву от любых признаков пантеизма и деизма, а также подобных им учений, заключается в следующем: через Духа сам Бог стонет в сердце нашего мира, потому что сам Бог своим Духом пребывает в наших сердцах, отзывающихся на боль мира. Это не пантеистический путь установления контакта с сущностью мира. Это удивительный новый путь встречи с живым Богом, который творит новое и который в Иисусе вошел в гущу этого мира именно потому, что в нем не все в порядке (чего не способен признать пантеист) и его надо исправить, и теперь, через своего Духа, приходит туда, где мир погружен в боль (чего не может понять деист), чтобы в нас и через нас, молящихся во Христе Святым Духом, вознести стон всего творения к Отцу, испытующему сердца (Рим 8:27), который все обращает ко благу любящих его (Рим 8:28). Вот что значит «быть подобными образу Сына» его (стих 29). Вот что значит, живя еще в нынешнем веке, участвовать в Божьей славе (стихи 18, 30).
Это объясняет, почему христианская молитва обретает свой смысл только в таком мире, где небо пересекается с землей. И мы можем подробнее рассмотреть картину, набросок которой был представлен ранее, чтобы понять, как молитва в рамках христианского мировоззрения отличается от молитвы в рамках двух важнейших альтернативных вариантов.
Для пантеиста, опирающегося на первый вариант ответа, молитва – это просто созвучие глубинным понятиям в нашем мире и в нас самих. Божественное присутствует везде, в том числе – в нас. Поэтому в такой молитве пантеист не обращается к кому–то еще, обитающему в другом месте, но просто открывает для себя внутреннюю истину, которую можно найти в собственном сердце или в спокойных ритмах природы. Вот что такое пантеистическая молитва. Она (как мне кажется) куда здоровее, чем многие молитвы язычников, когда человек стремится призвать, умиротворить, упросить или подкупить бога морей, бога войны, бога реки или бога брака, чтобы добиться определенного успеха или избежать неприятностей. Молитва пантеиста выглядит куда достойнее. Но это, тем не менее, вовсе не христианская молитва.
Для деиста, опирающегося на второй вариант ответа, молитва – обращение к божеству, находящемуся далеко, отделенному от нас вакуумом. Это величественное существо может нас услышать, а может и не услышать. Оно, быть может, не склонно или даже не в силах сделать для нас или для нашего мира что–то значимое, даже если бы того пожелало. Так что, если последовательно придерживаться второго варианта, можно только попытаться отправить ему сообщение, как моряк, попавший на необитаемый остров, отправляет письмо в бутылке в надежде, что кто–нибудь его найдет и прочтет. В такой молитве может заключаться немало любви и надежды. Но это не христианская молитва.
Разумеется, в иные минуты молитва в рамках иудейской и христианской традиций приобретает великое сходство с молитвой в рамках второго варианта, примеры таких молитв мы можем найти в Псалтири. Однако псалмопевец, ощущающий пустоту там, где должно обитать Присутствие, не может спокойно смириться с этим как с обычным положением вещей. Он начинает на это жаловаться, он подпрыгивает от нетерпения. «Восстань, YHWH»! – взывает он, как человек, который хочет разбудить спящего на постели друга. (Именно так ученики взывали к Иисусу, когда тот спал в лодке во время бури.) «Пора встать и что–то сделать с этими ужасным миром!»
Но вся суть христианской истории, которая стала кульминацией истории иудейской, состоит в том, что занавеску отодвинули, дверь открыли с той стороны, и теперь мы, подобно Иакову, смотрим на лестницу между небом и землей, по которой туда–сюда снуют вестники. «Царствие Небесное приблизилось», – говорит Иисус в Евангелии от Матфея: Иисус не предлагает новый способ попасть на небо в будущем, но возвещает, что власть неба, сама жизнь небес теперь по–новому вошла в жизнь на земле, и в этом соединились и лестница Иакова, и видение Исайи, и все озарения патриархов Израиля, и чаяния пророков – все они обрели форму человека, жизнь человека, смерть человека. Основанием третьего варианта ответа стал сам Иисус, и потому молитва обрела новую полноту. Небо и земля соединились навсегда на том месте, где Иисус стоит, где он распят, где он воскресает и где теперь дышит свежий ветер его Духа. Христианин живет в мире, который был изменен Иисусом и его Духом. И потому христианская молитва непохожа ни на молитву пантеиста, соприкасающегося с сущностью природы, ни на молитву деиста, который посылает свои сообщения в глубокую пустоту.
Молящийся христианин стоит на линии разрыва, подобно Иисусу, преклонившему колени в Гефсимании, который стонет в великой муке, пытаясь соединить небо и землю, как человек, пытающийся соединить два конца веревки, которые люди с двух сторон пытаются растащить. Молитва тесно связана с тройной идентичностью Бога, на которую мы изумленно взирали в части 2 этой книги. Неудивительно, что мы так легко бросаем молитву. Неудивительно и то, что нам здесь требуется помощь.
К счастью, эта помощь в самых разных ее формах нам вполне доступна.
* * *
Мы можем получить помощь от тех, кто уже опередил нас на этом пути. Проблема современного человека заключается в том, что мы стремимся все делать по–своему, опасаясь, что, если мы получим помощь от других людей, наша молитва не будет «подлинной», не будет исходить из сердца, и потому мы крайне подозрительно относимся к «чужим» молитвам. Мы здесь подобны женщине, которая способна почувствовать себя одетой должным образом лишь в том случае, если она сама создаст фасон своего платья и сама его сошьет, или человеку, который думает, что нелепо вести машину, которую он не сконструировал своими руками. Мы здесь стали жертвами, с одной стороны, наследия романтизма, с другой – экзистенциализма, так что мы думаем, что все настоящие вещи приходят к нам спонтанно и неожиданно и рождаются в глубине нашего сердца.
Иисус тоже говорил про то, что исходит из сердца, – это, быть может, «подлинные», но не слишком приятные вещи. Достаточно один раз вдохнуть свежий воздух иудаизма I века, чтобы разогнать смог поглощенного самим собой (и потому зараженного гордостью) поиска такой «подлинности». Когда последователи Иисуса попросили его научить их молиться, он не рассадил их по малым группам и не предложил им заглянуть в свои сердца. Он не сказал им: вспомните о своих переживаниях на протяжении жизни и узнайте, к какому типу личности вы относитесь, а также вступите в контакт с вашими сокровенными эмоциями. Как Иисус, так и ученики ясно понимали смысл вопроса: им было важно узнать, какими словами они должны, молиться. Иоанн Креститель дал своим ученикам такую молитву, то же самое делали и другие иудейские учителя, это же сделал и сам Иисус.