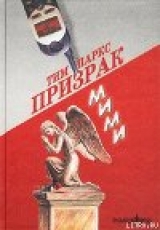
Текст книги "Призрак Мими"
Автор книги: Тим Паркс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Глава пятая
Мать Морриса увлекалась искусством. Папочка, напротив, из всех видов живописи признавал одну сортирную. Факт, конечно, чересчур банален, чтобы анализировать его с философской точки зрения. Но многие факты только кажутся банальными, потому что встречаются слишком часто. Точно так же любая карикатура несет в себе частицу подлинной правды. Вот и его история ничем не отличалась от тысяч других. А вы как думали? Именно эта затерянность среди людских толп, прозябающих в бескультурье, вносила болезненный оттенок в детские воспоминания Мориса. Но она же подчеркивала уникальность, проявившуюся в нем впоследствии.
Моррис тоже увлекся искусством. Мать приохотила его к чтению, рисованию, игре на скрипке. Правда, мало-мальски приличного рисовальщика из него не получилось: он всегда лучше умел ориентироваться во временной последовательности событий, чем создавать в пространстве композиции из предметов. Со скрипкой тоже ничего хорошего не вышло: как-то раз, когда музыкальные усилия Морриса совпали с особо тяжким похмельем отца, тот в ярости растоптал его дешевенький инструмент. Да и не таким уж нечаянным, откровенно говоря, было это совпадение. Зато глотать книги Моррису не могло помешать ничто. Он прочел, кажется, все, что выходило в популярной серии «Экшн лайбрери», начиная с «Истории города Ахена» и кончая не лишенными назидательности «Звездными часами человечества» Стефана Цвейга. (Дух еврейства порой неизъяснимо привлекал Морриса.) Папа бранился на чем свет стоит: дескать, только патентованные бездельники могут целыми днями торчать над книжкой; это, мол, единственный «род занятий», который им позволяет не запачкать рук. Моррис не мог не признать, что в словах родителя есть суровая правда, и это задевало его за живое.
Но больше им не придется обсуждать эти вещи. Нет, нет и еще раз нет! Никаких сеансов самооправдания перед диктофоном, ни за что. После быстро промчавшегося лета с Массиминой Моррису нет нужды доказывать, что он мужчина.
Из-за домашних затруднений ему приходилось предаваться своей страсти в читальном зале городской библиотеки, в обществе прилежных в ученье сикхов и безработных, мусоливших «Сан» или «Миррор» вместе с прочей иллюстрированной чепухой. О, блаженные дни… В то время знакомство Морриса с изобразительным искусством ограничивалось посещением провинциальных музеев. Да и то лишь, когда погода не манила на побережье несгибаемого папочку, – а иного способа проводить выходные их семья не знала. В большинстве же случаев он обматывался полотенцем поверх мокрых плавок и объявлял, что раз они сюда приехали окунуться, так тому и быть, хоть высокие волны, хоть сам черт. Материнские возражения переходили в плач, она тыкала то на тополя у кемпинга, согнутые штормовым ветром, то на бешено мчащиеся тучи, то на изморось на их окне – с видом на общественные туалеты, а в конце концов вспоминала про кашель и слабую грудь сына. И если супруг все-таки соглашался выждать, покуда откроются прибрежные пабы, вела мальчика в местную картинную галерею. Или, еще лучше, они с матерью садились в автобус и ехали в какое-нибудь имение неподалеку, где очередной сельский аристократ любезно разрешал им полюбоваться своими сокровищами. Не задаром, разумеется: культурное наследие требует должного ухода.
Лучше всего ему запомнились портреты с пустыми глазами на напудренных лицах, выглядывающих из тугих белых брыжей, и романтичные пейзажи с привкусом готического ужаса, которые, казалось, могли оставить равнодушными только пресыщенных богачей. Десятилетнему Моррису это нравилось. Он любил запах натертых паркетных полов, цветастую материю шезлонгов, высокие окна с бархатными шторами, подвязанными витым шнуром, и то, что за окнами – гладенькие, словно начищенные скребком пригорки с укромными прудами, полными рыбных деликатесов. Любил тишину и эхо в просторных интерьерах, чьи создатели явно ставили изобилие превыше практичности. Моррис чувствовал, что родился не в той семье.
И, сдается, вообще не в той стране. Когда умерла мать, вестсайдская жизнь сделалась ему настолько чуждой, что проводить выходные оставалось, лишь странствуя из музея Виктории и Альберта в Национальную галерею, из Британского музея в галерею Тейт… Постепенно неутомимый подросток начал понимать, что та разновидность прекрасного, которая ему всего дороже, не имеет ничего общего с героическим прошлым и славным климатом отчизны: его совсем не привлекали ни батальные полотна, запечатлевшие подвиги Веллингтона, ни этюды облаков Констебля, ни морские пейзажи Тернера. Нет, настоящий его идеал – Италия.
Окончательно он это осознал, разглядывая простенький триптих Чеспо ди Гарофано, изображавший Мадонну в окружении двух святых, Цецилии и Валериана. Осанка у всех троих была безукоризненной осанкой, но выглядели они при этом расслабленными и веселыми. И одеты были великолепно, хотя и без пуританской роскоши жестких корсетов и рюшей – для английской знати достойный вид был чем-то вроде добровольной пытки. Нет, эти итальянцы с удовольствием носили свои одежды – мягкие накидки голубого и алого цвета, сверкающие броши, изящные сандалии. А сколько страсти таили в себе глаза и губы! Пожалуй, в Мадонне этой скрытой страсти было не меньше, чем у двух других. Чувственность выражалась через формальный канон; предписанные нормы вырастали из духа чувственности. Так Моррис впервые догадался, что грубые плотские утехи папаши и религиозный пыл матери вовсе не обязательно должны находиться в непримиримом противоречии.
Кроме того, святой Валериан определенно напоминал внешне самого Морриса, только волосы были не светлые, а темные.
Так что, когда обстоятельства сговорились против него, – иначе не скажешь, поскольку пришлось убираться из Кембриджа – Моррис, естественно, направил стопы в Италию.
– Скажите, вам когда-нибудь случалось находить на картинах сходство с вашими знакомыми? – спросил он у Форбса, во второй раз объезжая Пьяцца-делла-Либерта.
Как обычно в этой сумбурной стране, найти место для стоянки оказалось невозможно. Забиты были и все тротуары, и середина площади, несколько машин даже приткнулись вплотную к автобусным остановкам. Но Моррис не собирался нарушать правила. Где-нибудь отыщется наконец паркинг, за который он заплатит с чувством выполненного долга.
– Что вы имеете в виду? – удивился тот.
– Ну, картина может напомнить вам человека, – которого вы хорошо знаете, который вам дорог.
– То есть портретное сходство?
– Вот именно, – ради поддержания беседы Моррису пришлось примириться с подобным извращением смысла своих слов, признать его не стоящим внимания пустяком.
– Это определенно не мой профиль в искусствоведении.
– Понимаю, совершенно с вами согласен. Ну, а просто из любопытства не искали знакомые лица на картинах? Жену, например?
– Нет, – отрезал Форбс. – Не находил и не искал никогда.
Моррис промолчал, обшаривая глазами наглухо забитые тротуары – асфальт двадцатого века под стенами изысканных палаццо эпохи Возрождения. Форбс не сводил с него пристального взгляда небольшими зеленоватых глаз. Тут зазвонил телефон.
Моррис был настолько поглощен красотой своих умозрительных построений и заботами о стоянке, что чуть не поднял трубку, но спохватился, вспомнив, что говорил Паоле о встрече с заказчиком в десять тридцать. Сейчас было уже десять минут одиннадцатого. Не такой он лопух, чтоб попадаться на мелочах.
Форбс ждал, ничего не говоря. После десятого сигнала и очередного круга по площади телефон умолк.
– А знаете, Моррис, презанятный вы малый, – заметил Форбс.
Польщенный Моррис, обернувшись, одарил его одной из самых очаровательных улыбок. Он почти физически ощущал, как сияют его голубые глаза под светлыми волосами – и, поддавшись бесшабашному анархизму, поставил машину прямо на пешеходной дорожке у Палаццо-деи-Синьори.
Галерея, бесспорно, была серьезной передышкой от уличных пейзажей. Но в то же время – их прямым продолжением, как обнаружил Моррис в одном из тех озарений, что неизменно доставляли ему такое удовольствие. Те же яркие краски здесь словно были заморожены в тусклом розоватом отливе мрамора, в молочной пене туфа. Чувственная аура, какую излучала толпа на площади, здесь застыла в вечном созерцании, будто легкая тень, отделенная кистью и резцом от бурной и подчас вульгарной жизни, кипевшей снаружи, став ее холодноватым подобием, очищенным от навязчивой похоти. Моррис решил побыть здесь подольше. Массимина находилась в восьмом зале на третьем этаже, но могла и обождать. Он свято верил, что отложенное удовольствие самое сильное.
После краткой отлучки в туалет Форбс взял Морриса под локоть и повлек по анфиладе Вазари в Зал Гермафродита. О, он был такой образованный, знал так много. Для начала Форбс предложил Моррису притронуться к гладкому бедру Аполлона, почувствовать объем мрамора и его живое тепло, телесную фактуру. Именно этому, сказал Форбс, он хотел бы учить молодежь – умению получать удовольствие от красоты и, самое главное, не бояться этого. Вот единственный способ постичь gratia placendi.
А это еще что такое? До чего же Моррису нравится латынь! Он провел рукой по мраморному колену, которое было почти столь же совершенным, как его собственное, лишь на прикосновение не реагировало.
– Благо наслаждения, – пояснил Форбс необычайно приподнятым тоном.
– Attenzione, signore! – Смотритель возник буквально из воздуха, жесткие пальцы стиснули локоть Морриса. – Non si tocca, руками нельзя. Или выведу! Так делать нехорошо. Capito?
Моррис обернулся. Ну почему представители власти всегда приводят в такое замешательство? Как будто его поймали на чем-то непристойном. Мучительно захотелось сбежать куда глаза глядят. И тут он вспомнил, что собирался отправить в «Доруэйз» факс с подтверждением заказа. Поездка была безнадежно испорчена, бережно взлелеянный настрой рухнул.
– Филистерская душонка ищет оправдания в заботах о прекрасном, – грустно качая головой, подытожил Форбс, когда смотритель вернулся на свой стул. – Он же видел, что никакого вреда мы не причиним. – И добавил с редкой для него откровенностью: – Это одна из причин, по которым я решил уехать из Англии.
Но Моррис был слишком подавлен, чтобы оценить важность признания. Все, чего он сейчас жаждал, – увидеть Массимину и убраться отсюда. Стены, покрытые гобеленами, и расписные потолки вмиг превратились в опасное замкнутое пространство. Выждав примерно до середины залов тосканской школы, он пожаловался на колики и заявил, что им пора ехать. Только вот напоследок хотелось бы еще взглянуть на Филиппо Липпи.
В восьмом зале пришлось дожидаться, пока от картины отойдет шумная – группа бедно одетых туристов из Восточной Европы. Гид без умолку нес околесицу. Но даже пытаясь заглянуть поверх скопища пегих, нечесаных и просто неотесанных голов, Моррис понял, что перед ним именно Мими с аккуратным – носиком и сливочно-белой кожей. Невыносимое возбуждение пробежало по телу. Будто он пришел на свидание с любимой… Губы беззвучно повторяли эти слова, а Форбс озадаченно смотрел на него.
– Вы и вправду неважно выглядите, старина.
– Не пойму, чего эти полячишки так присосались к моей картине!
– Всему свое время, – благодушно усмехнулся Форбс. – Расслабьтесь, Моррис. Даже чернь порою тянется к прекрасному. – И осведомился с деликатностью: – Так это и есть, э-э… пример того сходства, о котором вы говорили? Или же у вас к ней чисто эстетический интерес?
Моррис не мог ответить: в горле застрял ком. Форбс понимающе вздохнул.
Поляки, если это в самом деле были они, наконец ушли, и Моррис поспешно приблизился к картине. Святая дева одета очень просто, в красное и голубое; два трогательно пухлых херувима возлагают на нее венец. Глаза опущены долу, голова чуть повернута вбок с тем скромным и слегка кокетливым – именно из-за скромности – наклоном, одним из характерных жестов Массимины. Ошибка исключалась. И даже – невероятно – крошечная капелька грязи запятнала холст в точности на том же месте. Маленькая родинка под левым ухом, которую он когда-то так любил целовать. Ибо ничто не возбуждало в нем такую нежность, как изъяны, подкупающие своей беззащитностью.
Но прежде всего – глаза. Огромные, светло-карие, они смотрели прямо на Морриса. Ощущение ее присутствия было еще сильней, чем на маленькой кладбищенской фотографии. Это – была сама Мими.
– Липпи прославился живостью своих фигур и искусной передачей тончайших оттенков телесного цвета, – сообщил Форбс. – Хотя и талантом, и амбициями он уступал своему учителю Мазаччо, не говоря уже о ближайших последователях, Леонардо да Винчи и Микеланджело.
Моррис не мог оторвать взгляд от волос, обрамлявших лицо точь-в-точь как у Мими, во всяком случае с тех пор, как он велел ей сделать завивку, чтобы изменить внешность.
– Она вам напомнила подругу детства? – деликатно осведомился Форбс. – А может быть, вашу матушку, любимую тетю или кузину?
– Мою первую и единственную любовь, – хрипло вымолвил Моррис, не помня себя от страдания и в то же время упиваясь возвышенностью – момента. Никто другой не сумел бы проникнуться этим, как он.
– La donna e mobile, – посочувствовал Форбс. – Сердце красавицы, как известно… Увы, прекрасный пол не только прекрасен, но он же и ветрен, и куда легковеснее нашего брата.
– Нет-нет, – пробормотал Моррис, не отрываясь от картины в уверенности, что Мими вот-вот подаст новый знак. – Она умерла.
– О, простите.
Выдержав долгую паузу, Моррис обронил трагическим тоном:
– Мы собирались пожениться.
– Кажется, еще ни одному мужчине не удавалось жениться на той, кого он любил больше всего, – мягко заметил Форбс. – Это почти что закон природы, такая же невозможность, как добыть философский камень или построить вечный двигатель. – Старик впал в элегический тон. – Иначе жизнь была бы чересчур хороша, вы не находите?
– О да, – Моррис оценил его участие. Хотя вокруг слонялись толпы людей, они вдвоем были отделены от всех, словно находились в ином измерении. Над головой юной женщины порхали голопузые ребятишки, на губах ее играла легчайшая улыбка. Да она меня просто дразнит, решил Моррис. Заставляет ждать.
– Несчастный случай или болезнь? – спросил Форбс.
– Ее похитили и убили какие-то подонки, – Моррис весь задрожал от гнева. – Представляете? Единственную девушку на свете, кого я любил. Убили!
– Господи помилуй! – Форбс аж отпрянул с той старомодной выразительностью, которая вновь порадовала Морриса, вопреки отчаянию.
«Мими!» – выдохнул он почти в голос, гипнотизируя взглядом картину. Ну когда же она отзовется? Иногда Мими бывала такой упрямой. Как в тот день, когда Моррис без конца умолял не вынуждать его сделать это, чтобы они были счастливы вдвоем до конца своих дней. Разумеется, он не желал такого исхода. Он даже призадумался на миг, не стоит ли открыть душу перед Форбсом. Пусть тот скажет, что вполне понимает Морриса, что на его месте любой поступил бы так же.
– Извините, Бога ради, – пролепетал Форбс. – Мне и в голову не могло прийти…
Они не двигались с места. И картина, казалось, застыла безнадежно. Моррис чувствовал, что его чичероне начинает терять терпение. Чтобы отвлечь Форбса, он спросил:
– Вы не знаете, он с натуры рисовал? Я имею в виду, существовала ли такая девушка в жизни?
– Липпи? Да, некоторые художники использовали натурщиков как анатомическую основу для религиозных образов. Хотя конечный результат, разумеется, получался сильно идеализированным.
И ничего не разумеется, мысленно возразил Моррис. Это точная копия Массимины.
– С Липпи произошла любопытная вещь, – Форбс определенно старался отвлечь своего молодого друга от грустных размышлений. – Он был монахом и писал картины на духовные сюжеты, но однажды сбежал в мир, соблазнил монахиню, а потом женился на ней.
– Соблазнил?.. – опешил Моррис.
– Так, во всяком случае, гласит предание.
– Похитил монашку и сделал ее своей натурщицей?
– Ну, не знаю, позировала ли она для картин. Но вполне может статься…
– Монашка?
– Именно.
А ведь Мими тоже была ревностной католичкой! Странно, что такой чуткий человек, как Форбс, не уловил бросающегося в глаза сходства. Точно это сам Моррис нарисовал портрет девственницы, затем взял ее в жены – чем не смерть для монашки. Или не так? Мозги готовы были закипеть. Но загадочная улыбка на портрете хранила неподвижность.
Действительно ли Мими его любила? Или это был просто предлог сбежать из дома – семейного монастыря?
– Браунинг написал об этом малом довольно жизнерадостную поэму, где оправдывал запретную страсть, – продолжал Форбс. – Однако же Рескин ее несколько перехвалил.
Терпение Морриса лопнуло. Он, должно быть, рехнулся – торчит здесь битых десять минут, дожидаясь знака. А если нет, тогда над ним просто издеваются. Черт бы побрал эту ехидную улыбочку! В конце концов, Мадонна там или нет, но Мими была всего лишь обыкновенной девчонкой, каких много. Он повернулся, схватил Форбса за руку и потащил к выходу.
– Живот, – стонал он. – Больше не могу…
Голос раздался, когда они шагнули за порог зала Боттичелли. Моррис тут же оцепенел. Форбс, испугавшись, что приятеля вывернет прямо на пол галереи, или тот упадет в обморок, обнял его за плечи. Моррис с трудом повернул голову. В зале было шумно: школьники перекликались пронзительными голосами. Но он только что отчетливо расслышал собственное имя: «Морри!» Никто другой так его не называл. Большие карие глаза смотрели с дальней стены. Моррис послал ей воздушный поцелуй, отвернулся, стряхнув с плеча дружескую руку, и заковылял вниз по ступеням.
В машине ему отчаянно захотелось поговорить с Мими, но в присутствии Форбса это было невозможно. Старик попросил задержаться где-нибудь перекусить и предупредил, что оставил дома бумажник. Моррис пожалел своего благородного визави, вынужденного побираться столь невзыскательным способом, и великодушно настоял, чтобы тот заказал самые дорогие блюда в меню. Его собственный желудок отпустило как по волшебству. Позже, по пути домой, преодолевая желание поскорее остаться в одиночестве, он предложил Форбсу одалживаться без стеснения, когда не хватает до пенсии, и уговорил взять несколько стотысячных купюр.
– Я понимаю, это смахивает на бред сумасшедшего, – продолжал Моррис, – но как вы считаете, не мог бы я когда-нибудь выкупить картину вроде той в галерее Уффици? У них ведь десятка три разных сцен Увенчания Девы.
Форбс усомнился в такой возможности, но согласился, что окружать себя предметами искусства, коль скоро средства позволяют, лучше, чем ходить по музеям. Когда имеешь дело с прекрасным, очень важен момент обладания. Он часто скучает по своему старому дому в Кембридже и картинам, которые там были. Но не по людям. Уехать оттуда следовало еще раньше, пока он был молод.
И опять Моррис слишком погрузился в свои думы, чтобы принять завуалированное приглашение к разговору по душам. В конце концов, в Форбсе его интересует высокая культура, а не превратности личной жизни. Когда зазвонил телефон, он растерялся: возможно ли такое чудо, и позвонит она?
Но это была всего лишь Паола.
– Mamma пришла в себя. Господи, она, кажется, собралась выздороветь. Просто невероятно!
Моррис тоже не хотел в это верить. Но открыто проявить недовольство было бы дурным тоном.
– Одно утешает, – продолжала жена, – Бобо вне себя. Он злится еще сильней, чем мы.
Положив трубку, Моррис представил, как взбесится зять, когда, вернувшись в Верону, он подтвердит, как и намеревался, заказ на четыре тысячи ящиков с самыми жесткими сроками доставки. Все должно быть расставлено по местам.
Глава шестая
Ближе к полуночи, когда они с Паолой утешали друг друга над бутылочкой полусухого и жена вовсю использовала его пристрастие к шоколадному мороженому, собираясь затеять некую оральную прелюдию, Моррис вспомнил об утренней покупке. Паола надувала губки над растаявшим пралине. «Сперва сюрприз, дорогая», – настаивал Моррис.
Накинув халат и сунув ноги в шлепанцы, он спустился по лестнице и вышел в морозный туман ноябрьской ночи. Чертов строитель обнаглел вконец: бросил экскаватор прямо у главных ворот, так что к гаражам ни проехать, ни пройти. Но Моррис еще придумает, как его достать. Торопиться некуда, – с этой мыслью он вытащил коробку с заднего сиденья «мерседеса».
На втором этаже Моррис на секунду задержался у соседских дверей, прислушиваясь к бормотанию телевизора. Только тут ему стало казаться, что гостинец слишком тяжел для видеокамеры. Кстати, не помешает знать, чем развлекаются соседи в этот час. На лестничной площадке хорошо была слышна тягучая эротическая мелодия: на седьмом канале шло ночное шоу. Стриптиз, сюрприз… Он приподнял коробку и потряс. Самодовольство быстро сменялось полуобморочной тревогой. Внутри что-то болталось с неприятным глухим звуком.
– Кажется, я свалял дурака, – объявил он загробным голосом, войдя в гостиную. Паола устроилась на кушетке, лежа на животе. Ее белье Моррис находил одновременно возбуждающим и пошлым. Она поманила его пальчиком, и он почти сорвался на крик: – Господи, я же полный, законченный идиот!
– М-р-р… – только и отозвалась жена.
– Ненавижу себя! – он судорожно отдирал скотч от коробки с надписью «Сони». – Хотел сделать тебе подарок, а вместо этого выбросил псу под хвост полтораста тысяч лир… Полтораста тысяч!
Неожиданно, но точно в искомый момент Моррис ощутил слезы на глазах. Его захлестывала волна самых противоположных эмоций: унижение, злость, раскаяние и готовность все простить. Коробка наконец раскрылась, оттуда выпал кирпич в полиэтиленовом пакете и разбился об пол.
Паола разразилась хохотом. «Ох, Мо, ну и балбес! Ты у marocchino покупал, да? Все же знают, какие они жулики».
Бубенчики в ее голосе звучали в такт мельтешению пузырьков под черепом Морриса, где-то позади глаз, будто кровь собралась закипеть. Даже пижама и просторный халат, казалось, впились в готовое взорваться тело. Он задыхался от бешенства. Взять бы этот кирпич – да по этому глумливому, распутному лицу!…. Массимина ни за что не стала бы так себя вести.
– Я купил это тебе! – заорал он. – Чтобы сняться вместе! Пожалел ублюдка, а он меня кинул!
Паола метнулась к нему и крепко обхватила руками. Моррис в ярости отпихнул жену, но та вновь обняла его и прижалась лицом к плечу.
– Мо, возьми меня, – шептала она, – ну скорей же. Я так обожаю, когда ты злишься. Ты такой наивный, и сладкий, и сильный, и жестокий – все в одном флаконе.
Он попробовал было сопротивляться, но ярость и возбуждение вкупе с эротическим бельем подорвали его силы. «Обожаю, обожаю…» – повторяя, как заведенная, Паола распахнула на нем халат и притянула к себе за ворот пижамы…
После она безмятежно задремала, а Моррис долго лежал без сна и маялся, заново переживая, словно в калейдоскопе, сегодняшние обиды. Наконец он встал и вышел в гостиную. Включил свет, поднял пакет с обломками кирпича и осторожно положил на коврик у дивана. Затем осмотрел пол и обнаружил серьезное повреждение на одном из изразцов – зеленоватый геометрический узор изящного дизайна от Бертелли перечеркнула грубая белая царапина. Итак, все оказалось еще хуже. Он не только отдал деньги человеку, которого общество заставило промышлять мошенничеством, но вдобавок, разозлившись на себя за глупость, испортил плитку стоимостью под сорок тысяч лир. Заменить ее обойдется как минимум вдвое дороже.
Вернувшись в постель, Моррис обнаружил, что Паола, как это с нею частенько бывало, вторглась во сне на его половину. Что-то детское было в привольном изгибе тела под тяжелым покрывалом. Она и есть испорченный ребенок, привыкший все получать по первому требованию. Моррис надел халат и сел в единственное в спальне кресло. Час или больше он неподвижно смотрел в темноту; перенесенные за день унижения одно за другим проносились перед мысленным взором, как наяву. Притворное – недовольство марокканца, склонившегося к окну машины; всплеск идиотской радости, когда удалось «сбить цену» до ста пятидесяти тысяч; потом нарисованная усмешка Массимины в галерее, словно Моррис завяз в трясине и отчаянно пытается вырваться, молотя руками по воздуху, а она снисходительно взирает с вершин своего мученичества, искупившего все грехи. Наконец, издевательский хохот жены, ее животное урчание и похоть, – будто он, Моррис – всего лишь ходячий вибратор, который можно в любой момент употребить в свое удовольствие, будто только в этом он и нуждается, а не в понимании и утешении…
«Не называй человека счастливым, пока он не умер», – вспомнилось изречение кого-то из старых моралистов. Эти слова Моррис повторял всю ночь напролет. Он почти завидовал теще, стоявшей у заветного порога.








