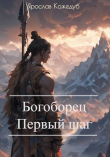Текст книги "Черная роза"
Автор книги: Тибор Череш
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
23
Возложив Библию на кувшин, старый Гоор уже простер, было руки над столом, чтобы освятить вино, но вдруг о чем-то вспомнил.
– Уважаемый господин майор/ Вы к нам по официальному делу или как частное лицо?
Оставив детей на ярмарке, Анна быстрым шагом направилась к дому Гооров. Увидеться с Гудуличем было крайне необходимо.
Бютёк, в шутовском ликовании потирая руки, следовал за ней на некотором расстоянии.
На террасе у Гооров майору Кёвешу, судя по всему, удалось осуществить свои мирные замыслы.
Юлишку, мятежную супругу Гезы Гудулича, он более или менее убедил в том, что Геза сейчас и во все времена любил и обожал только ее одну.
– Помню, когда мы служили вместе… Гезушка, в котором году это было?.. Я столько выпил, что позабыл все годы и цифры…
– В сорок шестом, Руди… Гм, что это упало на крышу?
По густой кровле из дикого винограда действительно что-то стукнуло.
Руди вздохнул и продолжал:
– Нет, вы послушайте меня, милая Юлишка, как это было!
– Не верю я вам, мужчинам. Все вы хороши!
– Дорогая, у вас неправильные понятия! Ваш Геза всегда любил только вас одну. Больше того, обожал. Как сейчас помню, был у нас с ним один разговор. И вот этот парень, рыдая на моем плече, заявил, что самым большим ударом в его жизни был ответ одной девушки, когда он предложил ей стать его женой: «Моя матушка никогда не отдаст меня человеку, у которого нет своей земли».– «Ну а твой отец?» – спросил он. «Отец у меня
верующий, его земные дела не интересуют!»
Это воспоминание произвело на Юлишку неожиданно сильное впечатление. А тетушка Гоор, посмеиваясь, досказала конец этой истории, который, впрочем, был майору уже известен:
– А когда война кончилась, я сказала: хорошо, пусть Геза будет моим зятем. Но мой муж категорически заявил: «Безбожнику-коммунисту я свою дочь не отдам!»
Теперь смеялась уже и Юлишка. В дверях вновь появился старый Гоор. Он был в черном парадном костюме, в шляпе, с Библией в руках.
– Вот смотрите! В сей книге точно сказано, кто может быть предан земле по христианскому обряду!
– Оставь ты эти заботы, отец. Напоил бы лучше скотину.
– Ну уж нет! – воспротивился Кёвеш.– Мы вас, дядюшка Гоор, не отпустим отсюда до тех пор, пока вы не освятите вино, которое мы пьем.
Перед таким соблазном старик, разумеется, не устоял. Ведь его просили освятить языческий напиток, а освятив вино, можно превратить его в питье, приемлемое не только для гостей, но и для хозяев тоже.
Возложив Библию на кувшин, старый Гоор уже простер, было руки над столом, но вдруг о чем-то вспомнил.
– Уважаемый господин майор! Вы по официальному делу почтили наш дом или как частное лицо?
– А почему это важно, дядюшка Гоор?
– Для освящения вина очень важно.
– Ну, если так, то признаюсь откровенно, что я пришел сюда не по официальному делу, а вместе с моим другом Гезой в качестве лица сугубо приватного.
– Вот теперь другое дело,– сказал Гоор.– Совсем другое дело. Потому как это не одно и то же,– закончил он, и бормоча молитву, совершил импровизированный обряд освящения вина.
По зеленой кровле из виноградных лоз опять что-то стукнуло, уже сильнее.
– Кажется, кто-то стоит у калитки.
– Кто там?
– Никого.
– Нет, кто-то есть!
В этот момент калитка открылась, и к террасе заковылял не кто иной, как Бютёк.
И надо же было случиться, чтобы дядюшка Гоор как раз в этот момент допивал свой стакан. Он мгновенно поставил его на стол и, схватив в руки Библию, отпрянул от соблазна ровно настолько, чтобы можно было подумать, будто он проклинает зеленого змия, а не благословляет его. Иными словами, он отдалил от себя вино, то бишь сам от него отдалился.
– Кого ты ищешь, брат Бютёк? Уж не меня ли? – спросил он, икнув при этом.
Бютёк, однако, не обратив никакого внимания на маневры брата во Христе, прямехонько проковылял к Гудуличу и, нагнувшись к его уху, тихо сказал ему несколько слов. Председатель вытаращил глаза, вытер рукой рот и, не попросив даже извинения, быстро встал и вышел на улицу.
Бютёк между тем и теперь не заметил своего церковного старосту, зато узрел другое – блюдо с печеньем. Запустив в него руку, он схватил сразу два. Еще не прожевав первое, он попытался затолкать в рот второе и потянулся за третьим.
– Угощайся, брат Бютёк,– рассеянно сказала тетушка Гоор,
Все напряженно прислушивались к тому, что происходило на улице.
Уже начало смеркаться, и сквозь штакетник изгороди с террасы можно было лишь определить, что Геза разговаривает с женщиной. Послышался шепот, а потом короткий и тихий, но решительный ответ Гудулича: «Нет!»
«Вероятно, кто-нибудь из конторы, по служебным делам»,– подумали сидевшие на террасе. Но отказ Гудулича, видимо, заставил его собеседницу возвысить голос.
– Я призналась, что всю ночь была с вами. Другого я сказать не могла. Вы понимаете? И не будете этого отрицать?!
Слова были слышны отчетливо, неясным оставалось одно – кому они принадлежали?
– Кто эта женщина? – спросила Юлишка.
– Анна Тёре, сестра наша,– ответил Бютёк, отправляя очередную порцию печенья в рот и в карман.
– Нет, нет и еще раз нет! – повторил Гудулич.
Юлишка, как разъяренная тигрица, выбежала с террасы и закричала на весь двор. Поначалу ничего нельзя было разобрать в ее крике. Но когда она приблизилась к забору, ее боль и обида зазвучали отчетливей:
– Шлюха проклятая! Даже здесь, дома, от тебя спасения нету! И сюда шляешься! Тьфу, тьфу!
Тетушка Гоор, Кёвеш, а потом и вернувшийся Геза замахали руками.
– Нельзя так, Юлишка! Перестань, успокойся, дорогая. Все боялись, что она выбежит на улицу и на глазах у всех вцепится в соперницу.
Анна Тёре, однако, в контратаку не перешла. Она не встала перед Юлишкой, уперев руки в бока со спокойным вызовом или даже с гордостью, как это сделала бы женщина, пришедшая за своим дружком. Анна не оправдывалась, не кричала и в то же время не показывала себя виноватой. Она лишь прикрыла белой рукой обнаженную шею и отступила на несколько шагов, потом повернулась и пошла. Свидетели этой сцены, находившиеся во дворе, вполне могли расценить это как бегство.
– Даже дома, даже дома нет от нее покоя,– повторяла едва слышно Юлишка, пока ее вели под руки со двора, и в голосе ее снова звучала глубокая скорбь.
На террасе ее, все еще дрожащую, положили на диванчик, а поскольку к вечеру становилось прохладно, прикрыли легким покрывалом.
– Все будет хорошо, Юлишка. Полежи и успокойся. Мужчины снова взялись за бокалы. Теперь они пили, пожалуй, для того, чтобы оправиться от пережитого испуга. Легче всего было бы избавиться от всего этого, конечно, ретировавшись, домой, так оно и выглядело бы пристойнее. Но Кёвеш все еще сохранял надежду ввести жизнь супругов Гудуличей в нормальное русло, восстановить столь неожиданным образом вновь нарушенный семейный мир.
– Так, значит, ты и сказал этому Комлоши: «Я ищу своего отца, и у меня имеются серьезные доказательства, что это вы?» – Кёвеш захохотал, надеясь уплечь за собой всех присутствующих.
Минуту спустя он смеялся уже только про себя, ибо дядюшка Гоор каменным изваянием застыл у входа на террасу, прижимая к груди свою Библию в черном переплете.
24
– Какая ты умная, мамочка!
– Оставь, неправда это.
– Нет, правда. Ты никогда не бранила меня понапрасну.
Анна тотчас поняла, что в доме Гоорев все пьяны. И Геза Гудулич тоже. Поэтому она не стала повторять ему свою просьбу. Все равно он все забудет.
Теперь рухнули все ее надежды, которые она связывала с Гезой Гудуличем. Человек, сказавший ей «нет» в таких обстоятельствах, не заслуживает откровенности.
Анна побежала в сторону от ярмарочной площади. Она должна открыть Эммушке нечто такое, что потом уже не сможет ей сказать. А другим и подавно. Никогда и никому.
Запыхавшись, она пошла шагом. Село осталось позади. За околицей было еще совсем светло. В полях всегда темнеет позже, чем на деревенских улицах.
Анне хорошо знакома дорога до полустанка, через четверть часа она будет там. Так что у нее останется еще добрых полчаса, чтобы сказать дочери то, о чем должна узнать только она одна.
Прежде Анна подумывала рассказать об этом Гезе Гудуличу, но теперь он стал для нее председателем, и не более того. Пусть этот председатель уже никогда не смотрит на нее так, словно и впрямь уважает ее или тем более ей симпатизирует.
Однажды, еще весной, он сказал: «Вас многие обижают, Анна. Мужчины считают вае легкой добычей, но никто не смеет и не может сказать о вас дурного слова. Вы достойны уважения, и это правда». И глаза его горели, как раскаленные угли.
Но надо забыть и это. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке: «Нет, нет и еще раз нет!»
На платформе полустанка не было ни души. В домике начальника зажглаеь уже лампа Аладдина, и сам он, видимо, колдовал около нее. Взглянув через окно на большие часы, Анна убедилась, что до прибытия поезда оставалось еще ровно полчаса.
На запасном пути стоял одинокий вагон, дверь его была распахнута настежь, на полу лежал какой-то пожилой мужчина в потрепанной одежде и сладко похрапывал. Эммушке следовало бы уже давно быть здесь. Анна прошла и села под навес для пассажиров у стены станционного домика. И снова перед ее мысленным взором встал Гудулич.
Если бы у него не было жены и троих детей… Нет, он никогда не говорил ей «я люблю вас», «люблю тебя»!
Но ей сказали об этом другие. Например, та же Дитер.
– Когда он говорит о тебе, у него даже голос меняется. Летом от его имени ее заманили в винный подвал трое подвыпивших парней. Ох, и получили они по заслугам1
– Не стоило их так наказывать, товарищ председатель. Или как мне вас называть?
– Как называть? Зовите Гезой, и все тут.
Но она никак не могла пересилить себя и называла его по имени только мысленно.
– Я уеду отсюда. В город, где меня никто не знает. Вот тогда он спросил:
– А что будет со мной?
На мгновение он прижался щекой к ее щеке. И все. Это самое большее, что между ними было.
И это произошло по его инициативе.
Неторопливым шагом, словно на прогулке, подошла Эммушка. Спокойно присела на скамью и только тогда заметила, что сидит рядом с матерью.
Девушка смотрела на мать не отрываясь, долгим, пристальным Багдадом. Она уже примирилась с тем, что должна сесть в поезд без обычных проводов. Что делать, если уж так необходим ее срочный отъезд в Будапешт. Сейчас она, казалось бы, должна была обрадоваться матери, но это неожиданное свидание не подходило к настроению ни той, ни другой.
– Ты переменилась в лице, мамочка. С тобой что-то случилось?
– Да.
– Поэтому ты здесь? Анна покачала головой.
– Нет, я пришла не ради себя.
– Не надо было приходить. Лучше так, как ты решила раньше. Знаешь, о чем я думала, пока гуляла?
– Ты гуляла?
– Да, прошлась немного. Я ведь знала, что у меня есть время. Я думала о том, какая ты умная, мамочка.
– Если бы это было так! Оставь, неправда это.
– Нет, правда! Я долго думала и скажу почему. Ты не любишь много говорить, но уж когда скажешь… Вот и меня ты никогда не бранила понапрасну.
– Я тебя люблю, поэтому.
– Ты часто могла бы ругать меня, но не делала этого. И даже сегодня. А сегодня могла бы.
– Нет. Если я поняла, позему ты к нему поехала, то зачем?
– Но ты поняла все сразу. Стоило мне только сказать: «Он не отступился бы от тебя никогда…»
– Боже! В тот момент я подумала совсем о другом!
– А о чем?
– Как и теперь.– Анна положила руку на живот дочери.– О тебе.
– Да, конечно.
– Однако ты не все знаешь.
– Мамочка, на начинай сначала! Я согласилась на все, что ты решила. Ты же видишь! Ты сказала: уезжай в Пешт, и вот я здесь. Но зачем ты хочешь меня исповедовать? Я не люблю исповедей. Мне противне.
– Я исповедую? Я, твоя мать? Как ты можешь сказать такое, Эммушка! Ты понимаешь, что говоришь?
– Напрасно ты пришла сюда, мама. Теперь ты все портишь.
Они замолчали. Анна – для того, чтобы не испортить «всего». Эммушка – потому, что все и так уже было испорчено.
– Скажи мне, дочка, что ты чувствовала, когда держала в руке нож?
Девушка потерла пальцами, виски, словно только теперь вспомнила обо всем, что связано с ножом.
– Я не хочу думать об этом. Я была так рада, что ты не заставляла меня рассказывать.
Анна с удивлением, даже с отчуждением взглянула на дочь.
– Что же, ты думаешь, тебе об этом вообще никогда не придется говорить?
– Не знаю, над этим я еще не задумывалась.
Но, получается, задумываться надо. Надо, придется… Она уже думает.
– – Тебе нечего мне больше сказать, дочка?
– Что именно?
– Мне, твоей матери?
– Сейчас подойдет поезд. Эммушка взглянула на свои часики.
– Я не могу себе представить, как этот нож попал тебе в руки. И вообще я никогда не видела, чтобы ты держала нож.
Теперь уже дочь изумленно смотрела на мать.
– Я все время ищу, в чем ошиблась сама, и не могу найти. Да, я тогда вечером пожаловалась тебе и дядюшке Гезе, что он меня постоянно преследует, и пригрозил, что
в день престольного праздника силой заставит дать обещание выйти за него замуж. Пожаловалась вам…
– Все это было так унизительно, мама. Ты была в полном отчаянии,– сочувственно заметила Эммушка.– Но я думаю, ты могла бы сказать мне больше, если бы искренне не хотела, чтобы я поехала к нему вместе с дядей Гезой.
– Разве я могла предположить, что ты поедешь с ним! Я говорила об угрозах Шайго с таким отчаянием только для того, чтобы подействовать на Гудулича, разозлить его. Тогда он заставил бы Шайго прекратить надо мной эти издевательства.
Эмма провела теплой ладонью по полной, гладкой руке матери.
– Как ты все это терпишь?
– Терпела.
– Не понимаю.
– Раньше терпела. Теперь всему конец.
Глаза Эммушки широко раскрылись. Правильно ли она поняла последние слова матери?
– Значит, все-таки…
– Что? Что все-таки?
– Значит, все-таки…
Наступило молчание. Анна мысленно пыталась отделить наивное неведение дочери от собственного страха, сжимавшего ей горло с утра, когда до нее дошла ужасная весть.
– Стало быть, и дядюшка Геза ничего не знал…
– Разумеется, не знал. Он только вызвал его ко мне, а сам ушел куда-то. Было темно, я не знаю.
– Куда? Куда он пошел? Я все время думаю об этом. Разве не светила луна?
– Светила, но потом как-то вдруг все потемнело. Или набежала туча, или потому, что я увидела его лицо.
– Он слишком много пил в последнее время.
– Не в этом дело. Он обрадовался, когда я назвала себя, и пытался зажечь зажигалку, чтобы получше меня рассмотреть. Но в руке у него был хлеб и кусок сала, не получалось.
– Он не приглашал тебя войти в дом?
– А как же. Конечно, приглашал. Зайди, говорит, душенька, там у меня горит лампа. Но когда я сказала, что мне и здесь хорошо, он не настаивал.
– Значит, он все время говорил, говорил, не давал тебе слова вымолвить?
– Говорил, но я тоже свое сказала.
– А зачем он зажег зажигалку?
– Только хотел зажечь. Он сунул мне в руку хлеб и сало и сказал: я и, но голосу узнал, кто ты такая. Вылитая мать, в твоем возрасте у нее был точно такой же голос. А вот если бы днем встретил я тебя случайно на улице, не узнал бы.
– И он хорошенько тебя рассмотрел?
– Да не рассмотрел он меня совсем! Я сказала: прошу вас дать обещание, что вы никогда – ни завтра на празднике, ни в другой раз… И задула зажигалку, когда она вдруг вспыхнула.
– Как у тебя хватило смелости? Ведь он был пьян? Был или не был?
– От него несло палинкой, когда он говорил. Но на ногах он держался. Все чиркал зажигалкой, не замечая, что это я ее задуваю, когда вспыхивает огонек.
– А когда заметил?
– Размахнулся и ударил меня. Левой рукой в ухо, но я успела отступить, и его кулак задел меня только чуть-чуть. Вот тогда он и рассвирепел.
– Рассвирепел?
– Да. Он старался схватить меня своими ручищами и повалить. И все хрипел: «Анна, ты – Анна!»
– Значит, в левой руке ты держала хлеб и сало?
– Да.
– А в правой?
– Ах, мамочка! Сейчас подойдет поезд. Эмма опять взглянула на часы.
– Еще шесть минут.
– Ты уверена в том, что он тебя ударил?
– Конечно. Иначе я бы не сказала.
– Ударил сильно, кулаком? Не показалось ли тебе, что он просто размахивал руками при разговоре или искал тебя в темноте?
– Почему ты мне не веришь, мама? Я же ощутила удар, было больно!
– Но то, что он сказал потом, никак не вяжется с ударом.
– Что не вяжется?
– Он сказал: «Анна, ты – Анна!»
– Я жалею, что ты пришла сюда.
– Ты еще не все знаешь.
– А я и не хочу больше ничего знать! Поздно. Анна побледнела от ужаса,
– Эммушка! Не смей! Не вздумай что-нибудь с собой делать! Никто на всем свете не стоит твоей жизни.
Девушка опять ласково провела ладонью по плечу матери.
– У меня и в мыслях этого нет.
– Но ребенок
– Ребенок? Лаци сказал, что следующего мы непременно оставим.
Анна закрыла лицо руками.
– Боже мой! Ты так-решил а?
– Но ты же сама спросила, мама. Ты же об этом спросила?
Анна решила быть беспощадной; стиснув зубы, она сказала сурово и жестко:
– Ты знаешь о том, что Давид Шайго… твой отец?
– Знаю!
– От кого?
– От него. Он сказал мне это, И о тех пятистах форинтах, которые посылал мне каждый месяц. И еще…
– Что еще?
– Что это его кровные деньги.
– Кровные? Да, так он обычно выражался.
– Может, из-за этого я возненавидела его еще больше.
– Еще больше? А за что раньше?
Девушка не ответила и опять взглянула на часы:
– Ну вот. Еще три минуты.
– О чем ты сейчас думаешь, Эммушка?
– О тебе. Знаешь, меня ужасно поразило, что ты… и вдруг с ним.
– Но ты ничего об этом не знала!
– Догадывалась. Я видела и раньше, что он за человек.
– Судишь по внешности?
– По внешности.
Теперь они молчали до самого прихода поезда.
Медленно встали, подошли к платформе. Оборванец, спавший на полу в товарном вагоне, проснулся удивительно вовремя. Закинув за плечи грязный рюкзак, он перешел путь, очевидно тоже поджидая поезд.
Анна стояла рядом с дочерью. Обе молчали. И даже не смотрели друг на друга.
Паровоз пропыхтел мимо и остановился; в вагон полез оборванец с мешком, тот самый, что похрапывал еще три минуты назад.
Подхватив свою сумку, Эммушка поднялась по ступенькам вагона. В тамбуре она обернулась, взглянула на мать. Поезд еще стоял. Анна вздохнула.
– Самое ужасное – это то, что ты ни о чем не жалеешь.
Девушка метнула на мать взгляд, полный неприязни:
– Напрасно ты пришла сюда, мама.
Свист пара, вырвавшегося из– паровоза, заглушил ее слова. Анна подалась вперед. – Что ты сказала, дочка?
– Напрасно ты пришла!
Словно облитая позором, Анна осталась на перроне. Она не смела даже поднять глаза на начальника полустанка.
25
– Неужто вы были таким донжуаном, Геза?
– Что значит «был»? Вы не могли бы без оскорблений?
Майор Кёвеш потерял уже все надежды на то, чтобы сызнова залатать разорванное в клочья семейное счастье Гудуличей. Поэтому он предпочел вести душеспасительную беседу со старым Гоором, который растолковывал ему со знанием дела гибель Армагеддона, а также и то, каким образом сто сорок четыре избранных праведника осуществляют свое владычество над бренной землей.
К счастью для гостя, на улице вскоре послышался шум мотора, а затем появился и шофер.
– Где будем ночевать, товарищ майор?
– Где? Дома, разумеется! – Обрадованный Кёвеш начал прощаться. В самом деле, дальше уже неловко было злоупотреблять гостеприимством добрых хозяев, пора и честь знать. Стариков майор расцеловал в обе щеки, затем приложился к ручке Юлишки.
– Моя жена будет очень рада познакомиться с вами!
– Ну что вы! Ведь вы ей ничего еще обо мне не говорили!
– Вернувшись, домой, я расскажу ей о вас, Юлишка, как нельзя лучше. Так что считайте себя уже приглашенными.
Юлишка, конечно, не поверила. Впрочем, Гудулич тоже весьма сомневался, что Кёвеш в ближайшем будущем выполнит обещание и представит его своей супруге.
– Геза, вы оба должны непременно побывать у нас. И это произойдет Скорее, чем ты думаешь! – сказал на прощание Кёвеш.
Гость уехал, и терраса, увитая диким виноградом, мгновенно опустела. Для Гудулича не оказалось места в этом доме ни у тещи, ни у тестя.
Юлишка с ним не разговаривала. Тесть, по мере того как из его головы выветривались винные пары, возвращался к позе разгневанного величия. Геза побродил из угла в угол по двору, а потом под покровом сгущавшихся сумерек, как провинившаяся собака, тихонько выскользнул за ворота.
Аттракционы на ярмарке еще стояли на своих местах, но ларьки и киоски, торговавшие всевозможной мелочью, уже разбирали. Ведь в темноте нелегко уследить за открытыми, с трех сторон столами, на которых выложен товар:
Что касается музыки, то она звучала еще, по меньшей мере, в пяти местах.
Клуб тоже манил посетителей распахнутыми дверями, через которые уже выставили во двор ряды откидных стульев – в зале гремел джаз-оркестр, а затейливые рулады саксофона зазывали тех, кто еще крутился на цепной карусели.
Геза Гудулич побродил немного в поредевшей ярмарочной толпе и решил отправиться в клуб.
Вдоль стен, а точнее сказать, вплотную к ним были придвинуты стулья, по шесть в «ложе». В этих «ложах» восседали девицы на выданье, их зоркие мамаши и прочий охранный персонал в лице старых дев и тетушек.
В почтенном одиночестве сидела тут и тетушка Дитер, звеньевая одной из виноградарских бригад. У Дитер сегодня большой день – трех своих дочерей она привела на бал. Одна из них уже кружилась под сверкающей люстрой со своим избранником в военной форме. Остальные две шушукались с подружками неподалеку от входных дверей в ожидании кавалеров.
Гудулич с усталым видом опустился на сиденье рядом с Дитер, потому что они давно были знакомы, потому что все равно надо было куда-то сесть и потому что есть у них, о чем поговорить.
– Которая ваша? Вот эта? Красивая будет пара. Свадьба после демобилизации? Все правильно. Подберем для паренька хорошую работу, не беспокойтесь.
Звуки музыки оборвали начавшийся разговор. Оркестр заиграл танго. Дитер сказала:
– Очень мне ее жаль.
– Анну?
– Ее, голубку.
– А Давида Шайго?
– Этого уже нечего жалеть.
Обменявшись несколькими фразами, они пришли к общему мнению, что хотя у Анны жизнь не из легких, но и Давиду тоже не везло. Как бы там ни было, а эта ужасная смерть избавила его от многих тягот, успокоила его мятущуюся душу.
Зал между тем постепенно наполнился. Гудулич зевнул и подумал, что сейчас он пойдет домой и, к собственному стыду, завалится спать задолго до полуночи.
В дверях показался старший лейтенант Буриан. Приподнявшись да носках, он оглядел зал и, ловко маневрируя между танцующими, подошел к Гудуличу.
– Добрый вечер, председатель.
– Вам того же.
Буриан вежливо поздоровался за руку и с тетушкой Дитер. Та даже привстала.
– Есть новости? – спросил Гудулич.
Буриан, разглядывая танцующие пары, с сожалением оттопырил губы – никаких.
Затем, словно вспомнив что-то, выудил двумя пальцами из наружного кармана кителя листок бумаги и протянул его Гудуличу.
«Геза! После того как вы вчера вечером приезжали к нам на мотоцикле, здесь случилась большая беда. Вы, наверно, уже о ней знаете. С уважением к вам Эржебет Халмади, урожденная Сабо».
Гудулич вернул листок лейтенанту.
– Почерк ваш, лейтенант. Буриан кивнул.
– Точная копия. Оригинал, вероятно, затерялся. Гудулич глотнул слюну.
– Впрочем, то, о чем пишет Бёжи, соответствует действительности,– заметил он.
– Согласен, но все это выглядит несколько странно. Мог бы я, к примеру, показать это письмецо Карою Халмади?
– Ни в коем случае! Он крайне ревнив. Не так ли, тетушка Дитер?
– Карой Халмади чуть ли не с детских лет ревновал к Гудуличу. Девушке, за которой ухаживал Карой, он разрешал общаться с кем угодно, только не с Гезой.
– Неужто вы были таким донжуаном, Геза? Гудулич выпятил грудь:
– Что значит «был»? Вы не могли бы без оскорблений?
Буриан махнул рукой, одним жестом решив пресечь, пустую болтовню. Оттянув Гезу на два сиденья в сторону, он тихо спросил:
– Говори, где ты провел прошлую ночь? Бёжи все равно признается. Разве она выдержит такую пытку ревностью?
Последнюю фразу Буриан произнес как шутку, но выстрел оказался холостым.
– Ты хотел бы услышать, что я провел эту ночь у Анны Тёре?
Буриан с сомнением покачал головой.
– Нож мы тоже нашли,– сказал он.
– В самом деле? Наверное, в каком-нибудь колодце? Буриан молча наблюдал за изумленным выражением лица председателя.
– Точно. А лезвие у него такое длинное и острое, что им можно проткнуть дуб.
– Возможно,– согласился Геза.– Только мне ни чего не известно ни про дуб, ни про бук.
– Зря хорохоришься, Бёжике все равно даст нужные показания!
Но Гудулича не так-то легко было выбить из седла.
– Ты же знаешь, что у нас с Бёжи ничего нет.
– Знаю.
– Недостает еще, чтобы ты столкнул лбами нас с Кароем Халмади. Ведь он не вступает в кооператив только из-за того, что… Одним словом, из-за меня. Удивляюсь, как он разрешил это сделать своей жене. В общем, кроме вреда, вся эта ерунда ничего не принесет.
– Ну а Анна?
– Ее нужно оставить в покое, хотя бы ради спокойствия моей собственной Юлишки. От одного имени Тёре кровяное давление у нее лезет вверх.
– С кем же спала Анна Тёре минувшую ночь?
– На этот вопрос я не ответил бы тебе, даже будучи ее духовником. На эту тему мужчины не исповедуются, не хвастаются и не жалуются.
– Я понимаю.