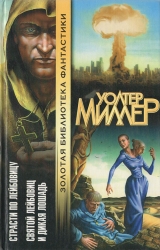
Текст книги "Страсти по Лейбовицу. Святой Лейбовиц и Дикая Лошадь"
Автор книги: Терри Бэллантин Биссон
Соавторы: Уолтер Майкл Миллер-младший
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 59 страниц)
Глубокий, выложенный камнем подвал был выкопан столетия назад, в те времена, когда с севера начали просачиваться кочевники и орды захватили пустыню и большие пространства Долин, огнем и мечом опустошая все, что лежало у них на пути. Меморабилия, малая часть тех знаний, которых аббатству удалось уберечь от забвения, была спрятана в подземном убежище, чтобы спасти бесценные рукописи и от кочевников, и от «крестоносцев мести», созданных схизматическими орденами для борьбы с неверными, но погрязнувших в грабежах и сектантских раздорах. Ни кочевников, ни солдат военного ордена святого Панкраца не интересовали книги аббатства, но кочевники могли сжечь их просто из радостного стремления к всеобщему разрушению, а вооруженные братья-рыцари могли побросать их в костер как «еретические» сочинения, не соответствующие теологическим взглядам их антипапы Виссариона.
Но теперь Темные века, похоже, клонились к закату. Двенадцать столетий огонек знаний тлел в монастырях, и только сейчас он был готов возгореться. Давным-давно, в отдаленные времена, некоторые гордые мыслители утверждали, что ценность знаний не может быть разрушена – идеи не подвержены гибели, а правда бессмертна. Но то было истиной только в определенном, малом смысле, думал аббат, и не носило всеобъемлющего характера. Чтобы быть точным, мир обладал объективным смыслом, которым были слово и образ Создателя, лежащие по ту сторону морали, но главное было в Боге, а не в Человеке, пока тот был подвержен непрестанной цепи перерождений, темным озарением, не понимающим ни речи, ни культуры человеческого общества. Да, Человек является носителем и культуры, и духа, но культура его не бессмертна, и если он погибает от несчастных случаев или от старости, то человеческое представление о смысле жизни и понимание, что такое правда, идут на убыль, оставаясь невидимыми пребывать в объективном логосе Природы и в невысказанном логосе Бога. Правду можно распять на кресте, но она скоро возрождается к жизни.
Меморабилия была полна древних слов, древних формул, древних соображений о смысле бытия, созданных творцами, умершими давным-давно, когда ушли в глубины забвения все существовавшие общества. Мало что из их сочинений ныне можно было понять. Некоторые документы были столь же неясны для восприятия, каким показался бы требник шаману кочевого племени. Другие содержали лишь красивые периоды, выстроенные в определенном порядке, который позволял догадываться о заключенном в них смысле – так же как, попав в розарий, кочевник сделает себе ожерелье из цветов. Первые Братья ордена Лейбовица пытались набросить нечто вроде вуали на тело распятой цивилизации; она, как они пытались изобразить, исчезла, сохраняя облик древнего великолепия, но облик этот с трудом можно было различить; он был неполон и труден для восприятия. Монахи хранили его в нетронутости, и вот ныне он снова представал миру, если мир хотел и был готов вглядеться в него и, исследовав, понять. Меморабилия сама по себе не могла возродить древнюю науку или высокую цивилизацию, ибо культура являлась порождением человеческих племен и сообществ, а не древних толстых томов, но книги могли этому помочь, как надеялся Дом Пауло, – книги могли указать направление и предложить помощь в деле возрождения науки. Так уже было однажды, на что указывал почтенный Боэдуллус в своем «De Vestigiis Antecessarum Civitatum» [24]24
«О следах предшествующих государств» (лат.).
[Закрыть].
И настало время, думал Дом Пауло, напомнить им, кто поддерживал искру знаний, пока весь мир был погружен в сон. Остановившись, он обернулся, ибо на какое-то мгновение ему показалось, что опять слышит испуганное блеяние козла Поэта.
Шум из подвала скоро дошел до его слуха, когда он достиг подземных помещений, где был источник беспорядка. Кто-то колотил железом по камню. Запах пота мешался с ароматом старых книг. Нервная суматоха, не приличествующая ученым, переполняла библиотеку. Послушники носились взад и вперед с инструментами в руках, стояли в группах, изучая разостланные на полу чертежи, передвигали столы и шкафы, ставя на их место какие-то приспособления. Смутившись от внезапно появившегося света лампы, брат Амбрустер, библиотекарь и ректор Меморабилии, стоял, наблюдая за происходящим из дальнего укрытия между шкафами, сжав руки; на лице его была мрачность. Дом Пауло постарался не встретиться с его обвиняющим взглядом.
Брат Корнхоер встретил своего владыку торжествующей улыбкой, полной энтузиазма.
– Ну, отец аббат, скоро мы дадим вам свет, которого не видел никто из живущих.
– Ты поддаешься излишнему тщеславию, брат, – заметил Пауло.
– Тщеславию, Домине? Из-за того, что хочу всего лишь найти применение всему, что мы изучали?
– Я имею в виду ту спешку, с которой вы трудитесь, чтобы успеть поразить прибывающего гостя. Но не обращайте внимания. Дайте-ка мне посмотреть на ваши инженерные чудеса.
Он подошел поближе к склепанному сооружению. Оно не напоминало ничего стоящего, разве что машину для пыток пленников. Шест, служащий стержнем, при помощи шкивов и ремней был соединен с крестовиной. Четыре колеса от вагонеток, разделенные несколькими дюймами, крепились на шесте. Кроме того, здесь было бесчисленное количество медной проволоки, ранее служившей для птичьих клеток, а ныне выпрямленной в кузне соседней деревушки. Колеса могли свободно вращаться, заметил Дом Пауло, так как тормозные устройства пока были в бездействии. Куски железа были обмотаны бесчисленными витками проволоки – «обмотка поля», как назвал их Корнхоер. Дом Пауло торжественно покачал головой.
– Для аббатства это будет величайшее изобретение с тех пор, как сто лет назад мы поставили тут печатный станок, – гордо объявил Корнхоер.
– Но будет ли это работать? – засомневался Дом Пауло.
– Ставлю все свои месячные труды, милорд!
«Ты ставишь куда больше», – подумал священник, по подавил чуть не вырвавшиеся слова.
– Откуда пойдет свет? – спросил он, снова приглядываясь к странному сооружению.
Монах рассмеялся.
– О, у нас есть для этого специальная лампа. То, что вы видите – всего лишь динамо-машина. Она производит электрическую субстанцию, от которой горит лампа.
Грустно кивая головой, Дом Пауло прикинул, какое пространство библиотеки занимает динамо-машина.
– А нельзя ли, – пробормотал он, – извлекать ее, например, из кошачьей шкуры?
– Нет, нет… Электрическая субстанция – это… Вы хотите, чтобы я вам объяснил?
– Лучше не надо. Естественные науки – не мое призвание. Предоставляю заниматься ими вашим более молодым головам, – он поспешно отступил, чтобы его не задело брусом, который торопливо протащили мимо два послушника. – Скажи мне, – произнес он, – если, изучив бумаги Лейбовица, ты понял, как можно сделать такую машину, почему этого не понял никто из твоих предшественников?
Несколько секунд монах молчал.
– Объяснить это нелегко, – наконец сказал он. – В сущности, в тех рукописях, что дошли до нашего времени, нет прямых указаний, как построить динамо. Скорее можно считать, что информация разбросана по самым разным источникам. Имеется лишь ее часть. Об остальном пришлось догадываться. Но для этого нужно было обзавестись некоторыми рабочими теориями – информацией, которой не было у наших предшественников.
– У нас она есть?
– Да, так как… появилось несколько человек, таких как… – теперь голос его был преисполнен глубокого уважения, и он помедлил, прежде чем произнести имя, – как Тон Таддео…
– Ты совершенно уверен в своих словах? – почти мягко спросил аббат.
– Сравнительно недавно некоторые философы стали заниматься новыми физическими теориями. В сущности, то была работа… работа Тона Таддео, – у него в голосе снова появились нотки почтительности, заметил Дом Пауло, – которая и дала необходимые рабочие аксиомы. Например, его работа о Движении Электрической Субстанции и его Теория Конденсаторов…
– Ему, должно быть, будет приятно увидеть, как его мысли воплощаются в жизнь. Не могу ли осведомиться, где сама лампа? Я надеюсь, что она не больше этого динамо?
– Вот она, господин мой, – сказал монах, вынимая из стола небольшой предмет. Казалось, что он представлял собой лишь скобку, поддерживающую пару черных стерженьков и винт для их регулировки. – Это уголь, – объяснил Корнхоер. – Древние называли ее «дуговой лампой». Есть и другие виды ламп, но у нас не было материалов, чтобы сделать их.
– Восхитительно. Откуда же будет идти свет?
– Вот отсюда, – монах показал на пространство между угольками.
– Должно быть, огонек будет очень маленьким, – сказал аббат.
– Но каким ярким! Ярче, как я прикидываю, сотни свечей.
– Не может быть!
– Вы думаете, что он будет резать глаза?
– Я считаю абсурдом… – и, заметив страдальческое выражение на лице брата Корнхоера, аббат торопливо добавил: – Как мы привязаны к восковым свечам и искрам из кошачьей шерсти.
– Порой я задумывался, – застенчиво признался монах, – не использовали ли древние это освещение на алтарях вместо свечей.
– Нет, – сказал аббат. – Совершенно точно, что нет. Это я могу тебе сказать. Так что, прошу тебя, отбрось эту идею как можно скорее и никогда к ней не возвращайся.
– Да, отец аббат.
– А куда ты собираешься подвесить эту штуку?
– Ну… – брат Корнхоер помедлил, обводя внимательным взглядом сумрачное пространство подвального помещения. – Я об этом еще не думал. Я предполагаю, что она может висеть над тем столом, где Тон Таддео… («Почему он помедлил, прежде чем произнести это имя», – раздраженно подумал Дом Пауло)… будет работать.
– Лучше мы спросим об этом брата Амбрустера, – решил аббат и заметил, что монах смутился. – В чем дело? Неужели вы с братом Амбрустером…
На лице Корнхоера появилось извиняющееся выражение.
– Честное слово, отец аббат, я все время старался держать себя в руках. Да, мы обменялись парой слов, но… – он пожал плечами. – Он не хочет что-либо здесь менять. Он продолжает бормотать о колдовстве и тому подобное. Договориться с ним непросто. Он уже почти ослеп из-за того, что ему приходилось читать в полутьме – и все же утверждает, что наши дела – это дьявольские выдумки. И я не знаю, что ему сказать.
Слегка нахмурившись, Дом Пауло пересек помещение, направляясь к тому месту, где продолжал стоять брат Амбрустер, наблюдая за происходящим.
– Наконец ты добился своего, – сказал библиотекарь Корнхоеру. – Когда же ты сделаешь и механического библиотекаря?
– Мы уже нашли указания, брат, что в свое время были такие штуки, – пробурчал изобретатель. – В описании аналитических машин есть ссылки, что…
– Хватит, хватит, – вмешался аббат, а затем обратился к библиотекарю. – Тону Таддео понадобится место для работы. Что ты можешь предложить?
Амбрустер ткнул пальцем на раздел Натуральных Наук.
– Пусть читает на пюпитре, как и все.
– А как насчет того, чтобы он мог заниматься на более открытом пространстве, отец аббат? – торопливо выдвинул Корнхоер встречное предложение.
– За столом ему понадобятся абака, грифельная доска и место для записей. Мы можем отделить его временной ширмой.
– Я считал, что он направляется сюда, дабы ознакомиться с нашими комментариями по Лейбовицу и с более ранними текстами, – с подозрением сказал библиотекарь.
– Этим он и будет заниматься.
– Тогда, если вы дадите ему место в середине, он сможет ходить взад и вперед. Самые редкие книги прикованы цепями и далеко их не унесешь.
– Проблемы в этом нет, – сказал изобретатель. – Просто снять цепи. Они выглядят очень глупо. Еретические культы давно скончались или они почти неизвестны. Уже сто лет никто и не слышал о панкратианском военном ордене.
Амбрустер покрылся краской гнева.
– Обойдемся и без тебя, – рявкнул он. – Цепи останутся на своих местах.
– Но зачем?
– Они не для тех, кто сжигает книги. Теперь нам доставляют беспокойство деревенские. И цепи останутся.
Корнхоер повернулся к аббату и развел руками.
– Вы видите, милорд?
– Он прав, – сказал аббат. – В деревне порой ходят самые разные разговоры. Не забывай, что городской совет отнял у нас школу. Теперь они прибрали к рукам библиотеку в деревне и хотят, чтобы мы им заполнили полки. Лучше всего разными редкими книгами, конечно. И дело не только в этом – в прошлом году воры доставили нам немало хлопот. Брат Амбрустер прав. Самые редкие книги останутся на своих местах, прикованные к столам.
– Хорошо, – вздохнул Корнхоер. – Значит, он будет работать в алькове.
– И где же тогда ты повесишь свою волшебную лампу?
Монах оглядел кубатуру пространства. Оно представляло собой одно из четырнадцати совершенно одинаковых помещений, приспособленных для определенной цели. Над каждым альковом высилась арка, и на железных крюках, вмурованных в ключевой камень каждой, висело тяжелое распятие.
– Если он собирается работать в алькове, – сказал Корнхоер, – мы просто снимем распятие и временно повесим ее здесь. Другого выхода…
– Еретик! – прошипел библиотекарь. – Язычник! Осквернитель! – Амбрустер воздел к небу дрожащие руки. – Господи, помоги мне, а то иначе я растерзаю его своими же руками! Придет ли конец его измышлениям? Забери его прочь! Прочь! – он повернулся к ним спиной, не опуская дрожащих рук.
Дом Пауло и сам недоуменно моргнул, услышав предложение изобретателя, но сейчас он сурово нахмурился, увидев спину брата Амбрустера. Он никогда не ждал от него излишней кротости, которая вообще была чужда натуре Амбрустера, но сварливость строгого монаха уже переходила все границы.
– Повернитесь, пожалуйста, брат Амбрустер.
Библиотекарь повернулся.
– А теперь опустите руки и говорите поспокойнее, когда вы…
– Но, отец аббат, вы же слышали, что он…
– Брат Амбрустер, будьте любезны взять лесенку и снять это распятие.
Краска отхлынула от лица библиотекаря. Потеряв дар речи, он смотрел на Дома Пауло.
– Здесь не церковь, – сказал аббат. – Ничего лучше не придумать. Так что будьте любезны снять распятие. Похоже, что тут самое подходящее место для лампы. Позже мы повесим ее в другое место. Я понимаю, что все происходящее здесь вносит беспокойство в библиотеку и, может быть, плохо влияет на ваше пищеварение, но мы надеемся, что интересы прогресса требуют таких жертв. Если не так, то…
– Вы выкидываете Господа нашего, чтобы освободить место для прогресса!
– Брат Амбрустер!
– Почему бы вам не повесить эту дьявольскую лампочку ему прямо на шею?
Лицо аббата окаменело.
– Я не заставляю вас повиноваться, брат. После вечерни жду вас у себя.
Библиотекарь поник.
– Я принесу лестницу, отец аббат, – прошептал он и поспешил в глубь библиотеки.
Дом Пауло поднял глаза на распятого Христа в проеме арки. «Понимаешь ли Ты меня?» – подумал он.
В животе у него словно лежал камень. Он знал, что позже он даст знать о себе, и оставил помещение, прежде чем кто-либо заметил, как ему плохо. В эти дни он не мог позволить себе, чтобы обитель видела, как такое обыкновенное происшествие потрясает его.
На следующий день все было поставлено на свои места, но во время испытаний Дом Пауло пребывал в своем кабинете. Дважды ему пришлось беседовать с братом Амбрустером с глазу на глаз, а однажды он сделал ему публичный выговор на общем собрании ордена. И все же ему по-своему нравилось отношение библиотекаря к Корнхоеру. Обмякнув, он сидел за своим столом, ожидая новостей из подвальных помещений и не очень беспокоясь, удастся или нет эксперимент. Одну руку он держал спрятанной под рясой и мягко поглаживал живот, словно стараясь успокоить плачущего ребенка.
Опять его грызут спазмы. Они появлялись, когда ему угрожали какие-то неприятности, и исчезали, когда удавалось справиться со всеми сложностями. Но сейчас они прочно гнездились в нем и, похоже, исчезать не собирались.
Он услышал предупреждение, и это знал. Явилось ли оно от ангела, или от демонов, или же из глубин его собственного сознания, в нем ясно звучал призыв остерегаться и себя, и той реальности, которую он еще не видел в лицо.
«И что же дальше?» – подумал аббат, позволив себе беззвучную отрыжку и молча попросив прощения перед статуей святого Лейбовица, стоящей в задрапированной нише в его комнате.
Вокруг носа святого Лейбовица вилась муха. Казалось, что глаза святого, скосившись, следят за мухой, моля аббата прогнать ее. Аббату нравилась эта резная деревянная статуя двадцать шестого века, на лице ее блуждала странная улыбка, необычная для облика святого. В уголках рта улыбка исчезала, и брови Лейбовица были нахмурены, словно он тяжело раздумывал над чем-то, хотя глаза были окружены смешливыми морщинками. Через одно плечо была перекинута петля палача, и, может быть, поэтому выражение лица святого казалось загадочным. Возможно, оно было результатом легкой неправильности слоев древесины, которая требовала от руки резчика внимания к мельчайшим деталям, связанным со структурой древесины. Дом Пауло не был уверен, создавалась ли эта скульптура из живого дерева до того, как мастер приступил к окончательной отделке ее; в те времена терпеливый резчик порой начинал работу с подрастающим деревом и, проведя бесчисленные годы, подрезая, ошкуривая, сгибая и связывая растущие ветви, он, мучая живую древесную плоть, превращал ее в подобие дриады со сложенными или воздетыми руками, перед тем как срезать возмужавший ствол дерева и начать его резать и отделывать. Получающаяся таким образом статуя необычайно стойко сопротивлялась попыткам расколоть или сломать ее, так как большинство линий ее фигуры были созданы естественным путем.
Дом Пауло часто думал, не говорит ли деревянная скульптура Лейбовица, насколько успешно можно сопротивляться столетиям; на мысли эти его наводила столь странная улыбка святого. Эта легкая усмешка когда-нибудь станет причиной твоей гибели, предупреждал он статую… Конечно, святые могут себе позволить подсмеиваться над Небесами, псалмопевец говорит, что и сам Бог может позволить себе похихикать, что решительно не одобрял аббат Малмедди – упокой, Господи, его душу. Этакий велеречивый торжественный осел. Интересно, как ты терпел его? Ведь ты не ханжа. Эта улыбка… о чем она говорит? Мне она нравится, но… Когда-нибудь в это кресло сядет мрачное собакоподобное существо. И заменит тебя каким-нибудь гипсовым Лейбовицем, Долготерпеливым, который не будет коситься на мух. А тебя будут жрать термиты на складе. Чтобы дожить до тех времен, когда Церковь понемногу будет обращаться к искусству, ты должен обладать внешностью, которая может удовлетворить любого невзыскательного простака, и в то же время ты должен скрывать в себе нечто, доступное лишь взгляду проницательного мудреца. Поворот свершается медленно, то и дело разворачиваясь в обратном направлении, когда какой-нибудь новый прелат, обходя свои владения, заглядывает в кладовые и каморки и бормочет: – «А это барахло пора выкинуть». Им обычно нужна лишь сладкая кашица. И когда старая, как им кажется, закисает, нужно новое варево. Если Церковью пять столетий правили священнослужители с плохим вкусом, здравый взгляд воспринимается в такой обстановке, как варево из потрохов, и от него отказываются, место подлинного величия замещается дешевым украшательством.
Аббат стал обмахиваться веером из птичьих перьев, но прохлады это не принесло. Воздух из открытого окна напоминал горячее дыхание горна, источником которого была выжженная пустыня, и к этому еще добавлялось жжение в желудке, который раскаленными когтями разрывали то ли дьявол, то ли гневный ангел. Такая жара заставляет сходить с ума гремучих змей, она разряжается громовыми раскатами в горах, когда собаки бешено рвутся с цепей, а гнев человеческий выжигает все вокруг. Колики все усиливались.
– Поможешь? – громким шепотом обратился он к святому, без лишних слов излагая ему мольбу о прохладной погоде, о встрече с умным собеседником, об озарении, которое прояснит его смутное ощущение надвигающегося несчастья. «Может, из-за сыра, – подумал он. – Он весь оплыл и позеленел. Я должен последить за собой – перейти на легкую диету. Но нет, не в этом дело, – посмотри правде в лицо, Пауло, – не хлеб насущный вызывает у тебя такие ощущения, а то, чем питается твой мозг».
– Но что?
Деревянный святой не давал ему четкого и недвусмысленного ответа. Пустая болтовня. Его мозг лихорадочно связывал воедино отрывки. Пусть работает голова, когда приходят спазмы и мир тяжело наваливается на него. Сколько он весит? Вес у него есть, но ощутить его и измерить невозможно. Что-то неверно в этих подсчетах. В нем жизнь и труд, противопоставленный серебру и злату. Их никогда не удастся уравновесить. Грубо и безжалостно этот груз давит на тебя, и всю жизнь ты борешься с ним, и лишь изредка мелькнет тебе отблеск золота. Слепцы с завязанными глазами, короли пересекают пустыню, надеясь, что им выпадет удача.
– Нет, – пробормотал аббат, прогоняя от себя это видение.
«Да, конечно же», – настаивала деревянная улыбка святого.
Дом Пауло, слегка передернувшись, отвел глаза от его образа. Порой ему казалось, что святой подсмеивается над ним. «Издевается ли он над нами с Небес? – подумал он. – Святой Мэйси из Йорка – помнишь ли его, старик? – скончался от хохота. Это совсем другое. Он умер, смеясь над самим собой. Впрочем, не такое уж другое. УЛП! – снова его раздуло от беззвучной отрыжки. – Вот уж поистине, среда – день поминовения святого Мэйси. Хор благоговейно зайдется от смеха, когда вознесет «Аллилуйю» на мессе в его честь. – Аллилуйя, хо-хо! Аллилуйя, хах-ха!»
– «Святой Мэйси, заступник наш…»
И король явится в подвал взвешивать книги на чашах своих мошеннических весов. Насколько «мошеннических», Пауло? И почему ты считаешь, что Меморабилия совершенно свободна от ерунды? Даже одаренный досточтимый Боэдуллус заметил как-то с горечью, что половину ее собрания надо было бы именовать Сборищем Непостижимого. Здесь были в самом деле драгоценные отрывочные свидетельства мертвых цивилизаций – но сколько из них стали подлинным хламом, заботливо украшенным оливковыми листьями и ангелочками, над которыми трудились сорок поколений монастырских переписчиков, детей темных веков, многие из которых с младенчества жили среди непонимаемых ими посланий, зная лишь то, что их надо затвердить и донести до последующих поколений.
«Я заставил его проделать путь от Тексарканы сквозь опасные места, – подумал Пауло. – А теперь я волнуюсь, что мы ему сможем показать ценного, и это все, что меня волнует».
Нет, не все. Он снова посмотрел на улыбающегося святого. И снова: Vexilla regis inferni prodeunt [25]25
Выступают знамена Владыки ада (лат.).
[Закрыть].
«…И вознеслись знамена Владыки ада», – нашептала ему память какие-то искаженные строчки из древней commedia. Они гвоздем засели в мозгу.
Аббат еще крепче сжал кулак. Бросив веер, он втянул воздух сквозь сжатые зубы. Еще раз смотреть на святого ему больше не хотелось. Плоть его терзал огнем безжалостный ангел. Он наклонился над столом. В этом положении его не так жгло раскаленным железом. Тяжелое дыхание смело с поверхности стола налетевшую пыль пустыни. От ее запаха хотелось чихнуть. Розовый свет стал меркнуть в комнате, и ему показалось, что ее заполнили полчища черных комаров. «Я не могу больше бороться, и меня, кажется, сейчас вырвет – но Благословенный Патрон наш и Защитник, я вынужден. Я весь – суть боль. Эрго сум. Господь наш, Христос, прими сей дар».
Он изрыгнул рвотную массу, почувствовав ее соленый вкус, и упал головой на стол.
«Должен ли я выпить сей кубок, что преподносит мне Господь или я могу еще помедлить? Но распятие уже готово. Рано или поздно каждого ждут гвозди, которыми его распнут, и он будет висеть, а если ты попытаешься избежать этого, тебя забьют до смерти бичами, так что иди на крест с достоинством, старик. Если ты можешь не терять достоинства, когда тебя выворачивает, то ты можешь отправляться и на небеса в своем рубище»… – он чувствовал себя бесконечно виноватым.
Он долго ждал. Комары постепенно исчезли, скончавшись, а комната потеряла свои краски и стала сумрачной и серой.
«Ну что ж, Пауло, ты собираешься и дальше истекать кровью или же у тебя хватит сил еще немного подурачить мир?».
Он поборол обморочное состояние и поискал глазами лицо святого. На нем была все такая же легкая улыбка – грустная, всепонимающая, и в ней было что-то еще. Насмешка над палачом? Нет, улыбка для палача. Насмешка над самим сатаной. В первый раз он все отчетливо понял. И в последней земной чаше будет привкус триумфа.
Внезапно его одолела сонливость, лицо святого расплылось, но аббат продолжал улыбаться ему в ответ.
Незадолго до полунощной приор Галт нашел аббата лежащим на столе. Сквозь стиснутые зубы просачивалась струйка крови. Молодой священник быстро пощупал пульс. Дом Пауло сразу же пришел в себя, вытянулся на своем кресле и, словно все еще в полудреме, торжественно объявил: «А я говорю вам, что все это предельно смешно! Полное и абсолютное идиотство! Ничего не может быть более абсурдным!».
– Что абсурдно, Домине?
Аббат потряс головой и несколько раз мигнул.
– Что?
– Я сейчас же пришлю брата Эндрю.
– А? Вот это и есть абсурдно. Иди сюда. Что тебе надо?
– Ничего, отец аббат. Как только я найду брата Эндрю, я сразу же…
– Да перестань ты приставать ко мне с этими медиками! Просто так ты сюда не являешься. Мои двери закрыты. Прикрой их снова, садись и говори, что тебе надо.
– Испытания прошли успешно. Лампы брата Корнхоера, я имею в виду.
– Отлично, расскажи мне об этом. Садись и начинай. Расскажи мне все-все об этом, – он оправил облачение и вытер рот куском мягкой бумаги. Голова у него по-прежнему кружилась, но руки ныне спокойно лежали на животе. Его не очень волновал рассказ приора, как прошли испытания, но он приложил все силы, чтобы казаться внимательным и учтивым. «Попридержать его здесь, пока я не приду в себя настолько, что начну соображать. И не давай ему пойти за медиком – пока на надо, новости могут разнестись: со стариком все кончено. Ты сам решишь, приспело ли время для этого или нет».








