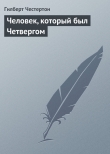Текст книги "Взрыв в Леонтьевском"
Автор книги: Теодор Гладков
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
– Азов, Соболев и Ценципер.
– С повинной придут?
Лямин хмыкает:
– Придут… С динамитом.
Дзержинский видит, что арестованный очень устал, сейчас он начнет сбиваться и путать. Задает потому последний вопрос:
– Какие вы знаете конспиративные квартиры?
– Кроме арбатской и в Глинищевском только одну – Гарусова. Собачья площадка, шесть. Есть еще где-то на Рязанском шоссе и в Тестове. К Гарусову еще ходят на службу на Казанский вокзал.
Из того, что рассказал Лямин, чекистам многое уже было известно. Но значение все равно имело существенное, так как подтверждало косвенно правдивость той части его показаний, которая содержала новую информацию. А таковая представляла значительный оперативный интерес.
Дзержинский вызвал конвоира. Уже в дверях Лямин вдруг остановился и обратился к председателю МЧК:
– Дзержинский, из-за меня арестовали моего младшего брата. Он ни при чем. Прошу его освободить.
Феликс Эдмундович ответил откровенно:
– Если ваш брат ни в чем не виноват, его освободят и без вашей просьбы. Но я обещаю лично проследить…
Лямина увели. Дзержинский подошел к Манцеву:
– Если их было и в самом деле тридцать три человека, примем – около сорока, значит, на свободе еще гуляют два десятка террористов… Уже испробовавших вкус крови. Значит, вдвойне опасных…
Глава 15
Еще не взятая под наблюдение квартира Гарусова на Собачьей площадке. Кроме хозяина в комнате Донат Черепанов, меланхоличный, с отсутствующим взглядом Вася Азов, мрачный, с тюремными замашками Яков Глагзон. Здесь же брат хозяина, крепкий молчаливый парень, выполняющий функции охранника.
Как только начинается серьезный разговор, Гарусов приказывает брату:
– Ну-ка, Антон, давай к дверям.
Антон уходит в прихожую и занимает там место на табурете, крутя на указательном пальце наган-самовзвод.
Черепанов, не снимая пальто, нервно расхаживает по комнате, говорит быстро, с ноткой истеричности:
– Теперь месть и месть! За Соболева и Ковалевича. Вы знаете, к чему готовился Петр, и мы осуществим его план. Леонтьевский взбудоражил Москву, теперь пусть содрогнется вся Россия!
Азов вздохнул:
– Людей мало.
Гарусов подтвердил:
– Чека еще восьмерых замела.
Уныло вопросил Вася:
– А кто большой акт рассчитает? Мне одному шестьдесят пудов не заложить… И подземку знал только Петр.
Откашлявшись, вступил в разговор Глагзон:
– Проводника я достану… Есть один человек на примете на Цветном бульваре. Митя-Уши, извиняюсь, Дмитрий Хрипунов. Москву знает как никто. В шестнадцатом году через подземку брал кассу купца Брыкина на Самотеке и мастерскую ювелира Фаберже.
Гарусов недовольно поморщился:
– Опять с блатными связаться…
Взорвался Глагзон, заорал неистово, так, что сунул нос в комнату из прихожей встревоженный Антон:
– А ты, Михаил, свое чистоплюйство брось! Ваш Филин что, лучше? Да, за нами идет армия преступников. Ну и что? У нас общая цель, мы разрушаем общество современное, и они разрушают. Вся и разница, что мы выше этого общества, а они ниже. Мы приветствуем всякое разрушение, всякий удар, наносимый нашему врагу.
Зааплодировал одобрительно Черепанов:
– Хорошо сказал Глагзон! Давай, зови этого самого Хрипунова.
…Следующий день выдался холодный и дождливый. Около полудня у круглой афишной тумбы примерно на углу Столешникова переулка и Петровки встретились четыре человека: Черепанов, Азов, Глагзон и невзрачного вида оборванец явно хитрованского происхождения. От него и пахло соответственно. С нескрываемой брезгливостью, даже отвращением рассматривал Черепанов босяка, словно шагнувшего сюда прямо из мизансцены знаменитой пьесы писателя Горького «На дне».
Перехватив его выразительный взгляд, Глагзон поспешил успокоить эсера:
– Прошу любить и жаловать, сам Митя-Уши (точно, из-под мятого картуза у Хрипунова выпирали хрящеватые, оттопыренные, словно у летучей мыши, уши). Лучше его подземную Москву не знает никто.
– Совершеннейшая, натуральная правда, господин хороший, – подобострастно заверещал Митя, То и дело оглядываясь на Глагзона, которого, похоже, смертельно боялся. При каждом выдохе он извергал терпкий аромат денатурата. – Как, значит, Яков Евсеич справедливо рекомендуют. С нашим к вам почтением проведу в наилучшем виде куда пожелаете. Угодно, к «Елисееву», к «Ферейну», угодно, в «Мюр и Мерилиз».
– Нам угодно в Кремль, – жестко оборвал его Черепанов.
С лица Хрипунова, словно влажной тряпкой мел с доски, стерло дурашливую ухмылку. В глазах смешались удивление и страх. И сразу стало видно, что он не такой уж босяк, каким прикидывается. Эту метаморфозу углядел и Донат. Глаза его сузились.
– Ну?! – шепотом, но со скрытой угрозой спросил он.
– Можно, – коротко, уже без тени хвастовства и ерничанья ответил налетчик.
Быстрыми шагами все четверо направились в глухой, безлюдный товарный двор Солодовниковского пассажа. Остановились возле канализационного люка, закрытого железной решеткой. Вытащив из-под полы давно потерявшего и цвет, и форму бушлата стальной, загнутый на конце ломик, Митя ловко поддел им решетку и оттянул в сторону. Донат глянул вниз: в колодце тускло отблескивала темная, с затхлым запахом вода.
– Тут неглубоко, – заверил Митя-Уши, – водичка только на дне, под самой решеткой. Дале посуше будет. Значит, так, я поперед полезу, а вы следом. Тут в стене скобочки есть, держитесь покрепче.
Зажав в сухом кулачке огарок свечи, Хрипунов ловко заскользил в подземелье. За ним Черепанов и Азов. Последним, кряхтя, пытаясь ужаться, чтобы не застрять в узком лазу, спустился громоздкий Глагзон. Задвинул за собой железную решетку.
Пустой, унылый товарный двор…
Меж тем в комендатуре МЧК, где постоянно находилась в боевой готовности дежурная группа ударного отряда, тянулся обычный рабочий день. Густо завис под потолком сизый махорочный дым. Горой высился на дощатом столе огромный жестяной чайник с кипятком. В углу, возле столика с телефонным аппаратом, – переносная пирамида для карабинов, в углу – ручной пулемет «льюис». Приятно разморенные теплом, однако, не снимая портупеи с кобурами, чекисты пили пустой морковный чай. Это только в кинофильмах, снятых десятилетия после окончания гражданской войны, все сотрудники ЧК сплошь щеголяли в новеньких хрустящих кожанках. Увы, на самом деле тужурки из тугого хрома носили считанные единицы, особо отличившиеся в боевых операциях комиссары. По постановлению партячейки остальные кожаные костюмы были сданы для нужд фронта. Точно так же отчисляли в отдельные месяцы семидневную получку сахара, однодневный паек хлеба и трехдневное жалованье. Вот почему большинство чекистов носило ту одежду, в какой пришло в МЧК, – кто из армии, кто от станка, кто со студенческой скамьи. В общем, одевались если не бедно, то и не лучше, чем тот же рабочий и служилый люд на улицах.
Вошли в комнату из глубины здания Манцев и Мартьянов. Василий Николаевич торопился в МК партии с докладом о серьезном факте саботажа, только что вскрытом чекистами. Для срочных работ на фронте потребовались гвозди в количестве 1200 пудов и другие строительные материалы. Организация, ведающая снабжением фронта, в этой заявке отказала. «Нет гвоздей, и все тут». Однако чекисты обнаружили на складах одного лишь Икшонского завода этих самых гвоздей аж… 7000 пудов! Вот Манцев и направлялся в МК, чтобы решить вопрос о немедленной ревизии еще нескольких центральных учреждений, в том числе Главлескома, Продамета, Главнефти, Главкожи.
Чекистские проверки обнаруживали не только припрятанные гвозди, мануфактуру, сахар, сапоги. При обыске одной квартиры на Большой Алексеевской улице были изъяты, а затем переданы комиссариату просвещения скрипка мастера Гварнери, скрипка мастера Амати, альт и два смычка мастера Руджери…
Прощаясь с Мартьяновым, Манцев на секунду задержался и подчеркнул напоследок:
– Еще вот что, Феодосий. Соболев убит, Ценципер (он постучал каблуком в пол) у нас… Выходит, у них остался один-единственный настоящий арсенальщик – Азов. Возьми под присмотр всех, кто им может помочь в этом деле. Мне кажется, я даже убежден, что они станут, непременно станут искать бомбиста.
– Понял, товарищ Манцев.
…Шлепая по грязной жиже, бредут гуськом по каменной трубе четверо. Тускло подрагивает пламя свечи, отбрасывая на сферические стены и потолок уродливые колышащиеся тени. Вдруг страшный грохот над головой заставил Черепанова вздрогнуть и схватиться за рукоятку нагана.
– Не боись, – поспешил успокоить его Митя-Уши, – то мы с-под тротуара под мостовую вышли. Видать, груженая телега проехала.
Черепанов в изнеможении стер со лба то ли пот, то ли влагу подземелья… Четверо пошли дальше. Наконец Митя остановился у решетки, перекрывающей ответвление в сторону.
– Малый театр прошли, – сообщил он, – сейчас аккурат под Воскресенской площадью. Дальше пойдут лазы к Никольской башне и Кавалерскому корпусу.
– Значит, саженей двести? – спросил Донат.
– Ну!
– И можно пройти?
– Ну! Только уже не в полный рост, а скорчимшись.
– Ясно, – потоптавшись в грязи, заглянув еще раз в черноту за решеткой, Черепанов решительно скомандовал: – Хватит! Возвращаемся…
Часом позже, насилу очистившись от грязи и нечистот, отослав Митю-Уши в его берлогу на Цветном бульваре, Черепанов, Азов и Глагзон продолжили разговор.
– Петр, царствие ему небесное, говорил, что шестидесяти пудов динамита хватит, – напомнил Донат.
Азов рассердился – он не терпел некомпетентных суждений обо всем, что касалось взрывов.
– Ну, что Петр, Петр! Может, и двадцати пудов хватит, а может, и ста мало! Это не бомбу снарядить, тут точный расчет потребен. И как шашки расположить (показывает руками), в каком порядке… Какое взрывное устройство поставить. Шутка ли, такую махину поднять. Здесь спец нужен настоящий.
Какое-то время трое идут молча. Вдруг Донат останавливается, чуть небрежно, вроде бы вскользь, говорит Глагзону:
– Вот что, Яков… Боюсь, у этого твоего Мити не только уши, но и язык длинный…
Глагзон равнодушно кивает головой:
– Понял. Украдем.
Словечко было из махновского жаргона. «Украсть» в окружении батьки означало «убить»…
Вдруг и разом оборвалась благодушная тишина в комендатуре МЧК. Захлопали входные двери, слились топот сапог, грохот прикладов об пол, гомон возбужденных голосов… То вернулась с задания, завершившегося короткой, но злой перестрелкой, группа чекистов под командованием самого Мартьяныча, как называли между собой Феодосия бойцы ударного отряда. (После ухода Манцева он тоже уехал к Савеловскому вокзалу, где его уже ожидали в укромном месте участники намеченной в большом секрете операции.)
Еще не остывший после схватки Феодосий выгрузил на стол перед дежурным помощником коменданта груду револьверов, пистолетов, финок, гранат, документов и денег. Выложили не вместившееся в карманы оружие и другие бойцы.
– Ого! – уважительно отозвался дежурный. – С полем тебя, товарищ Мартьянов. Неужто с бандой Айдати кончили?
– С ним, гадом! Считай, после Кошелькова и Сабана последний крупный главарь оставался. Целый год всю Бутырскую и Петровский парк в кулаке держал. Четыре кооператива и двух убитых милиционеров за ним числил…
– Даешь, Мартьяныч! – восхищался дежурный. – А теперь жми к Манцеву. Он как из МК вернулся, уже два раза тебя спрашивал.
– Иду…
Через пять минут Мартьянов уже докладывал заместителю председателя МЧК о ликвидации опаснейшей банды рецидивиста Дмитриева, известного в уголовном мире под кличкой Айдати. Факт сам по себе отрадный и значительный – действительно, крупных, хорошо организованных, подвижных и крайне жестоких банд в Москве теперь не существовало. Конечно, бандитов, воров, спекулянтов, скупщиков краденого оставалось еще хоть пруд пруди, но уже одиночек, небольших шаек. Бороться с ними было куда легче и МЧК и угрозыску. Но меньше всего Феодосий собирался утешаться и довольствоваться этим бесспорным обстоятельством. Его волновало нечто совсем другое, и об этом другом он и заговорил с Манцевым незамедлительно после завершения обязательного и очень сжатого доклада о том, как он вышел на ту квартиру на Селезневке, где укрывалась головка банды.
– Понимаете, Василий Николаевич, – излагал суть дела Мартьянов, – я давно приметил, что очень уж шустро уходил от нас каждый раз этот самый Айдати. Хлоп! – взял кассу – хлоп! – и нету его, словно корова языком слизнула. И ни одной осечки… Кошелькова банду ликвидировали, и Сабана, и Гришки-Адвоката. Этот – как заговоренный. А у него, оказывается, документ! – Мартьянов шлепнул на стол перед Манцевым найденный в карманах убитого мандат. – Пожалте! Командир Третьего Татарского стрелкового полка. Бланк, печать – настоящие. А среди трупов бандитских подарочки и того краше… Один оказался наш сотрудник Гец, другой комендант Сущевского военкомата Желобов. Еще одного живым взяли. Установили личность – милиционер первого Бутырского комиссариата Смирнов. То-то они каждый наш шаг наперед знали! Чуяло мое сердце, захват готовил в секрете, людей отбирал лично, на операцию поехал, сказал, что домой обедать…
У Манцева окаменело лицо. Он знал, конечно, о случаях, и далеко не единичных, проникновения и контрреволюционеров, и просто уголовников в советские органы и учреждения. Вот только что, 16 сентября в Ревтрибунале закончилось рассмотрение дела нескольких бывших чинов Центророзыска, оказавшихся пособниками бандитов. Помнил и дело Центротекстиля, когда предателями были два сотрудника ВЧК. Относиться философически спокойно к подобным фактам было невозможно. Каждый такой случай Василий Николаевич, человек честнейший, воспринимал как личное оскорбление и переживал соответственно. Чистота чекистских рядов была, в его представлении, основой основ всей деятельности чрезвычайных комиссий. Партия направляла на работу в ЧК самых закаленных, проверенных, безукоризненных во всех отношениях товарищей. Казалось бы…
Да, он понимал прекрасно, что враги, ненавистники Советской власти, наконец, проходимцы всех окрасок, каких всегда поднимает волна бурных общественных катаклизмов, непременно будут стремиться проникнуть и в правящую партию, и в Советы, и конечно же в ЧК. Этого следовало ожидать, это можно было предвидеть, этого следовало не допускать ни в коем случае, и об этом нужно было помнить днем и ночью…
Взвешивая каждое слово, тяжело произнес Манцев продуманное уже тысячу раз:
– Видишь ли, товарищ Мартьянов… Каждая революция имеет одну неприглядную, хотя и преходящую черту: появление на сцену всяких проходимцев, наемных дельцов, авантюристов, просто преступников, примазывающихся к власти с корыстными или иными преступными целями. Они причиняют революции колоссальный вред.
– Уже и к нам пролезли, гады!
– Пролез негодяй Гец. Но подозревать врага в каждом нашем товарище негоже. Задача ЧК в борьбе с врагами революции, а не в создании этих врагов там, где их нет. Горе тому чекисту, который станет на этот путь. Подозрительность в нашем деле гибельна. Мы должны быть бдительны и решительны в нашей борьбе с контрреволюцией, но и осторожны.
Мартьянов остывает:
– Вы правы, конечно, товарищ Манцев. Нельзя о товарищах плохо думать, только и за одного такого Геца обидно.
– Мне тоже. А как он у нас оказался – выясним. И с виновных спросим. Хорошо спросим, не сомневайся!
…Именно Манцева партия всего через несколько недель назначила на ответственную должность начальника Центрального управления чрезвычайных комиссий Украины, когда потребовалось решительно очистить их от проникших туда в неимоверном количестве чуждых и даже прямо вражеских элементов. Манцев справился тогда с этим поручением. Ответственным и горьким. Горьким, потому что он был одним из немногих, кто понимал в полной мере и осознавал опасность, которую мог представить чекистский меч, попавший во вражеские руки. Именно эти руки срубили через двадцать лет его красивую голову…
Почти в этот самый час Дзержинский и Мессинг ехали на открытой машине от Калужской заставы к себе на Лубянку. Когда раскрылась перед ними великолепная панорама Кремля, председатель МЧК тронул за плечо шофера:
– Остановитесь на минутку, товарищ Кудеяр.
Несколько мгновений Феликс Эдмундович откровенно любовался дивной красотой.
– Хорош наш Кремль, Станислав Адамович, а?
– Хорош, и впрямь хорош.
– Есть в нем что-то очищающее и возвышающее душу.
– Олицетворение национального духа и самосознания народа в камне.
– Верно… Белогвардейцы это тоже понимают. Не случайно на деникинских деньгах изображен Царь-колокол…
Губы Дзержинского тронула слабая улыбка:
– А знаете, до революции я в Кремле был всего один раз. Весной шестнадцатого года меня с Уншлихтом и другими товарищами из Таганской тюрьмы пешком пригнали в Московскую судебную палату. Теперь в этом здании Совнарком. К отбытому сроку добавили еще три года каторги.
Мессинг оживился:
– Значит, видели то место, где Каляев убил великого князя Сергея Александровича?
– Видел… Это почти сразу за Никольскими воротами… Бессмысленное убийство, бессмысленная жертва. Я имею в виду казненного Каляева, конечно, а не дядю царя.
Станислав Адамович рассудительно возразил:
– Не такое уж бессмысленное, если вспомнить, что бомбу террорист получил из рук Азефа и Савинкова. Скорее, политическая провокация.
– Пожалуй, – согласился Дзержинский. – Тем более жаль несчастного Каляева… И он, и Егор Сазонов, убивший министра Плеве, искренне верили, что народ откликнется на их подвиги новым бунтом.
– А в итоге лишь скверный анекдот родился. Дескать, великий князь впервые в жизни раскинул мозгами.
Дзержинский завершил недолгий разговор:
– И новые виселицы на тюремных дворах…
Тронул водителя за плечо:
– Спасибо. Поехали.
Неслышно двинулся с места автомобиль, набрал скорость.
Председатель МЧК обратился к Мессингу уже обычным своим, деловым тоном:
– Как обстоит сейчас дело с охраной Кремля?
– Оснований для беспокойств нет. Комендант Мальков в контакте с нами порядок навел.
– Флотский? – с улыбкой спросил Дзержинский, намекая на моряцкое прошлое Павла Дмитриевича Малькова.
– Вот именно. Система пропусков и контрольных постов продумана. Круг лиц, имеющих право выписывать разовые пропуска, ограничен до минимума. Все грузы, ввозимые в Кремль, досматриваются. Бойцы охраны надежный народ, партпрослойка значительная. Полагаю, что сегодня посторонний может проникнуть в Кремль разве что по воздуху…
Машина внезапно и ощутимо подпрыгнула: колесо прошлось по плохо подогнанному канализационному люку. Встрепенувшись от толчка, Дзержинский негромко, скорее всего не собеседнику, а самому себе, добавил:
– Или под землей…
Глава 16
По давно не убираемой почти исчезнувшими в Москве дворниками, потому грязной Пречистенке Вересков шел в сторону Пречистенского бульвара. Намерения у него были в тот день самые прозаические: добиться у то ли еще настоящего, то ли уже бывшего военного начальства решения вопроса о своем дальнейшем существовании. В конце концов, два месяца, что ему положен фронтовой паек, пролетят, а что дальше? Да и эти два месяца ему бездельничать никак не улыбалось. С него вполне хватило того сомнительного отдыха, что он отбыл после выписки из госпиталя.
Тетушка уже деликатно выспрашивала, не хотел бы Сергей пойти на работу в систему Наркомпроса. От самого слова «система» Верескова бросало в дрожь, но преподавать словесность в старших классах он взялся бы с удовольствием. Правда, предварительно пришлось бы изрядно заняться восстановлением растерянных за пять лет войны знаний и профессиональных навыков.
Татьяна, хотя прямо он с ней на эту тему не говорил, косвенными намеками дала понять, что одобрила бы его возвращение в школу – главным образом потому, как он чувствовал, что недолюбливала все, относящееся к армии, особенно его закоренелые «офицерские манеры».
День был холодный, порывами хлестал октябрьский ветер, гоня по тротуару опавшие листья. Сергей уже сворачивал на бульвар, когда с другой стороны улицы его окликнул чей-то забытый голос:
– Поручик Вересков!
Он поднял голову, и губы его раздвинулись в улыбке:
– Старший унтер-офицер Мартьянов?
Чекист довольно ухмыльнулся и перебежал неширокую Пречистенку. Давние сослуживцы крепко пожали друг другу руки. Потом нарочито недовольным тоном Феодосий спросил:
– И когда ты перестанешь дразнить меня унтером?
– А ты тоже хорош: «поручик Вересков»! Ты бы уж проще обратился: «Ваше благородие!»
Они оба рассмеялись и долго еще хлопали друг друга по плечам. Видно было, что употребление давно отмененных чинов и титулований стало для них когда-то своеобразной игрой, понятной лишь им одним и довольно-таки странной для наблюдателя со стороны.
Наконец, Вересков отстранился, пристально вглядываясь в Феодосия:
– Смотрю, настроение у тебя хорошее!
– А как же! Орел взят, а вчера освобожден и Воронеж!
– Да ну! Вот здорово! – по-детски обрадовался и Вересков.
– Считай, перелом на Южном фронте наступил, – авторитетно заявил Мартьянов, – теперь погоним Деникина. А ты давно в Москве, и вообще, каким ветром?
– Сыпнотифозным, – Вересков враз поскучнел. – Два месяца отвалялся в Лефортовском госпитале. Потом дали месяц для полной поправки, потом добавили. Теперь вообще повис между небом и землей. Вот собрался к Кедрову… А живу я тут неподалеку у тетки, на Большой Царицынской.
– Здорово зацепило?
– Хорошо зацепило… Осколки в грудь, плечо, голову. Ну, и тиф.
– Ясно, – Мартьянов с любовью разглядывал бывшего командира своей роты на румынском фронте. – Слушай, Сергей Николаевич, – предложил он, – тут за углом кофейня имеется. Кофе, конечно, не то ячменный, не то из дубовой коры. Но мокрый и горячий, а сахар у меня свой имеется. Посидим?
– Ну, – рассудительно согласился Сергей, – если сахар свой, в смысле твой, то отчего же не посидеть.
Не доходя Арбата, Мартьянов и Вересков спустились в обшарпанное полуподвальное помещение, что почти напротив андреевского памятника Гоголю, и заняли места за угловым столиком. Полусонный половой неспешно принес им кофейник с ячменным кофе. В тот голодный год кофейня не прекратила свое существование лишь потому, что превратилась в столовую для служащих некоторых близлежащих советских учреждений. Скудные обеды отпускались в установленное время по талонам. Прочие посетители могли претендовать фактически лишь на кипяток в двух обличьях: кофе и чая. Мартьянов и Вересков, не имея, разумеется, никаких талонов, ни на что, кроме так называемого кофе, и не претендовали.
Феодосий извлек из кармана парусинового плаща тряпицу, в которой обнаружились кусок голубого сахара-рафинада и ломоть подсохшего серого хлеба.
– Так когда ж мы виделись с тобой в последний раз, Сергей, а? – спросил Феодосий, ловко раскалывая сахар на чугунной ладони точными ударами большого складного ножа и вбрасывая в рот почти невидимые крошки.
– Да, пожалуй, с мятежа левых эсеров.
– Точно, слух был, ты потом в Поволжье отличился?
– Да вроде бы, – Сергей смущенно улыбнулся-Сыграл на давних связях с эсерами, довоенных знакомствах.
Тут самое время дать некоторые пояснения. Вересков и Мартьянов действительно были сослуживцами аж с пятнадцатого года, когда первый носил погоны всего лишь прапорщика, а второй – младшего унтер-офицера. Два года они воевали в одной роте, были ранены, получили награды, соответственно прапорщик, ставший к концу шестнадцатого года поручиком, – св. Анны и Станислава, а младший унтер-офицер, дослужившийся до старшего, – два солдатских Георгиевских креста.
Постепенно они сблизились, со временем, незаметно для постороннего взгляда, поскольку это категорически возбранялось в царской армии, стали друзьями. Причиной была не только взаимная симпатия (что, конечно, тоже немаловажно), но и нечто более серьезное: и Вересков, и Мартьянов давно уже, еще до армии, активно участвовали в революционном движении. Сергей, как многие российские интеллигенты в маленьких провинциальных городках, принадлежал к левому крылу партии эсеров, Феодосий был, разумеется, большевиком. Поручик и старший унтер-офицер много времени (естественно, с учетом фронтовых условий) проводили в политических разговорах. Частично под их влиянием, но больше – под влиянием самих событий Вересков перешел на большевистские позиции, а летом 1917 года, будучи избранным вместе с Мартьяновым в полковой комитет, вступил в РСДРП (б) и формально.
Летом 1918 года они встретились в Москве, принимали участие в ликвидации мятежа 6 июля, а уже 7-го Вересков был с важным разведывательным заданием направлен на Волгу, где развязал кровавую авантюру бывший эсеровский кумир Борис Савинков…
– Так что было после Ярославля? – продолжал расспросы Феодосий.
– Снова фронт. Когда создали особые отделы, получил назначение в 16-ю дивизию Василия Киквидзе. Остальное ты знаешь.
– А дальше куда?
Вересков помрачнел.
– Дальше худо, – откровенно признался он другу. – Комиссовали. Фронта не видать. Ограниченно годен для службы в тылу, да и то через два месяца… Вот собрался в Особый отдел, к Михаилу Сергеевичу Кедрову. Попрошу работу по силам. Не дадут – пойду в школу, по гражданской профессии. Ты же помнишь, я учитель.
– Помню, конечно.
Мартьянов допил кофе, скрутил толстую цигарку. Пахнув крепчайшим махорочным дымом, спросил просто так, на всякий случай:
– Слушай, ты часом такого эсера, Гарусова, не знавал?
Верескову и припоминать ничего не потребовалось.
– А как же! Он, если жив, небось по сей день считает меня за эсера из саратовского комитета.
– Он жив… Что за человек?
– Злой, решительный, однако чтоб умен, так не очень. На первые роли не годится, но на вторых силен. Кстати, мы с ним еще прапорами одно время в запасном полку пребывали, но потом его как путейского телеграфиста куда-то отозвали…
Заслышав последние слова Верескова, Мартьянов в возбуждении едва не поперхнулся едким дымом:
– Выходит, он тебя и как военспеца знает?
– По-видимому. А что особенного?
Мартьянов разволновался:
– Погоди, Сергей, погоди… Тут одно дело набрякло, и ты можешь сгодиться.
– Что за дело?
– Извини, друг. Никак сказать не могу. Надо начальству доложить. Словом, к тебе такая просьба будет: на Лубянку пока не заходи, боже упаси. Завтра я тебя сам разыщу.
Мартьянов извлек из кармана замусоленную записную книжку и огрызок карандаша.
– Ну-ка, диктуй теткин адрес…
Ни Мартьянов, ни Вересков не заметили, что время от времени в их сторону поглядывал настороженно благообразного вида немолодой человек с бородкой клинышком, неприметно приткнувшийся за дальним столиком. А между тем, вглядись в него Сергей попристальнее, вполне мог бы и узнать: тот самый мужчина с огромным черно-белым бантом на груди, что пытался окликнуть Татьяну на выходе из Колонного зала Дома союзов.
…Крайне возбужденный, можно сказать, ликующий Мартьянов буквально ворвался в кабинет степенного, в высшей степени сдержанного в проявлении эмоций Мессинга. Закричал еще от дверей:
– Станислав Адамыч! Тут такое дело!
– Здравствуйте, Феодосий Яковлевич! – спокойно ответствовал Мессинг.
– Ох, здравия желаю, Станислав Адамович, – смущенно спохватился Мартьянов, но тут же снова загорелся: – Тут такое дело, линия на комбинацию намечается…
При этих словах начальник отдела по борьбе с контрреволюцией выразил некоторую заинтересованность:
– Излагайте.
– Иду, значит, я по Пречистенке, а навстречу Сергей Вересков, – начал Феодосий азартно.
– Это, видимо, очень известный человек, – совершенно серьезно вставил Мессинг, – но мне о нем слышать не приходилось.
Мартьянов смутился лишь на мгновение. Но, тут же сообразив, что к чему, придвинулся ближе к Станиславу Адамовичу и продолжил уже более связно:
– Вересков – это наш чекист, вернее, армейский особист. В германскую мы с ним служили вместе, он ротный, а я взводный. Вместе и в полковом комитете были после Февраля. Но не в это дело. Одно время Вересков был начальником полковой минной команды, а Гарусов тогда же…
С каждым словом Мартьянова Мессинг становился все серьезнее и серьезнее. Наконец он жестом остановил увлеченного рассказом Феодосия, поднял трубку телефонного аппарата и приказал дежурному:
– Это Мессинг. Соедините с председателем…
Глава 17
Комната, в которой разместился агитпроп, от других служебных помещений Моссовета отличалась тем, что от пола до потолка почти вдоль всех стен была завалена грудами книг, брошюр, перевязанными бечевкой кипами листовок. Да и посетителей в агитпропе бывало много больше, нежели в других отделах. Сюда приходили люди с заводов и фабрик, частей Московского гарнизона, советских учреждений за литературой, с заявками на лекторов и докладчиков. Приходили запросто и рядовые пропагандисты из партячеек, если требовалось проконсультироваться по какому-либо важному вопросу внутренней и внешней политики, положению на фронтах, вообще, как тогда говорили, текущему моменту. Словом, зайти в агитпроп мог кто угодно с улицы, благо никаких пропусков не требовалось.
Вересков и заходил сюда с некоторых пор каждодневно. То, что он любит эту девушку, Сергей понял, изумительно отчетливо и убежденно, при прогулке у Новодевичьего монастыря. Понял и то, что его внезапное озарение для Тани очевидно как божий день уже после первого их свидания. Сергей не сомневался, что Татьяна, при характере независимом и решительном, ни на какие свидания с ним нипочем не согласилась, если бы он ей не нравился тоже. Так выходило по логике. Правда, он не был уверен, что в таком деле, как любовь, законы логики имеют хоть какую-то силу. В конце концов, не мудрствуя лукаво, Вересков решил действовать так, как действовали до него миллионы, то есть по принципу «будь что будет».
Когда он вошел бочком, деликатно, чтобы не потревожить всегда безмерно занятых Таниных сослуживцев, девушка разговаривала по телефону, терпеливо успокаивая невидимого собеседника:
– Ты, товарищ Царт, не шуми. Докладчик вам выделен, записывай: товарищ Донченко… Это не он, а она… Ну да, женщина. А ты что, против? Нет? Тема – текущий момент. Все.
Таня повесила трубку и только теперь заметила Верескова, застывшего у двери. Обрадованно замахала ему рукой:
– Заходи, Вересков, я сейчас.
Торопливо, по свежим следам телефонного разговора сделала отметку в рабочей тетради. Ни она, ни Сергей не заметили острого взгляда, которым мгновенно смерил краскома с головы до ног сотрудник, занимавший стол у дальнего окна, – немолодой, с бородкой клинышком. Уже дважды их пути пересекались: у Дома союзов и в кофейне против памятника Гоголю, куда заходил Вересков с Мартьяновым. Человек, без сомнения, узнал Сергея, но сам, видимо, узнанным быть не пожелал, почему и укрыл быстро лицо развернутой газетой.
Меж тем, покончив с записями, Таня торопливо прошептала:
– Сереж, билеты есть на представление в клубе «Прохоровки»…