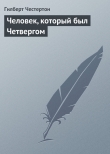Текст книги "Взрыв в Леонтьевском"
Автор книги: Теодор Гладков
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Анархист, хоть и был лет тридцати, а то и старше, похоже, обладал отменным здоровьем, да и бегать умел. В ужасе шарахнулись от него прохожие, когда он пулей промчался мимо дома знаменитого булочника Филиппова, пересек, едва не поскользнувшись на трамвайном рельсе, узкую Тверскую и устремился к Страстной площади… На какое-то мгновение он задержался, но тут же, выпустив назад еще две пули, свернул в длинный Гнездниковский переулок. Это было рискованно – в Гнездниковском располагалось управление московской милиции. Но резон определенный был: отсюда начиналась паутина прихотливых переулков, со множеством проходных дворов, церквушек, старых городских усадеб с запущенными садами. Проскочи он опасное место – и вполне можно уйти, раствориться, сгинуть бесследно. Ищи потом ветра в поле…
Но ему не повезло. Не повезло и молодому сотруднику милиции, выходившему в этот самый момент на улицу. Поняв, что происходит, милиционер сделал попытку задержать беглеца, успел даже схватить его за рукав, но, получив в упор пулю в грудь, рухнул замертво на мостовую. Но все же именно эта секундная задержка и решила судьбу бандита. Соскочил с мотоцикла подъехавший по редкому стечению обстоятельств к управлению сам начальник московского угро, вчерашний чекист Трепалов, кинулся наперерез… Теперь беглец оказался меж двух огней. Он швырнул гранату, но, как и Ковалевич, не успел выдернуть чеку, а в следующую секунду и сам был сбит навзничь двумя пулями из маузера начальника угро.
Первым к нему подбежал Савушкин. Даже ему, видевшему в своей жизни всего одного убитого, сразу стало ясно, что этот человек мертв…
Труп обыскали. При нем было три револьвера, еще одна граната, записная книжка и восемь документов, из которых четыре были выписаны на разные фамилии. Но на других фамилия была указана одна, и настоящая – Петр Соболев.
Подбежавший Фридман первым делом просмотрел записную книжку. В ней была целая бухгалтерия, отметки о добытых при многих налетах деньгах, суммы, выданные различным лицам, израсходованные на всякие нужды, в том числе – наем квартир, с адресами и фамилиями владельцев. Были в книжке фамилии и Черепанова, и других левых эсеров, и не только их.
В тот же день еще на одной конспиративной квартире на Рязанском шоссе были схвачены, обезоружены и доставлены в МЧК еще семеро анархистов.
Глава 13
Сумрачный и по внешнему виду, и по душевному состоянию был в этот день Дзержинский. Молча, без обычной заинтересованности прослушал доклад Манцева об открытиях, сделанных в записной книжке Соболева.
– Так что метальщик снаряда и, без всякого сомнения, он же руководитель акции и организации в целом Соболев ликвидирован. Это подтверждается и найденными при убитом документами, и показаниями арестованных анархистов, которым был показан труп…
Дзержинский согласно кивнул головой и плотно охватил пальцами виски, раскалывающиеся от пульсирующей боли.
– Еще один… И этот милиционер. Его фамилия Глухов? Да, Глухов… Ненавижу насилие. Когда слышу об очередной жертве, это причиняет мне физическую боль. Ненавижу…
Манцев не мог скрыть удивления:
– О чем вы, Феликс Эдмундович? Конечно, Глухова жаль. Но при чем тут Соболев? Это же бешеная собака.
– Знаю… Но даже бешеные псы рождаются нормальными славными щенками. Возможно, у Соболева есть мать, близкие…
Манцев счел долгом отвлечь председателя от этих неожиданных для него переживаний:
– Вы не должны так, Феликс Эдмундович. Партия вложила в наши руки меч революции.
– Но и с мечом в руке надо сохранять доброту в сердце. Иначе беда. Страшно даже не само насилие, без этого нам пока не обойтись. Но до крайности опасно привыкание к насилию. А это грозит каждому из нас, сотрудников ВЧК. Не могу привыкнуть к этим смертям, к этой, увы, неизбежной жестокости революции и гражданской войны. Боюсь, она нам еще отзовется…
– Не мы развязали войну!
– Конечно, не мы начали первыми… Только сознание этой истины и помогает мне выдерживать все. Вы правы, Василий Николаевич, правда революции и правда истории на нашей стороне. Тем более наша борьба должна вестись высокоморальными средствами. Дурные средства могут обесценить, скомпрометировать даже святую цель. На этом, кстати, свихнулись и анархисты, и левые эсеры.
Дзержинский налил в стакан воды, отпил глоток. Затем продолжил разговор, по всему судя, имевший для него особое значение.
– Борьба во имя высоких идеалов означает борьбу милосердную. Никак не иначе. Жестокость ведет к вседозволенности. Если мы не будем помнить постоянно об этом, то разложим себя изнутри. Даже в самых тяжких, невыносимо тяжких обстоятельствах мы должны оставаться рыцарями. Рыцарями диктатуры пролетариата.
Феликс Эдмундович выпил еще воды и решительно встряхнул головой, давая понять собеседнику, что мгновение откровенности душевной миновало и пора переходить к делу.
– Так вы полагаете?
– Полагаю, – обрадованно, а потому излишне громко отозвался Манцев, – что со смертью своего главаря Соболева штаб «анархистов подполья» развалится. Тем более что их идеолог Ковалевич тоже убит.
– Ошибаетесь, Василий Николаевич. Все будет как раз наоборот. Владимир Ильич не случайно подчеркивал, что анархизм – это порождение отчаяния, психология выбитого из колеи интеллигента или босяка. Архитеррор всегда привлекал самые горячие головы и самые безрассудные. Именно в отчаянии, что все рушится, они пойдут на самую сумасшедшую и кровавую авантюру. К тому же не забывайте, что на свободе пока еще гуляет Черепанов! Это сильная личность и природный вожак.
– Вы думаете, они решатся повторить теракт?
– Непременно! У них чуть не сто пудов динамита, этого хватит на десятки взрывов, да и руки чешутся. Я вот о чем подумал. Белогвардейцы обошлись бы с такой горой взрывчатки по-военному рационально. Склады оружия, узлы связи, мосты, ну, и тому подобное. А этим… – акцентируя внимание собеседника, Дзержинский постучал по столу, – …нужен не просто теракт, а такой, чтобы вся Европа ахнула. Никак не меньше. Пристрастие к театральным эффектам у анархистов да и у левых эсеров в крови.
Манцев уже включился в ход мыслей Дзержинского:
– Выходит…
Феликс Эдмундович не дал ему договорить:
– Да! По всему выходит, что теперь они замахнутся на Кремль! И расшибутся в лепешку, чтобы подгадать взрыв или 7 ноября, или накануне годовщины революции.
После небольшой паузы председатель МЧК отдал распоряжение:
– Прошу вас, Василий Николаевич, все отделы, всех ответственных сотрудников ориентировать на поиски анархистского арсенала. Это самое важное сегодня дело. Самое срочное. Не оставляйте без внимания ни сигнала, ни ниточки, за которую можно было бы ухватиться.
– Незамедлительно передам ваше указание товарищам, – отозвался Манцев. – Теперь об эсерах…
Встрепенулся Дзержинский:
– Что-то новое?
– Новое… Выяснилось, что в соседней с захваченной нами квартире на Глинищевском живет левый эсер Тарасов. Мы устроили в ней обыск. Нашли взрыватели, идентичные тем, что использовали террористы-анархисты, запасные документы, принадлежавшие Соболеву, даже три поддельных незаполненных бланка ВЧК. Ранее на Тарасова никаких подозрений не было…
– Подождите, подождите, – сообщение взволновало Дзержинского. – Тарасов, как мне помнится, максималист. Но до сих пор максималисты соблюдали лояльность по отношению к Советской власти.
– Так оно и было до последнего времени. Я выяснил, оказывается, максималисты раскололись. Одна часть действительно сохраняет, как вы выразились, лояльность. Другая, к которой принадлежит Тарасов, слилась с неразоружившимися левыми эсерами и «анархистами подполья».
– Доказательства?
– Налицо. В засаде на квартире Тарасова захватили трех максималистов. Все они вместе с «анархистами подполья» участвовали в ограблении кассы Тульского патронного завода. Тогда они взяли три миллиона рублей. Деньги поделили.
– Кого именно арестовали?
– Колодова, проживал под фамилией Костин. Прохорова, при аресте назвался Евстифеевым. Третий вообще фокусник: документы политотдельца Селиванова, в Туле действовал как Родионов, ну, а в Москве опознан как Михайлов.
– Выходит, круги расширяются, – подвел итог Дзержинский. – А ведь это закономерность, Василий Николаевич. Мелкобуржуазные революционеры, не порвавшие со своей средой, неотвратимо скатываются в болото контрреволюции. И заметьте: крайне редко просто отходят от революции, становятся обывателями. Нет! Самыми злыми врагами!
…А в это самое время на дальней по тогдашним меркам окраине Москвы, в Лефортове, в громадном кабинете «Главной военной гошпитали» перед пожилым военврачом стоял раздетый по пояс, подрагивая от холода, Сергей Вересков. В высоком сводчатом окне виднелись еще не опавшие кроны вязов и лип старого кладбища, прочно прозванного москвичами Немецким, хотя официально именуемого иначе – Введенским. Более двух веков хоронили здесь обитателей местности, называемой Немецкой слободой, а того ранее – Кукуем. Сюда, к сердечному другу Францу Лефорту (кстати, и не немцу вовсе, а швейцарцу), наезжал юный царь Петр… Лежали здесь, вдали от родной земли, и французские гренадеры, брошенные на гибель в московские снега «маленьким капралом»– императором Наполеоном, и немецкие солдаты, умершие в плену уже в недавнюю войну, империалистическую.
Но всего боле покоилось здесь умерших от ран и болезней в «Главной военной гошпитали» конечно же русских офицеров и солдат – ветеранов всех войн, что вела Россия за последние два столетия.
Но о грустных этих вещах никак не хотелось думать Сергею, когда вертел его в разные стороны, прощупывал до костей, мял сильными короткими пальцами, обстукивал то со спины, то спереди грубоватый, но, по всему видать, знающий врач. Судя по старому кителю, выглядывающему из-под белого халата, из медиков старой русской армии. Да и властность в нем чувствовалась не профессорская, а типично офицерская.
Ткнув пальцем в несколько синих рубцов и выдернув из ушей резиновые наконечники стетоскопа, доктор осуждающе, словно сам Вересков был в том первейше виноват, буркнул:
– Что ж, голубчик, в целом подлатали вас вполне удовлетворительно. Претензий к медицине с вашей стороны по сей причине нет и быть не должно. Но вот это, – он легонько коснулся рубца под левым соском, – в сочетании с тифом скверная комбинация.
Последние два года здание «Главной гошпитали» с ее метровой толщины кирпичными стенами топилось скверно, если в палатах еще поддерживалась мало-мальски терпимая температура, то в кабинетах врачей было просто холодно.
Подрагивая бледной кожей, враз покрывшейся гусиными цыпками, Сергей упавшим голосом спросил:
– Что вы хотите сказать… – и добавил на всякий случай подхалимски, – профессор?
На «профессора» военврач никак не отреагировал, наоборот, даже рассердился:
– Да не бледнейте, Вересков, вы же командир, а не кисейная барышня! Я же не сказал, что это навсегда. Окрепнете, подлечитесь, через годик мы снова с вами встретимся.
– Да через год война кончится!
– Ну и слава богу! Нашли о чем горевать.
– Но мне обещали при выписке…
– Знаю… Обещали, чтобы поддержать, так сказать, боевой дух.
Он достал из кармана кителя толстое вечное перо, отвинтил колпачок с золотым держателем, решительно подвинул к себе историю болезни:
– Пишу – после переосвидетельствования признан ограниченно годным к нестроевой службе. Очередному переосвидетельствованию подлежит через двенадцать месяцев. Так и доложите вашему начальству. Официальное заключение вышлем обычным порядком…
– Есть доложить начальству! – скучным голосом отозвался Вересков.
– Да, еще, – военврач пристально смерил с головы до ног тощую фигуру начавшего одеваться краскома, – два месяца вы будете получать фронтовой паек. Вообще-то вас следует подкормить подольше, но, увы, два месяца – это мой потолок.
Поблагодарив, Вересков вышел. В голове роились мысли самые мрачные. Он понимал отчетливо, каким скверным должно быть его здоровье, коли в такое тяжелое время его на год освобождают от службы да еще дают фронтовой паек, равный двум обычным красноармейским. Выходит, с армией придется расстаться. Впрочем, быть может, ему подберут должность по силам…
О многом передумал Сергей, топая не слишком быстро в сторону Немецкой улицы. Меньше всего он мог подозревать о том, что полчаса назад на Лубянке завершился разговор председателя МЧК Дзержинского со своим заместителем Манцевым, который неким образом в самом ближайшем будущем будет иметь касательство к его дальнейшей судьбе.
Глава 14
В середине дня Манцев еще раз пришел к Дзержинскому, сообщил о новых арестах.
– Что дали допросы?
– Почти ничего, – вздохнул Манцев. – О местонахождении склада динамита молчат. Или несут свои бредни… Разбудить в народе дьявола, разнуздать страсти, ну, и тому подобное.
– У нас нет времени, – несколько раздраженно отреагировал Феликс Эдмундович, – ждать, когда от анархистских лозунгов они перейдут к вполне конкретным показаниям.
Тем не менее, – возразил Манцев, – я ощущаю некую скованность при допросах оттого, что плохо знаю анархизм. Да и о Махно наслышан весьма поверхностно.
– Да-да… Пожалуй, вы правы. Противника надо знать хорошо, и теоретические его взгляды, и вытекающую из них политическую практику, – согласился Дзержинский. – Что же касается Нестора Махно, то он, безусловно, сильная личность и талантливый человек. От природы наделен даром подчинять себе людей, особенно крестьян. Мне о нем рассказывал покойный Яков Михайлович Свердлов, они встречались…
Нестор Махно в самом деле был одной из самых удивительных и своеобразных личностей, вознесенных на арену политической жизни и военных событий революцией и многими противоречивыми обстоятельствами.
Формальное его образование ограничивалось церковноприходской школой в Гуляйполе. Подростком пастушил, потом несколько лет работал в красильной мастерской и литейном цехе. В анархистское движение вступил семнадцати лет в годы первой русской революции. За участие в убийстве пристава был приговорен к повешенью. Как несовершеннолетнему смертную казнь ему заменили пожизненной каторгой. Отбывал ее – почти десять лет – в Москве в Бутырской тюрьме, причем длительный срок в ручных и ножных кандалах. В тюрьме и пополнил свое образование, к сожалению, с помощью анархистов, в том числе уже упоминавшегося Аршинова.
Освободила Махно Февральская революция. Когда германские и австрийские войска вторглись на Украину, Махно сколотил в родных краях свой первый «вольный батальон» и начал воевать с оккупантами. Воевал хорошо, талантливо. Сам отличался прямо-таки безумной храбростью, но и чрезвычайной жестокостью. В ЧК были сведения, что Махно сильно пьет, иногда принимает наркотики. Возможно, этим объяснялась его всем известная психическая неуравновешенность, в частности, взрывы необузданной ярости.
Говорили, что именно Махно первым додумался поставить станковый пулемет на обычную южнорусскую тачанку и разработал тактику применения тачанок в бою.
После захвата немцами Гуляйполя, да и всей Украины, Махно отступил на Волгу, к Саратову, откуда в июне восемнадцатого года приехал в Москву. Здесь он связался с местными анархистами, установил множество знакомств, обзавелся приверженцами. Несмотря на молодость – ему не исполнилось еще тридцати, – Нестор уверенно выдвигался на роль общепризнанного вождя анархистского движения. По крайней мере – на юге России. После того как весной того же восемнадцатого были ликвидированы в Москве, Петрограде и других крупных городах «Дома анархии», превратившиеся в берлоги преступного люда, так называемые «идейные анархисты» лишились в центральной России и обеих столицах какой-либо массовой опоры. Тогда-то и решено было сделать главную ставку на малорослого длинноволосого молодого еще человека со странным плоским лицом и сумасшедшими, невыносимого блеска глазами.
К этой роли «подлинно народного вождя» и готовили Махно секретарь «Московского союза идейной пропаганды анархизма» Петр Аршинов-Марин, Иуда Гроссман-Рощин, Лев Черный. Махно побывал на конференции анархистов в гостинице «Флоренция», встретился и с патриархом русского анархизма князем-бунтовщиком Петром Кропоткиным.
Под прямым воздействием этих встреч Нестор, по его собственным признаниям, все более утверждался в мысли, что любая политическая и государственная власть – это юродивое шарлатанство, что городской пролетариат хочет властвовать над своими собратьями по труду – крестьянами и т. п. Бывал Махно и на митингах, где выступали большевики и левые эсеры, а надо отметить, что все это происходило почти накануне мятежа 6 июля. Левоэсеровская платформа была Махно ближе, но его цепкий ум сразу и безошибочно определил, что шансов на успех у них нет никаких. Правда, не по слабости их мировоззрения (в теории Нестор был слабоват), а потому, что у левых эсеров нет такого вождя, как Ленин.
Махно отправился в Кремль, где его принял Председатель ВЦИК Свердлов. Беседа настолько заинтересовала Якова Михайловича, что он рассказал о ней Ленину. К тому же он сразу распознал в замухрышистом посетителе недюжинную личность. Владимиру Ильичу накануне ратификации I съездом Советов Брестского мирного договора с Германией крайне важно было знать как можно больше о положении на Украине, настроениях крестьян, размахе и возможностях партизанского движения, там развернувшегося. Он тоже захотел поговорить с Махно, и их встреча состоялась в присутствии Свердлова.
Махно заявил тогда, что большевиков на Украине почти нет, что всю борьбу с оккупантами ведут они, анархисты, что они же первыми создали сельскохозяйственные коммуны и артели. Он, Махно, видит будущее как вольный советский строй, когда вся Россия покроется местными, совершенно самостоятельными хозяйственными и общественными самоуправлениями. Никакого государства для этого, никакой власти не потребуется.
Потом он упрекнул Председателя Совнаркома, что большевики разогнали весной «Дома анархии».
Ленин возразил:
– Если нам пришлось энергично и без всяких сентиментальных колебаний отобрать у анархистов с Малой Дмитровки особняк, в котором они скрывали всех видных московских и приезжих бандитов, то ответственны за это не мы, а сами анархисты…
Махно промолчал, в глубине души он знал, что в этом вопросе Ленин прав. Заговорил о другом, с горячностью и убежденностью: он против подчинения пролетариата политической партии, вообще, социалистическое государство нужно пролетариату, как телеге пятое колесо.
Ленин и бровью не повел, заслышав от умного человека такую нелепицу. Сказал лишь, стараясь акцентировать практическую, а не теоретическую сторону дела, что анархисты, не имея своей серьезной организации и не желая таковую иметь из принципиальных соображений, не могут организовать пролетариат и беднейшее крестьянство, следовательно, не могут поднять их на вооруженную борьбу.
Прощаясь, Ленин предложил Махно работу в Москве. Тот отказался, попросил Владимира Ильича помочь ему вернуться на Украину, уже отрезанную от России «брест-литовской» границей. Ленин обещал и через несколько дней свое обещание выполнил.
Когда Махно ушел, Владимир Ильич с явным сожалением сказал Свердлову:
– Анархисты всегда самоотверженны, идут на жертвы. Но, близорукие фанатики, они пропускают настоящее во имя отдаленного будущего. А между тем с анархокоммунистами на известных условиях можно совместно работать на пользу революции.
Он задумался, а потом еще раз повторил свою мысль:
– Да-да… Анархисты много думают и пишут о будущем, не понимая настоящего. Мыслями о будущем они сильны, в настоящем же они беспочвенны, жалки исключительно потому, что в силу своей бессодержательной фанатичности реально не имеют с этим будущим связи.
С документами на имя прапорщика старой русской армии Ивана Шепеля, украинца, возвращающегося на родину, Махно благополучно пересек границу. От старых товарищей узнал, что немцы его искали, расстреляли старшего брата Емельяна, арестовали другого брата Савву, сожгли дом матери.
Он сколотил из единомышленников новый отряд и возобновил вооруженную борьбу с немцами и гетманцами – войсками ставленника кайзера Вильгельма марионеточного «гетмана» Скоропадского. После разгрома гарнизона оккупантов в Большой Михайловке имя Махно становится известным всей Украине. Его повстанческое войско доходит до 30 тысяч штыков, главным образом сабель. Махно контролирует территорию 72 волостей с населением в два с лишним миллиона человек.
Пиком успехов «батьки» стало взятие при сильной поддержке подпольного большевистского ревкома Екатеринослава. Правда, удержать город махновцы, немедленно начавшие грабить обывателей, смогли лишь два дня.
Не раз Махно из тактических соображений, дабы обрести передышку и заручиться поддержкой населения, заключал временные соглашения с Советской властью и Красной Армией. И столько же раз нарушал непрочный союз… И даже в дни вынужденных перемирий махновцы то и дело без пощады убивали коммунистов, советских работников, активистов комитетов бедноты. Не случайно приютил у себя Махно и назначил начальником контрразведки бежавшего из Москвы бывшего левого эсера Дмитрия Попова, того самого, который командовал 6 июля вооруженным отрядом мятежников, держал под арестом Дзержинского и грозил огнем из орудий смести с лица земли Кремль.
Попов поклялся лично убить 300 коммунистов и к тому времени, когда был, наконец, обезврежен, почти выполнил свою кровавую норму. Свершить такое на ратном поле было не под силу не только новокрещенному в анархисты левому эсеру, но и легендарному донскому казаку Кузьме Крючкову. Тому самому, который, если верить конфетным оберткам и плакатам четырнадцатого года, одним махом насаживал на пику сразу по семь австрияков. Нет, в бои Попов не рвался: он лихо рубил только пленных.
Прижились и заняли видное место в «повстанческой армии» садисты-атаманы Шусь, Калашников, Фома Кожа, откровенные уголовники вроде известного на юге бандита Мишки Левчика.
Но так называемые «идейные анархисты» сидели не только в махновском агитотделе и редакциях – известный уже читателю Яков Глагзон, например, успешно подвизался в контрразведке, перенимая опыт у того же Попова. Возможно, именно поэтому он, в числе других махновских эмиссаров, включая Соболева и Ковалевича, и очутился осенью девятнадцатого года в Москве – среди несуществовавших доселе и в помине «анархистов подполья»…
– Значит, молчат, – протянул после затянувшейся паузы Дзержинский. Это был не столько вопрос, сколько констатация факта. Потом, видимо, ему пришла в голову какая-то интересная мысль, скорее даже – ход. – А что Лямин, тоже молчит?
– Молчит, – подтвердил Манцев.
– Кого еще взяли в засадах после инцидента с Соболевым?
– Ценципера, Гречаникова, Исаева… Боевики-фанатики с сильной уголовной окраской. Эти говорить не начнут, пока не прижмем неоспоримыми уликами. А таких фактов у нас пока маловато.
Феликс Эдмундович задумался, потом неуверенно сказал:
– Я помню Лямина по восемнадцатому году и еще раньше, до революции, по Орловскому каторжному централу. Был неплохой парень, хотя и путаник страшный. Но – честный, от уголовных был далек. Как же дошел он до жизни такой?
Решительно закончил:
– А ну-ка, вызывайте его. И приготовьте все документы комиссии с материалами, касающимися последствий взрыва…
Лямина привели через пятнадцать минут – арестованных по делу 25 сентября содержали здесь же, на Лубянке, во внутренней тюрьме, под которую была переоборудована часть здания бывшего страхового общества.
Афанасий Лямин, очень худой, всклокоченный мужчина с нервным, изможденным лицом, был значительно старше других участников подполья. Он происходил из семьи довольно известного в Харькове врача, можно сказать даже – модного, вырос в полном достатке. К ужасу родителей, в старших классах гимназии увлекся анархистскими идеями. Еще до мировой войны Афанасий за участие в убийстве в Харькове жандармского офицера был осужден к десяти годам тюрьмы и действительно несколько месяцев содержался вместе с Дзержинским в одной камере печально знаменитого на всю Россию Орловского централа.
Уже после освобождения из заключения в феврале 1917 года Лямин всего за несколько недель пребывания в отчем доме успел вовлечь в анархистскую федерацию младшего брата Михаила, с которым очень дружил, несмотря на ощутимую разницу в возрасте.
В восемнадцатом году Лямин очутился в Москве, был в числе организаторов «Дома анархии» в особняке на Малой Дмитровке, в котором до революции располагалось Купеческое собрание. Когда красноармейцы и чекисты вынуждены были с боем штурмовать здание, поскольку анархисты и уголовники отказались сдать его без кровопролития, Лямин стрелять по атакующим отказался, и не из-за трусости, но сугубо идейных соображений.
Трусом он действительно не был, что и доказал, когда после освобождения очутился у Махно, в боях с гетманцами и немецкими оккупантами. Осенью девятнадцатого вместе с Соболевым Лямин приехал в Москву, через Харьков, где за ним увязался и брат Михаил. Чисто интуитивно, однако, Афанасий оберегал брата от активной деятельности в группе «анархистов подполья».
Когда Лямина вывели из тюремной части здания в собственно служебную, он сразу догадался, что предстоит допрос каким-то начальником, поскольку до сих пор следователь допрашивал его прямо в камере. Но он и представить не мог, что им заинтересуется сам председатель ВЧК, да и не жаждал, признаться, такой встречи. Нет, страха никакого он не испытывал перед Дзержинским, но готов был отдать что угодно, лишь бы не оказаться со своим бывшим сокамерником глаза в глаза. Каким-то шестым чувством предвидел, что выглядеть будет в этой ситуации не идейным достойным противником, а так, нашкодившим гимназистом-недоучкой.
И вот Лямин в кабинете. Сердце екнуло: кроме знакомого уже Манцева здесь находился еще именно-таки Дзержинский!
«Осунулся», – невольно отметил про себя Афанасий, не видевший Феликса Эдмундовича всего-то полтора года. И вдруг понял, именно по этой своей первой реакции, что в предстоящем разговоре ему не удастся удержаться на позиции твердого отказника.
– Здравствуйте, Лямин, – хмуро сказал Дзержинский и рукой указал на свободный стул. – Садитесь.
– Здравствуйте, – буркнул Афанасий и настороженно присел, взлохматив для чего-то и без того кудлатую голову.
«Нервничает», – подумал Дзержинский и неожиданно, по какому-то наитию продекламировал:
– «Под знаменем черным великой борьбы мы горе народа потопим в крови!»
Изумленно уставился на него Манцев. Оторопел и Лямин.
– Что, Василий Николаевич, – спросил Дзержинский своего заместителя, – не приходилось слышать?
– Да нет… На Блока, во всяком случае, не похоже.
– Равно как на Бальмонта, или даже Сашу Черного… Это «Черное знамя». Гимн анархистов. Слова прямо-таки трогательные. Рифма, правда, подкачала: «борьбы – крови». А вот на идейку рекомендую обратить самое пристальное внимание. Насчет потопления горя народного в крови. Непонятно, правда, в чьей? Может быть, разъясните, Лямин? Ну? Это я вас спрашиваю!
Вздрагивает, словно от удара, арестованный.
– Ладно, – успокаивается Дзержинский. – Отложим разговор о гимнопении, – и в упор, уже без сарказма: – Будете давать показания?
– Не могу… Слово революционера.
– Не сметь! – Дзержинский гневно бьет ладонью по краю стола. – Я не волен заставить вас давать показания, но запрещаю вам в этом кабинете произносить слово «революция». Вы ее предали! И тогда, когда грабили рабочие кооперативы, и когда стали убивать настоящих революционеров!
Лямин пытается возразить:
– Мы принципиальные противники узурпации власти!
Дзержинский обрывает его:
– Это кто же узурпирует власть?! – он рывком выдвигает ящик стола, вынимает оттуда большую фотографию и кидает на стол перед анархистом. Лямин бледнеет – на снимке изуродованное девичье тело…
Меж тем Дзержинский продолжает:
– Может быть, товарищ Аня Халдина, которой никогда не исполнится восемнадцать лет, потому что вы ее убили в семнадцать?
Он кладет перед Ляминым еще одно фото:
– Или старый политкаторжанин товарищ Ефрем, который вас выхаживал в Орловском централе, после того как вы были до полусмерти избиты надзирателями?
Молчит Лямин, низко опустив голову, лишь непроизвольно подрагивающие пальцы выдают сильнейшее волнение. Дзержинский чутко улавливает перелом в состоянии арестованного. Негромко, но очень твердо требует:
– Смотрите в глаза, Лямин, и слушайте. То, что вы мне сейчас скажете, вашу личную судьбу, возможно, и не изменит. Но вы можете хоть столько (показывает на ноготь мизинца) искупить свою вину перед революцией, перед народом…
Еле слышно Лямин выдавливает:
– Спрашивайте…
– Как возникла организация?
– Казимир Ковалевич в мае выезжал в Харьков. Там встречался с Соболевым, Глагзоном, Ценципером и другими анархистами, которые уже были в штабе Махно. Потом всякое было… Ну а в августе было окончательно решено – бить по центру.
– То есть по Москве?
– Да, отсюда все зло.
– Что потом?
– Потом перебрались в Москву. Казимир связался с Донатом Черепановым, они давние друзья.
– И много людей у вас?
– Как у дядьки Черномора. Тридцать три… богатыря.
Манцев взглядом испрашивает у Дзержинского разрешение включиться в допрос. Теперь уже спрашивает он:
– Структура?
– У нас три секции. Идеологическая – листовки, манифест, ну, и прочее – Ковалевич. Арсенальная – Вася Азов. Боевая – Соболев… Он и бомбу метал.
– Кто с ним был?
– Барановский, Глагзон, Николаев, еще кто-то. Я не всех знаю.
– Откуда брали деньги?
– Эксы… Этим занимались Соболев и Николаев, ну, и с ними разные… Сначала взяли банк на Большой Дмитровке, потом на Серпуховке и Долгоруковской, ну, а еще раньше был «Центротекстиль»… Самый большой экс был в Туле, на патронном заводе. Взяли три миллиона.
– Где печатали листовки?
– На дачах в Одинцове и еще где-то по Казанской дороге… Использовали и легальную типографию, кажется Наркомпути.
– Свой человек?
– Да, в каком-то совете или комитете… Точно не знаю, слышал, что меньшевик.
Дзержинский переглядывается с Манцевым, спрашивает недоверчиво, даже с подозрением:
– Вы не путаете, Лямин?
– Чего путать…
– Позор! – негодует Манцев. – Социал-демократ нелегально печатает листовки для террористов!
Дзержинский продолжает допрос:
– Кто входит в штаб от левых эсеров?
Лямин уже взмок от напряжения. Умоляюще просит:
– Дайте покурить.
Манцев вынимает из кармана пачку дешевых папирос, протягивает арестованному. Лямин закуривает, после нескольких жадных затяжек отвечает:
– Я уже говорил – Черепанов, а еще Гарусов.
– Где скрывается Черепанов?
– Не знаю. Гарусов живет легально.
– Где взрывчатка?
– На даче.
– Кто делает бомбы?