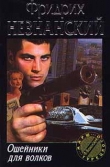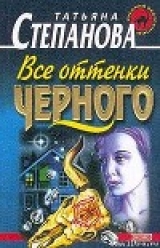
Текст книги "Все оттенки черного"
Автор книги: Татьяна Степанова
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 6
ЧАЙ
– …Сыр не стоит хранить в полиэтиленовой обертке. Так теряется весь вкус. Саша, у нас с тобой найдется фольга? Если нет, я лучше нарву в саду лопухов. Правда-правда, не смейтесь – убедитесь сами, что лучшего способа хранения для этого продукта еще не изобретено.
На просторной террасе, освещенной шестирожковой люстрой с желтыми плафонами, у круглого обеденного стола, сервированного к чаю, стояли две женщины. Одна лицом к яркому свету, другая – спиной. Катя и Нина, поднявшиеся по скрипучим ступенькам, увидели сначала ту, которую освещала люстра, – невысокую, немного полную женщину лет пятидесяти с небольшим. У нее были седые, подстриженные в красивое каре волосы, оттененные жемчужно-пепельной краской «Гарнье» (Катя никогда не ошибалась в определении таких вещей), ясные задумчивые голубые глаза и улыбчивый рот. Лицо ее было ухоженным, чувствовалось, что женщина много времени уделяет зеркалу и оздоровительной косметике.
Однако, знакомясь, она подала Кате руку неожиданно крупную, почти мужскую. С ясно ощутимыми мозолями. Ногти были коротко подстрижены, не оставляя и намека на маникюр. На этой руке, однако, весьма красиво смотрелись серебряные кольца и браслет с узором, который Катя разглядеть не успела.
Звали женщину Юлия Павловна, и она оказалась старой приятельницей хозяйки дачи. Сама же Александра Забелло-Чебукиани (Катя несколько раз про себя повторила эту громкую фамилию, которая так и отдавала этакой театральной антрепризой конца прошлого века) была совершенно иной.
– Ниночка, девочки, вот молодцы, что пришли! Сейчас за стол сядем. Самое скучное во время дачного отпуска – это вечера, правда? Так и тянет грустить о прошлом. Чушь какая! Просто не следует коротать их за телевизором.
Голос у Александры Модестовны был громким и оживленным, чуть-чуть сорванным, но приятным. Слова она произносила стремительно, словно боясь позабыть конец фразы. Огорошив собеседника энергичной скороговоркой, она тут же компенсировала эту свою громкость самой дружеской улыбкой. И после двух-трех ее фраз складывалось впечатление, что вы знаете свою собеседницу давным-давно.
Быстрыми и энергичными, впрочем, были все ее движения. Глядя на эту супердеятельную крашеную (цвет «Синяя полночь» от «Шварцкопф») брюнетку с короткой стрижкой, отлично сохранившейся фигурой и не красивым, но породистым («стильным», как выразилась Нина) лицом и макияжем, Катя начала понимать смысл известной фразы о том, что «после пятидесяти ежедневный бег трусцой – спасенье от инфаркта». При взгляде на вдову художника складывалось впечатление, что она все время проводит на беговой ленте тренажера, не позволяющего ей расслабиться ни на минуту.
У нее ко всему еще были и первоклассные духи. Катя ощущала их аромат при каждом движении Александры Модестовны. Несмотря на тщательный вечерний макияж, обе женщины одеты были вполне просто, по-дачному: Чебукиани была в вельветовых джинсах и бежевой свободной, крупной вязки кофте – все это чрезвычайно шло к ее поджарой фигуре. А на Юлии Павловне было темное летнее платье в трогательный белый горошек.
На террасе, когда подруги вошли, находился и еще один человек. Он сидел в дальнем углу в кресле, совершенно по-хозяйски вытянув ноги в джинсах и дорогих кроссовках, испачканных землей. Это был грузный мужчина в летах, и поначалу Катя не обратила на него никакого внимания. Александра Модестовна, Юлия Павловна, тот самый Нинин «друг детства» Константин Сорокин, неожиданно явившийся из глубины дома, – всем им надо было одновременно отвечать на приветствия, вежливо улыбаться. В этом совсем не мрачном, а напротив, весьма шумном, гостеприимном, наполненном людьми доме она чувствовала себя все же очень скованно и смущенно.
И потом, внимание Кати тут же привлек мужчина лет сорока, спустившийся на террасу со второго этажа по лестнице. О, там было на что посмотреть! Это был чрезвычайно красивый, атлетически сложенный, высокий и яркий блондин. Рост, широкие плечи, мощная выпуклая грудь, обтянутая синей простенькой футболкой, упрямый подбородок с ямкой, серые глаза с прищуром – это «явление сверху» было олицетворением всего того, что представлялось Кате чрезвычайно привлекательным в мужчине. Нина тоже не могла не заметить столь интересного незнакомца.
Но незнакомец был и вправду мужчина – первый сорт. И явно знал себе цену. Кате и Нине он вежливо и безразлично кивнул. Но представляться не стал.
Секунду на террасе царило шумное замешательство, как это всегда бывает в большой компании в ожидании приглашения к столу, когда в этот сплоченный коллектив попадают новые люди, но затем все вернулось в свое русло. Прерванный разговор возобновился. Катя потом не раз вспоминала, как она, попав впервые в этот дом, чуть ли не с порога окунулась в его неповторимую звуковую атмосферу. Звуки были совершенно разные, нередко взаимоисключающие, лишенные какой-либо гармонии. И тем не менее в них ясно ощущалось единство. Это было похоже на симфонию композитора-экспериментатора, собравшего и соединившего тысячи самых различных мелодий, в основе которых, однако, лежали семь главных нот музыкального лада.
Из глубины дома гремел выстрелами телевизор, потом там переключили программу, попав на новости, затем недовольный мужской голос капризно приказал: «Выключи, голова кругом!» И вот – веселенькое дребезжание старого джаза, причудливо переплетающееся с мелодией «Болеро», громкий резкий щелчок – рассохшееся дерево в стене где-то треснуло, чьи-то быстрые шаги на лестнице и…
От какофонии всего этого шума Катя даже несколько растерялась. Желтая шестирожковая люстра светила ослепительно ярко. Под деревянным, отделанным вагонкой потолком плясали ночные бабочки, налетевшие на террасу через распахнутую настежь дверь. Их крохотные тени совершенно беззвучно – и это было даже странно в этом шуме – скользили по скатерти.
– Вы боитесь насекомых, Катенька?
Катя обернулась. Юлия Павловна – она шла с кухни с плетеной сухарницей в руках – тоже засмотрелась на бабочек.
– Нет, но… вообще-то да. Не боюсь, но не люблю. – Катя посторонилась, пропуская ее к столу.
– Много их налетело. Надо бы дверь завесить… раньше продавались такие вьетнамские шторки из бамбука. Шуршали на ветру очень приятно. Не бойтесь, милая, это хрупкие создания. – Она дотронулась до Катиной руки чуть повыше запястья, словно дружески ободряя. – Они живут один день. Завтра от них не останется и следа. И они совершенно безвредны.
– К столу, к столу, – Александра Модестовна внесла на черном подносе сразу несколько небольших пузатых глиняных чайников, – чем богаты…
Чай в них оказался разным: травяным, фруктовым, зеленым китайским с добавками, липовым – и еще бог знает каких сортов. Всего чайников было семь. Кате по ее просьбе налили чая с вишневым листом. Мужчина, сидевший напротив, весь вечер пил чай с мятой. Нина пила зеленый. Какой же чай, из каких именно чайников пили остальные (хотя впоследствии именно эта деталь настойчиво интересовала Колосова), она там, за столом, не запомнила.
Это было обычное шумное застолье. Разносолов особых не было, но, помимо чая, появилось и спиртное – а как же в компании, где больше половины – мужчины, без него? Бутылка хорошего армянского коньяка, какой-то импортный ликер и фляжка в полиэтиленовой красивой оплетке – Катя не видела, что это точно было, – скорей всего виски, судя по бутылке. Одно она могла подтвердить точно: никто из женщин за столом спиртного не пил – только травяной чай. К рюмкам весьма активно прикладывались из всей компании трое мужчин: Константин Сорокин, какой-то плотного сложения парень с подбритым затылком, одетый в фирменную байковую толстовку. Катя поняла из общей беседы, что это родственник Александры Модестовны, да к тому же ее тезка: его звали за столом кто Шура, кто Саша, и…
Именно этот удивительный человек на весь оставшийся вечер приковал ее внимание. Катя поражалась: надо же, ведь поначалу она его даже не заметила! Его! О встрече с которым не раз, наверное, впоследствии будет рассказывать и на работе, и дома.
Это был Олег Смирнов. Первый фильм с его участием Катя видела в шесть лет. Фильм был красивый, романтический, со стрельбой и приключениями, про гражданскую войну, про белых и красных в духе «неуловимых». Катя-малышка переживала за героев аж до слез. Прямо руки чесались выстрелом из рогатки, отнятой у друга детства Сережки Мещерского, помочь главному герою (Олегу Смирнову), когда он мчался по степи, да на тачанке с пулеметом, да кони его гнедые были подобны огненному чуду…
И впоследствии Олег Смирнов частенько позволял любоваться собой с экрана. Он снимался со всеми известными актерами, у самых знаменитых режиссеров. Он и сам был знаменит и популярен. А еще молод, пластичен, обаятелен, талантлив. И это было вроде бы совсем недавно, возможно, не далее как вчера, но…
Сейчас напротив Кати сидел грузный, тронутый сединой шестидесятилетний мужчина с еще красивым, но усталым, словно бы измятым жизнью лицом. Он старался держаться бодро, что называется, молодцом. Но это была уже тень тени того, что когда-то было. Кате стало грустно.
Об Олеге Смирнове (хотя там, за столом, она так и не осмелилась заговорить с ним) она, порывшись в памяти, извлекла массу сведений. В последнее время, когда кинематограф наш почти умер (как печально выражался Кравченко, любивший «киношку», – «склеил ласты»), Смирнов много и весьма плодотворно работал в театре. Он покинул МХАТ, организовав собственный коммерческий театр. Назывался тот весьма претенциозно «Табакерка грез». В этой «Табакерке», как осторожно замечала газета «Культура», «царил дух новаторства». Там ставили весьма рискованные и эпатирующие эксперименты, в том числе и с классикой.
Желтая пресса порой взахлеб писала об откровенно сексуально-скандальном характере некоторых постановок Смирнова. Он одним из первых обратился к «Жюстине» маркиза де Сада. Затем прочное место в репертуаре «Табакерки» заняли «Сто дней Содома», «Тихие дни в Виши». Он ставил и «Лолиту», но потерпел неудачу.
В спектаклях этого театра, по выражению ценителей, царил «оргиастический дух абсолютной свободы и раскрепощения плоти». Смирнов каждый раз показывал что-нибудь «остренькое»: женский и мужской стриптиз, акробатические трюки в постели, исполнение мужских ролей – женщинами, а женских – раскрашенными мальчиками. Он увлекался античностью. Его «Вакханки», поставленные очень откровенно, кроваво и брутально, всколыхнули Париж, когда «Табакерка» ездила туда на гастроли. Однако…
В Москве, в отличие от Парижа, к «Табакерке» было несколько иное отношение. Сейчас, сидя за одним столом с этим человеком, Катя размышляла о том, что же это за существо такое – актер, ставший театральным режиссером? Смирнов, запечатленный камерой в вихре гражданской войны, в комиссарской тужурке, лихо косящий с мчащейся тачанки пулеметным огнем махновцев, был тем же самым человеком, тем же самым исполнителем, что выходил на сцену в «Жюстине», где он, напудренный и накрашенный, в аллонжевом парике и кружевах, играл брутального извращенца, сладостно и жестоко наказывавшего плетью голозадых, жеманных пастушек и пастушков на пасторальной лужайке.
«Какие причудливые зигзаги творческой биографии, – насмешливо думала Катя. – Или все эти эротические причуды от возраста? Впрочем, а чем сейчас еще привлечешь внимание публики, вызовешь ажиотаж, сделаешь деньги, наконец, как не скандалом? А когда и маньяки-извращенцы публике наскучат, он возьмет да и снова поставит „Оптимистическую трагедию“».
Из газет она знала, что Смирнов год назад женился на молодой актрисе своего театра. Это, как писали газеты, была «самая шумная московская свадьба докризисного периода». У них родился ребенок. Неравные браки были по-прежнему в большой моде. Катя сожалела, что у Чебукиани Смирнов появился один. Ей бы очень хотелось взглянуть и на его жену.
С Александрой Модестовной – и это было ясно с первого взгляда – Смирнова связывала старинная дружба. Он был явно свой человек в ее доме, хорошо знал ее мужа. Имя Георгия Чебукиани – «Гоги», как называл его Смирнов, то и дело упоминалось за столом: «А помните, какой Гога предложил тост на открытии…»; «Гога никогда не взялся бы за тот госзаказ, если бы не звонок Фурцевой в мастерскую…»; «Гога любил айву, помните, как мы в Гаграх…»
С Юлией Павловной Смирнова, видимо, тоже связывало давнее знакомство. Но общее между ними было все же несколько иным: в их отношениях не чувствовалось той простоты, с которой он обращался к «вдове Гоги». Когда говорила Юлия Павловна, Смирнов слушал молча, внимательно (Кате даже показалось, что напряженно). Он вроде бы и хотел, и вместе с тем не хотел отвечать на ее вопросы, улыбаться ее шуткам. Именно Смирнов в тот вечер и пил больше всех за столом спиртного. Рюмка за рюмкой – он прихлебывал коньяк маленькими глотками. Сосал дольку лимона, иногда брал из коробки шоколадную конфету, а затем снова сам наполнял свою рюмку. Когда он потянулся за конфетами на дальний край стола, Катя увидела, что левая рука его изувечена: ладонь пересекал длинный косой шрам. Уже полузаживший, наполовину зарубцевавшийся.
Скоро Смирнов заметно опьянел. Лицо его покраснело. Зрачки расширились, отчего сами глаза стали казаться темными, огромными, глубокими. Во взгляде его Катя читала все ту же усталость, пресыщенность и какую-то мрачную меланхолию, хотя он охотно участвовал в общей беседе, иногда даже рассказывал анекдот, а иногда громко смеялся. Создавалось впечатление, что мысли этого человека где-то очень, очень далеко и от этого застолья, и от собеседников. И вот тут-то…
Всего за столом вместе с Катей и ее приятельницей находилось восемь человек. Но тут неожиданно появился девятый гость, точнее…
ОНА возникла из мрака на освещенном пороге террасы бесшумно, словно дух ночи. Впрочем, это романтическое сравнение пришло Кате на ум гораздо позже. А в ту самую их первую встречу с Валерией Сорокиной Кате сразу же бросилось в глаза: что-то не так. Это «что-то не так» ясно читалось в облике этой сравнительно молодой, но катастрофически увядшей женщины. Поражала ее худоба. Тонкие руки, которыми она цеплялась за дверные косяки, костлявые плечики, с которых едва-едва не соскальзывали бретельки ситцевого сарафанчика-коротышки, голенастые с утолщенными коленями ноги, похожие одновременно и на побег бамбука, и на лыжные палки. Сорокина была тускло-серой блондинкой. Жидкие волосы были заплетены в тощую косичку, перекинутую на грудь. Лицо было тоже очень худым, даже изможденным. На нем раз и навсегда застыло исступленно-удивленное выражение.
«Что-то не так» было и в том, как восприняли ее появление гости Александры Модестовны. Кате бросился в глаза гневно-раздраженный жест Константина Сорокина, означавший одновременно и: «Тебя тут только, дура, не хватало!», и: «Пошла прочь сию же секунду!»
Нина тоже переменилась в лице. Заметно было, что она не ожидала увидеть ту, которую знала с самого детства, вот такой. И тут среди общего замешательства раздался голос Юлии Павловны:
– Лера, детка, да ты совсем продрогла. И запыхалась-то как! Ты что, бежала всю дорогу, что ли? Или тебя кто-то напугал? Нет? Просто вечером прохладно и ты замерзла? Ничего, ничего, сейчас выпьешь чайку, согреешься сразу. Я тебе кофточку шерстяную дам, идем-ка, ну-ка, смелее. – Она подошла к Сорокиной и, легонько подталкивая, повела ее к столу.
Сидящий ближе всех к входной двери красавец-блондин, так поразивший сначала своим видом Катю (звали его вроде Владимир, но за весь вечер он так мало разговаривал, что ни подтвердить, ни опровергнуть это Кате так и не удалось), отправился в комнату за дополнительным стулом.
Константин Сорокин, казалось, был вне себя от того, что сестра его заявилась к соседям. Кстати, как заметила Катя, весь этот вечер он точно пришпиленный держался возле Александры Модестовны. Постоянно оказывал ей разные мелкие галантные услуги: то вазу с яблоками подвинет, то чаю нальет, то потянется через стол за коробкой конфет для нее. На сестру же он бросал такие взгляды, что было ясно: дома бедняжке за такое вторжение не поздоровится. Нинины слова про Сорокину Катя помнила. А теперь и сама убедилась: у Леры-Валерии явные проблемы с психикой. Заторможенность, сменяемая внезапной и беспричинной лихорадочностью движений, нелепая, порой непонятная жестикуляция, настойчивый, тяжелый и вместе с тем расплывчато-ускользающий взгляд говорили сами за себя. Потом уже, когда в Май-Горе произошло это самое первое ужасное событие, как именовали случившееся старожилы, Катя, отвечая на вопросы Колосова, напряженно силилась вспомнить: какой сорт чая пила в тот вечер Лера и из какого именно чайника ей наливали? Кто еще пил тот же самый чай? Пыталась она вспомнить (увы, тоже безуспешно) еще и другое: до или после того так заинтересовавшего всех разговора появилась в доме сестра Сорокина?
В одном Катя была твердо убеждена: ТОТ ПРИСКОРБНЫЙ ИНЦИДЕНТ, РАССТРОИВШИЙ ВЕЧЕРИНКУ, СЛУЧИЛСЯ ПОСЛЕ.
Сначала какой-либо общей темы беседы за столом не было. Катя впоследствии не раз пыталась дословно припомнить те разговоры, которые ей довелось услышать. Голоса журчали неспешно. Вот Александра Модестовна, отвернувшись от Сорокина, который только что рассказывал о своем прошлогоднем путешествии в Египет, обращается к Нине. Разговор о ее самочувствии: «Как переносит беременность, не мучает ли тошнота по утрам? Ах, нет токсикоза? Тебе очень повезло, девочка…»
Вот Сорокин и тот парень с подбритым затылком – Шура – обсуждали какую-то шведскую «резину» для покрышек. Юлия Павловна рассказала, как была на закрытии сезона в Малом театре и смотрела «Коварство и любовь». Она стала рассуждать о добровольном женском рабстве, якобы Шиллер навевает некоторые ассоциации с современностью, но… «Даже для моего возраста все чересчур монументально, а так бы хотелось окунуться в простые человеческие чувства без всякой патетики». Кто-то из гостей – кажется, Смирнов, но это Катя точно не помнила – заметил, что Шиллер вообще нелеп и несовременен. Юлия Павловна пожала плечами, но согласилась, что «брутальная страсть, от которой так и тянет в петлю, действительно нелепа».
– Так подобный поступок, по-вашему, Юлия Павловна, всего лишь нелеп? – Этот вопрос, как помнила Катя, задал почти весь вечер молчавший красавец-блондин по имени Владимир. Он сидел на дальнем от Кати конце стола рядом с типом с подбритым затылком. Там усадили и Леру Сорокину – подальше от ее рассерженного брата.
– Какой поступок, Володя? – спросила Юлия Павловна. – Саша, а мы опять забыли с тобой предложить – может, кто меда хочет? Отличный мед, соты. На рынке здешнем очень приличный можно выбрать, и относительно недорого.
– Я имею в виду самоубийство, вы же о нем упомянули. Такой поступок только лишь нелеп?
– Слушайте, а вы видели по телевизору репортаж о том, что случилось тут у нас? Ну, в городе, – вмешался Сорокин. – В криминальных новостях недели? Самоубийство по загадочным и странным причинам. Директор местного завода, такой жук прожженный – и поди ж ты, руки вдруг на себя наложил. Повесился ни с того ни с сего в городском парке на виду у всех.
Тут Сорокина перебила Нина. Кто ее за язык тянул – неизвестно! Но она тут же выложила гостям Александры Модестовны, что тот репортаж с места событий готовила не кто иная, как ее приятельница, – вот, прошу любить и жаловать: Катя Петровская, криминальный обозреватель, работает в милиции, в центре общественных связей. И самоубийство-то в Старо-Павловске, оказывается, не первое, был там еще один странный и необъяснимый случай, от которого прямо мороз по коже. Взоры всех обратились на Катю.
– И что же, там какое-нибудь расследование ведется о причинах его смерти? – спросила Александра Модестовна. Катя (чувствовала она себя как на экзамене!) скромненько ответила, что да, в подобных случаях прокуратура и правоохранительные органы всегда проводят проверку тех обстоятельств, которые могли привести к добровольному уходу человека из жизни. Потому что в принципе смерть человека, даже если это и не криминал, всегда нуждается в объяснении. И роль средств массовой информации в освещении этого трагического ЧП, конечно… Нина пылко перебила ее: «Каких еще объяснений не хватает? Она, как врач, считает, что участившиеся в последнее время случаи суицида не что иное, как продукт нашего несчастного времени. И у того бедняги, повесившегося в городском парке – я вот только фамилию его, Катюш, позабыла, – наверняка в жизни произошло что-то такое ужасное, что…»
– Ачкасов. Михаил Ачкасов его звали. Я не ошибаюсь, Юлия Павловна? Вы, кажется, говорили, что знали его немного? – сказал блондин Владимир. Юлия Павловна не успела ответить, потому что тут произошло вдруг то, что разом заставило всех умолкнуть.
Звон разбитого об пол блюдца – Катя, как, впрочем, и все остальные, просто опешила от неожиданности. Валерия Сорокина, вскочив со стула, вдруг следом за блюдцем с силой швырнула полную горячего чая чашку в… Олега Смирнова.
– Прекрати на меня смотреть! Опусти глаза! Не смей смотреть на меня вот так! Я тебе не твоя шлюха!
Смирнов, он, кстати, в эту минуту не смотрел на Сорокину, а разговаривал с парнем с подбритым затылком – Шурой, осекся на полуслове.
– Лера, милая, что с тобой? Лера, подожди, что ты делаешь?! – чуть не хором послышалось с разных сторон.
Она же, никого не слушая, впилась худыми пальцами в скатерть и потянула ее на себя. Глаза ее, блестевшие, как битое стекло, были устремлены на Сорокина. Но при этом она смотрела словно бы сквозь него.
– Опусти глаза! – прошипела она. – Ты… ты не смеешь… Ты не заставишь меня это сделать! Это гадко, безбожно! Он меня снова дрянью назовет, грязной, паршивой, полоумной дрянью!
– Начинается. – Сорокин поднялся, с грохотом отодвинув стул. – Начинается цирк. Прекрати немедленно юродствовать! – Он подошел к сестре и начал отцеплять ее судорожно скрюченные пальцы от скатерти. Грубо встряхнул несколько раз за плечи. – Успокойся, ну же! Кому я сказал, прекрати это! Кого ты там увидела? Кто на тебя смотрит? Где?
– Лерочка, не нужно волноваться, успокойся, – Александра Модестовна произнесла все это тоном заботливой хозяйки. Но во взгляде, каким она окинула Валерию Сорокину, была лишь брезгливость. – Успокойся же! Ну, кто на тебя не так смотрит?
– Он! – Сорокина ткнула худым пальцем в Смирнова. – Подонок, я не сделаю этого, ясно тебе? Даже если ты меня снова бить начнешь! Не сделаю! Это гадко, тошно это, тошно!
– Заткнись!! – взревел Константин Сорокин.
Катю просто поразила эта его дикая вспышка ярости. Кто бы подумал, что этот дамский угодник способен на подобное. Его сестра, как и все за столом, оглушенная его криком, сжалась в комок.
– Ну, ударь меня, ударь, – прошипела она, следя лихорадочно блестящими глазами за взбешенным братом. – Ну, бей! Разбей мне губы в кровь, выколи мне глаза, растопчи меня, ну же! – И тут она в мгновение ока задрала подол своего сарафанишки, обнаружив там всякое отсутствие нижнего белья, схватила руку брата и сунула себе между ног.
Сорокин свободной рукой с размаха влепил ей такую пощечину, что она не удержала равновесия. Если бы не Шура, сумасшедшая отлетела бы к стене. Тут на террасе поднялся такой невообразимый шум, что Катя едва не оглохла. Сорокина дико орала, извивалась, пыталась вырваться. Тело ее словно исполняло дикий и страшный танец – казалось, ее руки, ноги, туловище, шея – ни один член не слушается. Ее корчило как от нестерпимой боли. Шура подхватил ее на руки. Он был физически очень сильный, это Катя отметила сразу – никто иной просто не смог бы в этот миг справиться с бесноватой.
Вместе с Сорокиным, Александрой Модестовной, Ниной и Смирновым, который, казалось, был искренне потрясен случившимся, они потащили несчастную в комнату. Никто толком, кроме Сорокина, и не знал, что делать: «Припадок у нее… Держите, держите, осторожнее, она ушибется! Кто-нибудь, быстро – полотенце! Ей что-то мягкое надо в рот – иначе она язык себе прикусит!»
Катя, хотя, честно признаться, ей было крайне не по себе, тоже сунулась было следом за ними. Может, надо куда-то бежать, искать телефон, звонить в «Скорую»?
Но тут кто-то мягко, однако настойчиво удержал ее за руку.
– Не ходите сейчас туда, – к ней обращалась Юлия Павловна. – Вы побледнели. В таком состоянии вам не стоит на это смотреть. С Лерой скоро все будет в порядке. Она, бедняжка, очень больна. Вы уж, Катя, ее извините за… ну, словом, извините, пожалуйста. Она порой сама не знает, что говорит.
– Идиотка, – процедил сквозь зубы блондин Владимир. Он единственный не поддался общей панике, а продолжал сидеть за разоренным столом. – Такой вечер чертова идиотка испортила!