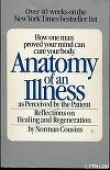Текст книги "Акушер-Ха! (сборник)"
Автор книги: Татьяна Соломатина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Тётя»
Сегодня ночью я стояла на невероятно красивом плато. Явно искусственного происхождения. Невероятно стильно, но строго наряженная, с изысканным деловым портфелем, стоящим у ног. Было светло, тихо и невнятно. Я крутила головой. Видимо, кого-то ждала. Хотела было закурить, но тут появилась цыганка. В дублёнке, платке и цветастых юбках.
Я взяла в руки свой дорогущий сундук. А она мне ручкой махнула. Мол, не затем я сюда пришла! Дура ты, а не Татьяна Юрьевна!
Потом я делала лабораторную по химии. Каталась по одесской школе номер 118, что на Советской Армии, угол Книжного переулка, – «Зелёный фургон» смотрели? Эпизод с ограблением банка. Так вот, не банк это никакой, а библиотека в том самом Книжном переулке. Сейчас даже не знаю, что там, – на жутком лифте каталась. Лифт был огромный. В лифте был паркет. Лифтёром был актёр Соловьёв. Когда-то он мне жутко нравился. В восьмом классе нашу гоп-компанию из десяти человек сняли в больших эпизодах к какому-то фильму – даже названия не помню, представляете? Соловьёв сказал, что я похожа на молодую Чурсину, и я долго плакала, потому что считала многоуважаемую Людмилу уродиной. Помню, увидав фильмец, решила, что и я уродина. Наверное, поэтому и название забыла напрочь. Ровесники должны помнить – там юный Вовка Пресняков завывал про синий Зурбаган. Эпизоды сильно порезали, но в паре кадров мы остались. Я, Анька, Олег и ещё один по кличке Хер Сонский. Нет, Красавчика в этом фильме не было. Но киностудия – это такой большой табор. Лифт ехал долго. Мы с Соловьёвым любезничали. А потом оказались в огромном помещении, где сидел профессор акушер-гинеколог из совсем другого моего пространственно-временного измерения, а бабушка Козырь Нина Николаевна – жена своего мужа и доктор анатомических медицинских наук – гоняла по кругу на спортивной алой «Тойоте» своего внука. А потом снова пришла цыганка. Та самая. Она пришла со шваброй. Вытерла с пола околоплодные воды, посыпала линолеум наструганным парафином, посмотрела на меня строго и говорит:
– Не время тебе, хохлушка, охотящаяся за московской пропиской, писать мемуары а-ля «Час волка» Игоря Боровикова! Потому что я первая в очереди!
Я аж ликёром «Моцарт» поперхнулась и отвечаю:
– Если я хохлушка, то ты – алжирская женщина!
– И шо? Всё равно я здесь первая стояла!
Мне так стыдно вдруг стало, и я… проснулась.
«Как-то в Алжире одна наша дура, врачиха-гинеколог (я же в этой стране пахал переводчиком группы советских врачей), была приглашена на местную мусульманскую свадьбу. А там возьми и ляпни:
– Желаю вам большого счастья и не очень много детей.
Поскольку долго наблюдала алжирских баб и так им сострадала, что пожелала иметь поменьше детей, чтобы стать людьми, а не машинами для продолжения рода человеческого. Так на той свадьбе её чуть было не побили, столь возмутило всех подобное пожелание».
Игорь Боровиков. Час волка, или На берегу Лаврентий Палыча
Цыганки рожают в ста процентах случаев в обсервационном отделении. И не потому, что больные или «грязные», а потому что – необследованные. Цыгане есть разные. Цивилизованные и не очень. Образованные и не умеющие читать и писать. Что правда, все они чудесным образом умеют считать. И ещё они, как правило, живут кланами. Хорошо это или плохо – не мне судить. Хорошо или плохо то, чем они занимаются? Я откуда знаю, чем ВСЕ занимаются на этой планете. Но клановость как таковая очень близка мне по духу. Но не собираемся мы, увы, как в доме деда, за большим круглым столом. Не печёт уже моя бабка огромное количество пирожков с капустой, яйцами и яблоками. Да многоэтажные кулебяки в «косичках» с мясом, рыбой и грибами. Да на всех про всех – кто в доме живёт, гостит или просто за спичками зашёл…
Да помню я, что ты первая в очереди!
…Цыганки рожают почти без проблем. За всё время была только одна, но это отдельная история.
Будешь второй!
В родах цыганки «умирают». Им так плохо, что «зачем миня мама на свет радила?!»
– Ой, тётя, мине так плохо!
– Я не тётя, я – Татьяна Юрьевна. Вот у вас там свои правила и понятия, а у нас – свои. У нас надо «Светлана Ивановна», «Татьяна Юрьевна», «Пётр Александрович», понимаешь?
– Ой, патом будит «Татьяна…». Э? А-а-а-а-а-а-а-аа-а!!! – Схватка. – Патом вот это будит длинно сильно, я лучше тётя, да?
И бродит, и ходит, и воет. Но не по-настоящему. Видно, что для неё это – спектакль. Её маленькое представление. Но она настолько в роли, что Станиславский верит раз и навсегда!
А-а-а-а… О-о-о… У-у-у… Э-э-э… Ой, ромалы!
– А поедемте-ка к цыганам, Пётр Александрович!
– Пошто, душа моя, Татьяна Юрьевна, ехать, когда табор сам к нам пожаловал!
– Вы правы, душенька Пётр свет Александрович, выйду-ка я в приём, негоже заставлять ждать столь почтенную публику!
– А и правда, сходите, голубушка моя разлюбезная Татьяна Юрьевна! Любушка Светлана Ивановна, а нет ли у нас, вселенскую мать нашу, бубна где заначенного, по голове нашей роженице – как зовут?
– Мария, дядя.
– …Марии нашей по голове настучать!
А-а-а-а… О-о-о… У-у-у… Э-э-э…
А в приёме ромалы.
– Ой, доктор, чтобы у Машки всё хорошо, так у вас тут из кранов шампанское будет литься и всех золотом увешаю. – Это барон. Машка – его дочь.
– Да оставьте себе ваше шампанское. Вы нам лучше лекарства купите из списка. Вашей Маше не сгодится – другому кому.
И не будет ни шампанского, ни лекарств – уж поверьте! Дырка от бубна будет.
А-а-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Машенька в родзале. Рожает как кошка. Или – коза. Как коза. Я видала на Волге. Лет в семь. Очень удивилась. Из козы что-то вылезло. Перламутровое. А бабка говорит: «Рубашку надо вскрыть, чтобы не задохнулся!»
«Рубашка» – это околоплодный пузырь. Помните? – в «рубашке» родился. В околоплодном пузыре. Я в околоплодном пузыре родилась. Мать рассказывала, акушерка очень удивлялась. «Впервые вижу, – сказала матери, – чтобы не цыганка в «рубашке» родила. Счастливая у тебя дочь будет». Не наврала. Я счастливая. А уж акушерка, которая меня принимала, куда больше цыганок, чем я, видала. Четвёртый родильный дом. Я на Пересыпи родилась. Родители в Одессу на лето поехали. Тогда – только на лето. А у родни дом был в Усатове. Там тоже цыган много.
Машенька родила. В «рубашке». Это видеть надо – человеческий детёныш, чай, побольше козлёнка! Во время потуги в половую щель надувается… перламутровый пузырь. Круто.
Младенец когда в смазке – это не «рубашка», это он слегка (или у кого как) недоношенный. Это вам акушерки врут, чтобы успокоить. «Рубашка» – это околоплодный пузырь.
Родила. Естественно – ни разрыва, ни царапинки. Через полчаса уже сидит на каталке, как горный орёл, и хохочет. Ты просишь, чтобы ей кто-то дал по голове пузырём со льдом. А она тебе так лукаво:
– Тётя! Отпусти! Всё равно убегу!
Знаем мы про их цыганские обычаи. Вам не буду рассказывать.
Знаю, что убежит. Вздыхаю.
– Сколько классов закончила, Машенька?
– Три! – Очень гордо. Очень.
– Ну, пиши, Машенька.
– Чего писать? – Старательно держит ручку.
– Пиши: «Я, такая-то такая-то, прошу отпустить меня домой. О последствиях предупреждена. Ребёнка обязуюсь забрать». Написала? Покажи.
Беру листок бумаги. На нём – корявым детским почерком написано:
«Я такая-та такая-та пршу отпститЬ мню а паслетствиях пердупержена рибёнка бязуюс брат»
– Машенька, что же ты написала, мать твою так-растак?!
– Что ты прадиктавала, то я и написала!
– Переписывай ещё раз. – Вздыхаю. Диктую. – Я, Мария Иванова, прошу… – И так далее.
Заберёт Машенька ребёнка. Цыгане детей забирают. Или барон заберёт. Или муж. Муж придёт в дублёнке и тёплых сапогах с выводком детей. Девочки будут с непокрытой головой и в сандалиях. И в дублёнках. А потом придут ещё раз – через год, или через три, или через десять-четырнадцать лет – взять справку о рождении. Потому что паспорт, менты, учёба, закосить от армии. И будем мы идти в архив и статотдел. И получать в кабинете главврача за «грехи» другого лекаря. Как кто-то сейчас – за мои. И будут цыгане мучительно вспоминать, когда рожали. На Пасху? На Рождество? А, нет. Тогда, кажется, жарко было. И будут обещать золотые горы и уходить не попрощавшись. И будут тащить тебе бутылку ликёра «Моцарт» и нарочито-театрально благодарить. По-всякому. Они же разные – цыгане. Они своими гордятся. Они, где рожают, не воруют. Но и не…
Машеньке, к слову, четырнадцать лет. Роды – вторые. Тётя добрая. Она тётю подкараулит под приёмом, втихаря от родных, и лукаво-благодарно так спросит:
– А хочешь, я тебе юбку подарю или маковой соломки принесу?!
– Иди в жопу, Машенька, – ответит добрая злая тётя, бредущая с дежурства.
– А хочешь шишек, Татьяна Юрьевна?! – Во как!
Эх, Машенька. Хочу шишек. И мира во всём мире. И чтобы четырнадцатилетние не рожали ни во второй, ни в первый раз. Потому что в двадцать шесть ты будешь старухой, не помнящей, сколько тебе. Как та соплеменница, которой мы удалили матку. И она тоже сбежала. На вторые сутки. Чуть не умерла. Белая бы умерла. Много чего хочу, Машенька. Хочу, чтобы наркотой твои собратья не торговали, чтобы арабы не убивали евреев и наоборот. Имение хочу на Волге и чтобы русскую прабабку мою с тремя малолетними русскими отпрысками на глазах у русского прадеда не расстреливали русские. Сейчас, может, и героина внутривенно хочу, но не буду.
– Давай свои шишки, Машенька! Доктор, родившийся в «рубашке», покурит за твоё здоровье трубку мира. Машенька, ты довольна?
Кто там следующий? Не учительница химии часом?..
Рыба. «Наша служба и опасна, и трудна»
Давным-давно, когда кино было чёрно-белое и немое, что было очень замечательно, потому что не долбал объёмный звук прямо в мозг басами, я работала добрым доктором Айболитом. Потому что беременные, роженицы и родильницы – забавные милые зверушки. И была у меня учительница ремесла Светлана Ивановна. Партийная кличка Рыба. Рыба не была акушером-гинекологом высшей категории, обвешенной дипломами Harvard Medical School. Она была обычной акушеркой. Даже не знаю, брать «обычную» в кавычки или нет? Высшая категория у неё, естественно, была, но дело вовсе не в этом. Она была акушеркой от бога со встроенной во все места чуйкой акушерской ситуации, и лет ей в обед было примерно сто. Ну, не сто, скажем, а шестьдесят. Никто не спроваживал её на пенсию, потому что ценный кадр был бодр, весел и дай бог нам всем так не спать. Муж ейный по кличке Петюнчик уже был прооперирован на предмет гипертрофии простаты. У неё были дети и внуки, которые «хорошо кушали», не оставляя Рыбе никаких эфемерных надежд на заслуженный отдых. Ум у Рыбы был ясный. Решения она принимала стремительно. Руки были золотые.
Она, конечно, не была лишена недостатков. К примеру, она плохо слышала. Если речь не шла о деньгах. Тут у Рыбы слух внезапно становился как зрение у орла вкупе с нюхом собаки. Рыба могла тёмной-тёмной ночью вскрыть плодный пузырь, не разбудив доктора, и потом, честно-честно часто-часто моргая, говорить, что воды излились сами, а она лишь развела оболочки. За что неоднократно была бита подсвечниками. Но долго злиться на Рыбу было невозможно. Наши с ней отношения были неоднозначными, но прекрасными. Неоднозначными потому, что в интернатуре Рыба научила меня многому. Всему, что до дверей в оперблок. Став полноправно-полноценным дежурантом, я, конечно, орала на Рыбу. Но Рыба, хулиганка, прикидывалась глухой. Я поменяла тактику и во время заплыва Рыбы по родзальным морям торчала в помещении, как Трёхглазка у коровушки с Алёнушкой.
В общем, Рыба была прекрасна и удивительна. Если бы она ещё не храпела, как полковая лошадь, можно было бы сказать, что она совершенство. Впрочем, децибелы искупались совершенно искромётным чувством юмора и жизнелюбием. А ещё Рыба удивительно вкусно жарила картошку и властно управлялась с самыми спесивыми санитарками.
В одну из совместных ночных дистанций в родзал перевели девочку из отделения патологии. Прекрасную девочку – медсестру неонатологического отделения. Ну, про своих врачи в курсе. Девочка тихо постанывала и неслышно шуршала по коридору всю ночь. Ну, не буду тут о врачебной тактике, только поверьте, всё было правильно. Но девочка влетела во вторичную слабость родовой деятельности. Показаний к кесареву не было, а роды всё больше напоминали присказку «то потухнет, то погаснет». С грехом пополам и божьей помощью мы подползли к потужному периоду. И у нас началась слабость потужного периода. Был вызван анестезиолог, и девочке-медсестре дали подышать чудесной закисью азота с целью отдохнуть, расслабиться и развеселиться. Атмосфера в родзале была самая радушная. Анестезиолог обещал девочке Гавайские острова и большую любовь. Рыба поглядывала в промежность. Я слушала сердцебиение после каждой потуги. В общем, всё как положено.
Рыба сопротивлялась мыться так рано и укладывать девочку на рахмановку[35]35
Функциональное кресло-кровать для родов.
[Закрыть] и добродушно бурчала в мою сторону, мол, выучили вас на свою голову, надо было роженице ещё постоять, а Рыбе чаю попить. А вот фиг! Потому что Рыба – она, конечно, молодец. Только в истории и журнале родов моя подпись, извините, на большее количество проблем тянет. Девочка слушалась. Она вообще была очень умилительная. Всё время извинялась. Ещё в первом периоде. Пукнет – и извиняется полчаса. Вырвет – и опять-снова давай волынку тянуть. Мы уже ей поклялись на списке резервных доноров, что и не такое видели и вообще мы обожаем, когда роженицы пукают, какают и всячески демонстрируют своё непосредственное участие в процессе! Но девочка вела себя, как будто вовсе не медучилище заканчивала, а наоборот – Смольный институт. А закись азота – штука коварная. Она гладкую мускулатуру расслабляет. Всю. Не только маточную.
Девочка дышит, пукает, извиняется и хихикает. Анестезиолог веселит и гладит. Анестезистка давление меряет. Я сердцебиение слушаю. А Рыба помытая вся уже в промежность зрит и бурчит. И тут я, значится, поглаживая девочке живот, говорю: «Начинается!» – ну, в смысле потуга и чтобы Рыба там рамсила внимательнее руками, а не бубнила уже под нос. А Рыба – помним – глухая тетеря! – забурчалась и не услыхала. И надо же было такому случиться, что на сей раз девочка не только мило пукнула, а и выдала направленную струю, как из брандспойта. До кафельной стены достало. А на «линии огня» что? Правильно. Рыбий фейс. Но рефлексы старых мастеров – наше всё. Рыба руки помытые профессионально куда надо сунула и с рыком: «Юрьевна, г…но с очков протри!» – приняла плод живой доношенный пола женского с оценкой по Апгар 8 баллов.
Анестезиологу хорошо. Он в коридор повеселиться выскочил.
На следующий день Рыба сказала мне, что хочет вскрыть себе вены. Потому что медсестра преследует её с целью ещё раз извиниться. И ещё раз. И ещё раз. И ещё раз. И ещё раз. За то, что съела очень много мандаринов во время первого периода родов. Мы ей разрешили два-три, но отвлеклись. Не стали в пакетах рыться – это же личная собственность. А ей казалось, что всё ещё два-три. А тут – закись.
Рыбу долго доставали. Потому что анестезиолог божился на курочку Рябу, что Рыба маску надеть не успела и облизнулась. Чисто рефлекторно. А Рыбе по фигу – она ж глухая. Главное, что акушерские рефлексы в норме. А заведующий пел ей песню: «Наша служба и опасна, и трудна». А как Рыба шутила в ответ и в рифму, я вам не расскажу. Оставлю простор для творчества.
Послеродовое закаливание
В те времена, когда в наших широтах в январе было примерно так же, как сейчас, шли мы шумною толпою к родильному дому. Шумная толпа состояла из профессора, главврача, начмеда, главной и старшей медсестёр, стайки доцентов, заведующих отделениями, вашей покорной слуги и пары-тройки весьма улыбчивых и жизнерадостных американцев. Граждане Соединённых Штатов Америки были накормлены пельменями под завязку, напоены от души, но не сильно, ознакомлены с «потёмкинскими деревнями» в виде достижений нашей женской консультации на ниве планирования семьи и теперь хотели в роддом. Смотреть, любить и вообще гуманитарно наслаждаться.
А в любом роддоме есть обсервационное отделение. А в любом обсервационном отделении – изолятор. И надо же было такому случиться – а случалось это достаточно часто, если не сказать регулярно, – в изоляторе у нас пребывала родильница с ярко выраженной ломкой. Эти пользовательницы инъекционных наркотиков, как правило, такие маленькие, тоненькие, прозрачненькие. Но когда «синдром отмены» – товарняк за бампер потянут и не хрюкнут. А умелые какие становятся – любой слесарь обзавидуется. И сия ярая приверженка опиатов кустарного производства решила встать и идти. За дозой. А как идти, если в сторону родзала дверь на замке и та – бронированная, а что на улицу – закрыта. Со стороны родзала – хорошо обученная на задержание санитарка. Но идти НАДО!
Браншей пулевых щипцов[36]36
Пулевые щипцы – медицинский инструмент. Бранша (лат.) – ветвь щипцов.
[Закрыть] – позже в изоляторе инструменты не оставляли ни в каком виде – она вскрыла бронированную дверь от хвалёной фирмы и двинула за продуктом. Накинув на себя синий больничный халат и одеяло, но почему-то босая. Хотя тапки были.
Итак, со стороны ЖК к роддому идём мы шумною толпою, а в это время со стороны изолятора, обогнув роддом, к нам приближается сия фея. Расстояние между нами стремительно сокращается. Американцы видят – а нам уже поздняк метаться, – недоумевают и спрашивают, мол… what is… далее неразборчиво, ну и глазки закатывают. То ли от культурного шока, то ли от шока неясной этиологии. Профессор их фейсы оглядел, на девицу взгляд кинул и мне моментально:
– Переводи!
– Чего переводить? Вы ж ничего не сказали!
– Не перебивай, а переводи! Новая метода! Прогрессивное закаливание в послеродовом периоде! И ещё какой-нибудь жизнерадостной ереси добавь! И улыбайся, мать твою, улыбайся!
Американцы офигевшую девку даже по плечам похлопали. Всё-таки доверчивые они, как дети. А что профессор родильнице пообещал за хорошее поведение и понимание международной обстановки новые белые тапочки или убить быстро и не больно… Но анестезиолог в изоляторе был через пятнадцать минут. Профессор своё слово сдержал. Хотя уж больно трудна процедура списывания наркотических препаратов. И КРУ[37]37
Контрольно-ревизионное управление.
[Закрыть] может за кое-что неприятно взять холодными руками.
«Что вы их, жрёте, что ли?!»
Я работала в обсервационном отделении родильного дома, входившего в состав большой многопрофильной клинической больницы, давным-давно, когда бородатые анекдоты ещё были свежими юнцами, не знавшими бритвы.
Поступила как-то ко мне во палаты цыганка. Да не просто так – цыга-анка. А цивилизованная цыганка! И не сразу в родзал на потужной период. А на дородовую подготовку! Сказать, что мы всем отделением – да чего уж там – всем родильным домом пребывали в культурном шоке – не сказать ничего. При этом, глубокомысленно надув щёки, поразмышлять о Вернадском и о том, что пора отдохнуть на сессии в одном вузе из трёх букв, в который меня и занесло-то из-за берклианских философов. Я их проспорила. И пошла отвоёвывать обратно. Красивый такой университет, высокий, Воробьёвы горы, панорамы, парапеты… Видали, что с людьми в шоковом состоянии происходит? Материализация глюков. Вот. Поэтому вернёмся в приёмное родильного дома, куда давным-давно пытается поступить цивилизованная цыганка.
Вся она такая в дублёнке. Вся она такая при итальянских сапогах. Но в тех же засаленных юбках, что и соплеменницы, и вся так же увешана самоварным золотом.
Целуется со спутником страстно и требует у него принести ей в палату телевизор, еды да жёлтой прессы побогаче, потому что сериал, жрать охота и страсти ей нужны.
Акушерка ей так грозно, мол, давай паспорт, хорош целоваться, снимай дублёнку и трусы да ложись на кресло, тётя доктор тебя посмотрит. А тётя доктор – это я.
– Ой, зачем такие слова говорить, да? – заявляет цивилизованная цыганка с каким-то московско-армянским акцентом прямо в акушерку и жест дружелюбный ей делает, мол, не бойся, не погадаю! – Какой целовать, какой трусы снимать?! Зачем целовать?! Зачем трусы снимать? Где твой тётя доктор, говорить? – вываливает наша дружелюбная красотка весь свой запас глаголов почему-то в неопределённом времени.
– Я тётя доктор, – говорить я прямо в цыганка. – Надо переставать целовать, потому что лечебное учреждение и санэпидрежим. Надо парню делать «пока-пока», а дублёнка и трусы снимать, потому что без дублёнка удобнее кресло лежать, а без трусов тёте доктор удобнее осмотр тебе делать.
– Ой, зачем мне осмотр?! Я скоро рожать!
– Надо осмотр! Здесь все рожать, кроме она и я. – Почему-то я тоже говорю глаголами неопределённого времени и ржать про себя. А пальцем показывать в акушерка и я.
– Я – смотреть тебя без дублёнка и трусы. А ты мне говорить, на что жаловаться.
– Ой, на что же жаловаться, только на жить. А жить невозможно, потому что п…да сильно чесаться.
Всё! Это был полный алес капут, и мы бежать в коридор, чтобы валяться немного и приходить в себя. Потому что куда там Вольтеру. Ему такое и не снилось. Вкупе с деканом Джонатаном Свифтом.
Кольпит у цыганки цветущий, не смотри, что цивилизованная. А может, именно поэтому. У её менее окультуренных сородичей я редко встречала столь буйные слизистые, творожистые и прочие выделения, обильно струящиеся и вызывающие уже не только зуд, а и мацерацию наружных половых органов. «М-да, – думаю, – мыться им вредно, а дело плохо. Войдёт она в роды, так под головкой плода все ткани влагалища у неё и разъедутся, как ветошь на лохмотья, вдоль и поперёк! Тут результатов мазков и бакпосева ждать некогда. Тут массированную местную антибактериальную, антигрибковую и прочую антитерапию надо срочно начинать». Хотя мазки, конечно, взяла и выделения на бакпосев в лабораторию отправила. После того как она дублёнку с трусами сняла. Уговорили-таки.
В общем, накатала список «чего купить» тому, которого она страстно целовать. Он, надо отдать должное, нехарактерное для цыган, мухой метнулся, приволок и телевизор, и газету «СПИД-инфо», и лекарства по списку, и даже ещё одну пару трусов, чтобы тем, первым, скучно не было. Этот предмет туалета цыганки, к слову сказать, не очень пользуют. Те, что мы её всем приёмным убеждали снять, были единственными. Она нам уважение оказала, так сказать, а мы – давай снимай трусы! Не оценили.
Обустроилась мамзель со всем комфортом. Наелась, улеглась, газетами обложилась и телевизор включила – цивилизованная же, говорю вам. Ну, вот я на бумажке этой самой читающей в нашем роддоме цыганке и накатала, чего, куда и как. Эту свечу вагинальную из этой коробочки – сюда с утра, опосля омовения причинных мест. Вот эту свечу, опять же вагинальную, – сюда же, но уже ввечеру перед отходом в объятия Морфея и уже не мыться! Пять раз повторила. Заставила мне ценные указания вслух прочитать. Она мне:
– Я чё тебе, дура какая необразованная?! Я всё понять с первый раз, не волноваться!
– Хорошо, я пойду дальше не волноваться по поводу других образованных, а ты, если всё правильно делать, так через пару дней уже и не чесать нигде. Кстати, не чесать! А мыть вот это, что ты сейчас всё ещё чесать прямо при мне, ни стыда ни совести, перед трусами стыдно! – марганцовкой. Возьмёшь на посту у акушерки. В тёплой воде разбавишь до нежно-розового раствора и мыть. Мыть, а не чесать! Ферштейн?
– Да всё ферштейн, давай уже ауфидерзейн, ма танте дохтур!
В общем, положилась я на её интеллект и нашу современную цивилизацию. А зря я это делать, как показать дальнейший событийный ряд.
На следующее утро на обходе вопрошаю:
– Какие жалобы, гражданка, предъявляем? Только не совсем по-русски, а как образованная.
– Пися чесать, – отвечает.
– Вот видишь? Можешь, когда сильно хотеть, прилично говорить! А ну, раздвинь ноги!
Там всё так же, но никто особо шустрой динамики и не ожидал. На вечернем обходе – та же фигня. И на следующем утреннем. И снова – на вечернем. И опять – на утреннем. «Ну ладно выделения – не всё так скоро с жизненным циклом микроорганизмов. Но чесать… Тьфу ты! То есть зуд уже должен значительно уменьшиться!»
– Марганцовкой полощешь свои наружные гениталии? – спрашиваю строго.
– Полощу, чего бы не полоскать. И вот это вот, что ты сказать, полоскать, и руки мыть, что я, не понимать? Я ещё два дня назад в ведре разводить! – И ведро у койки показывает. – А почему не помогать?
– Если бы я знать! – отвечаю я даме, а сама думаю: хрен бы с ней, с марганцовкой. А почему этого слона самые современные антибактериальные препараты широчайшего спектра действия не берут-то? В мазке вроде ничего необычного. Просто запущено всё до ужаса. Что в бакпосеве вырастет, я уже тоже могу с точностью до 99,99 % предположить. Зуд уже должен пройти! Или хотя бы пойти на убыль. А санитарки мне уже настучали, что ёршик из санкомнаты пропал.
В общем, думала я думу до самого вечера. Ничего не придумала. Случился у меня мыслительный тупик. В тупике терзались Сомнения в приступе клаустрофобии, и лишь одна неясная Догадка, глядя на них, спокойно курила в сторонке. Озарённая светом её сигареты, пришла я к цивилизованной, образованной моей цыганке во палаты и говорю ей человеческим голосом:
– Показывай!
– Так видела уже два раза сегодня.
– Не то показывай. Показывай свечи. И упаковки.
Она их из тумбочки вынула и мне протянула. Смотрю – в упаковках все на месте. Только по одной свече в конвалютах не хватает.
– Ну и зачем ты мне врёшь?!
– Зачем я тебе врать! Я не врать! Как ты мне написать, так я и делать!
– Показывай, мать твою, что ты делать и как! Тут, при мне показывать!
И тут это достижение цивилизации достаёт из кармана халата одну свечу, дует на неё – типа пыль стряхнуть и крошки от сухарей с изюмом, асептика и антисептика, блин, – ложится на спину, раздвигает ноги и… И тут я ору ей:
– Стоять! Показать мне свечу!!!
Как вы думаете, что сделала эта прекрасная фея? Она аккуратно вырезала свечу из конвалюты. По краешку. По контуру. По шву. И каждое утро совала одну. А каждый вечер – другую. Честно-пречестно. А потом – вынимала, споласкивала и клала в карман халата. До следующего употребления.
С тех пор, назначая вагинальные, ректальные и всякие прочие свечи своим пациенткам, я уточняла: «Предварительно снять упаковку». Они, что правда, смотрели на меня несколько странно. Но мне, честно-пречестно говоря, было абсолютно всё равно, что они обо мне думают. Лишь бы динамика была положительная и общее состояние удовлетворительное.
Больше я ничего не хотеть!