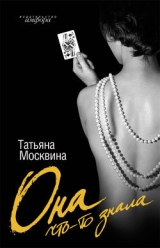
Текст книги "Она что-то знала"
Автор книги: Татьяна Москвина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
6е
Вон та пожилая женщина, которая только что села в трамвай, явно держится подальше от кондуктора. Собственно, жизнь давно попросила её на выход, и она сама это понимает. Платить больше нет смысла. Билет на тот свет уже лежит в её сумочке. Он сгодится и для проезда в трамвае.
Элъфрида Елинек. Пианистка
– Очень хорошо, что вы историк, только какие у вас проблемы – я не понял, простите.
Пожилой, но весьма бодрый и моложавый обитатель офиса Фронта гражданской защиты на первом этаже блочной девятиэтажки одновременно разговаривал по мобильному, тыкал пальцем в компьютер и кивал Анне. В другой комнате, видимо, шло какое-то заседание, раздавались крики и смех.
– С кем я разговариваю… то есть простите – с кем я пытаюсь разговаривать?
«Фронтовой защитник» прекратил беседу, отвернулся от компьютера и улыбнулся Анне, только сейчас разглядев, что к нему, однако, обращается приятная молодая женщина.
– Тыща извинений! Суета! Два месяца как переехали, ужас! Кирилл Венский – такая фамилия. Секретарь правления.
– Анна Кареткина. Я хочу вас спросить от имени… друзей и родственников покойной Лилии Серебринской…
– Да-да. Ужас!
Слово «ужас» было самым частотным в словаре Венского. Произносил он его четко, громко и весело.
– Вопрос такой: успела ли Серебринская передать Фронту гражданской защиты деньги на переезд? Потому что некое лицо передало ей эти деньги и некое лицо интересуется через родных и друзей, какова судьба денег.
– Некое лицо? Артур Балиев, акула капитализма, знаем мы это лицо. Да, было дело – поступили сорок тысяч рублей. Лилия Ильинична передала. Мы, конечно, поспорили, посовещались – ну что ж. Против лома нет приёма, да и нет другого лома! Ужас! Ладно, взяли. С паршивой овцы хоть файф о-клок, знаете ли. Пожалуйста, можем дать полный отчёт, что куда. Оприходовано как личный взнос из собственных сбережений. Прозрачно! А вы что ж беспокоили-то себя, в такую даль ехали? Вы бы позвонили сперва, как, что. Чайку хотите?
– Heт спасибо. Я звонила. Мне и сказали, что по четвергам многих можно застать. Я, видите ли, хотела бы написать статью в память Лилии Ильиничны. Вот хожу, расспрашиваю людей.
– О чём?
– Что за человек была Лилия Ильинична.
– Прекрасный человек!
– Это два слова. А мне надо написать их не меньше тысячи.
Венский хмыкнул, почесал в аккуратной бороде, зачем-то полил чахлый хлорофитум на подоконнике водой из пластиковой бутылки с откромсанным верхом.
– Вы хлорофитум с улицы Правды перевезли? – зачем-то спросила Анна.
– Да, – отозвался Венский. – Галя сама перевезла, лично. Галя – наша помощница по хозяйству, десять лет уже. Вот любит этот больничный цветок…
– Больничный и школьный. Он во всех школах. Из комнатных самый неприхотливый.
– Как наши граждане. Вы знаете, я удивляюсь, как мало нужно нашим людям – в массе, конечно, в гуще. Какое поразительное отсутствие сознания прав… Лилия Ильинична, да. Старейший член общества, с тыща девятьсот восемьдесят восьмого года. Мы же не партия, мы добровольная общественная организация, наша цель – гражданская зашита.
– Это я знаю, – терпеливо сказала Анна. – И даже не пытаюсь понять, что это такое. Я насчёт Серебринской.
– Насчёт Серебринской, – повторил секретарь, смотря на Анну, и Анна увидела, что в его глазах нет ничего.
– Кира! – В комнату заглянула плотная, коротко стриженная дама («Тетка с претензиями» , – подумала Анна). – Ты тут что?
– Посетитель, – ответил Венский. – Я скоро.
– А вы по какому вопросу, девушка? У нас заседание. Письмо пишем в правительство. Хотите – заходите. Вы кто? Хотите подписать письмо?
– Нет, – любезно ответила Анна. – Я вам не пригожусь. Я никто.
– Кто был ничем – тот станет всем, – пропела дама, уходя. – Кира, мы ждём! И девушку тащи. Она с юмором. Я Настя Павловна. Привет!
– Пишем, реагируем… – задумчиво сказал секретарь.
– На что?
– Да практически на всё.
– Это умом можно тронуться – на всё реагировать.
– Как можно не реагировать! – удивился секретарь. – Мы с восемьдесят восьмого года реагируем, на все действия властей. Они закон – мы им письмо. Они приказ – мы воззвание.
– А они читают?
– Ну… – замялся Венский. – Кто-то читает…
– А Серебринская? Вы с ней много общались?
– Конечно, общались. Прекрасный человек, исключительно положительный настрой всегда.
Анна посмотрела в глаза секретарю, не понимая, шутит он с ней или нет, и опять не увидела ничего. Видимо, жизненные впечатления не откладывались в моложавом гражданском защитнике, протекали сквозь его прозрачное существо. Или он хитрил, скрывался?
– Как она себя чувствовала в последнее время?
– Как чувствовала? Скорбела, как мы все. Теряем позиции! А, собственно, вас что интересует?
– Меня? Ничего. Попусту трачу время, – ответила Анна и собралась уходить.
– Подождите! – крикнул Венский вслед. – Не сердитесь. Вы не знаете нашей жизни – кругом враги, кругом. Откуда мне знать, кто вы такая? Но похоже, действительно вы что-то там пишете. Вызываете доверие почему-то. Я вам дам один документ. Это написала Лилия Ильинична совету Фронта, летом. Ужас! Возьмите, это копия, я размножил для прочтения, – и он протянул Анне три листочка. – Я совершенно не согласен с автором ни по одному вопросу. Но вам может быть полезно. Там… там всё понятно.
Письмо Серебринской в совет Фронта гражданской защиты, датированное 20 июня 200… года, отличалось той тяжёлой и мнимоисповедальной искренностью, с какой в советское время писались отдельными индивидуумами письма к съездам, союзам, группам и так далее; нечто фанфарно-звенящее и вместе с тем угрюмо-чугунное. Человек обращал голос не к живым людям, но к могучей глыбе коллектива, а потому изначально, энергетически был не прав и неправоту свою знал и чуял, однако знанию своему шел наперекор. Где-то за горами коллектива ему мерещился маяк истины, который, как считал человек, манил его подлинным светом.
«Согласитесь, – писала Серебринская, – как старейший участник нашего движения, я имею право на собственный взгляд и своё мнение о том, что с нами происходит сегодня. Сегодня главная наша тема – жилплощадь на улице Правды (смешно звучит – ив прямом, и в переносном смысле!), мы боремся за неё неистово, но во имя чего? Для чего и кому мы нужны? Наша помощь гражданам мизерна, ничтожно мала. Мы просто кучка пожилых, растерянных людей, выражающих свои эмоции в письмах и воззваниях, которые никому не интересны и никого не останавливают. Гражданское общество в России не сложилось. Сложилось и уже застывает нечто иное: благоденствие для десятка миллионов вокруг эксплуатации природных ресурсов, с одной стороны, и узаконенная, санкционированная нищета с лютой борьбой за существование – для всех остальных, с другой стороны. Надвигается тотальная дегенерация страны. Выросло поколение дебилов, готовых убить не за копейку, а просто так и с удовольствием. Исчезают целые профессии и ремёсла. Что мы можем этому противопоставить? Кого и как мы будем защищать? Честно ли это – присваивать себе благородные цели и задачи, которых мы не в силах выполнить даже отчасти?
Мы хлопочем, мы имитируем бурную деятельность, мы морочим голову людям, которые всё ещё обращаются к нам, – и каков результат? Как наивысшее достижение товарищ Копец, друг мой и соратник, преподносит скверик на Васильевском, который жителям с нашей помощью удалось отстоять. Ну да, на этот год, может быть. Но разве вы сами не знаете, что они срубят всё, что захотят срубить, уничтожат всё, что захотят уничтожить, и застроят всё, что захотят застроить. Потому что у них кипит нутро от азарта, потому что в них горит огонь желанья – захапать, стащить, схавать! Они всего хотят и сразу, им подавай не дом, а домище, не машину, а машинищу, не деньги, а деньжищи! Поймите – это термиты, которые идут полчищами и сжирают всё на своем пути. А вы им письма пишете, укоряете. Не огонь у вас внутри, а тихий плач. Это в лучшем случае.
Я не могу скрыть своего глубочайшего разочарования в работе Фронта. Я отдала борьбе столько сил, что имею право сказать сегодня: борьба бесполезна. Я так создана, что не выношу вранья. Как человек, верный своим добровольным обязательствам, я напишу все воззвания по делу нашей жилплощади, о которых вы просите меня, но как только долги будут выплачены, я уйду…»
«С деньгами что-то не сходится, – прикидывала Анна. – Примерно полторы штуки она отдала Фронту, на маленький этот телевизор и прочее долларов шестьсот ушли, не больше, сто баксов стырила Анжелка и восемьсот обнаружила дочь после смерти, ещё штука непонятно куда уплыла… Про Фронт всё теперь более-менее ясно, остались дочка и подруги… Да, с такими настроениями не могла она очень уж терзаться муками совести. Это, получается, похоронные деньги – Лилия Ильинична хоронила себя как общественного деятеля. А всё-таки как это странно – могла ли Серебринская, примерная ученица советской школы, обладательница красного диплома Университета имени Жданова, представить себе, что когда-нибудь примет взятку от местного бизнесмена, да ещё в денежных знаках вероятного противника! Да, как и всем, сидящим в русском самолёте, ей была непонятна, была неощутима для неё сверхзвуковая, сверхчеловеческая скорость его исторического полёта. Мы должны были всем миром сойти с ума, – подумала Анна. – Мы-то, с нашими страстями и аппетитами, с корявой развинченной психикой! После двадцати с лишним лет социальной стабильности, тихо прораставшей язвами и опухолями, въехать в эдакую ненаучную фантастику! Но что интересного в русском полёте найдётся для мира, для опыта веков? Хоть бы святые какие объявились. Или хоть войну бы какую выиграли, или изобрели чего-нибудь. А получается, сначала пыжились – мы наш, мы новый мир построим, – а потом лопнули. Натёрли пятёрку на тёрке… Вот стишок привязчивый какой…»
– Крузенштерна моего переиздают, – похвалился Яков Михайлович. Он всё недужил, кутался и в лечебных целях пил коньяк не гольём, а горячий и с молоком. – И статью заказали в альманах – про Минина и Пожарского. Не знаю, не знаю… лепил и я, не скрою, сладкие пирожки, но нынешний развратный стилёк мне не освоить уже, всё, выпал я из корабля современности. Как им надо, я написать не смогу.
– А как им надо?
– Ну, там что-нибудь: «Тайна русской победы», «Князь и говядарь: загадка Смутного времени»… Самое интересное в истории то, что в ней вообще нет и не было никаких секретов и тайн. Что таинственного в том, что народ, доведённый до края, находит силы собраться и ударить? Что можно найти загадочного в обыкновеннейшей физиономии Козьмы Минина? Он был один из всех. Мужичок чуть толковее и расторопнее других…
– Всё-таки в Смутном времени были кое-какие загадки. Личность Самозванца, к примеру. Вы же знаете, что многие серьезные историки сомневались в официальной версии и не находили совпадений личности Гришки Отрепьева, беглого дьяка, и личности царя Дмитрия. Как-то вёл он себя не по-русски – не спал после обеда, ходил по Москве, привечал католиков. Вообще его царствование – какая-то странная мазурка. Учредил гласный суд с «выборными от всех чинов народа»…
– Что тут странного, Анечка? Пришли поляки, поляки и рулили, отсюда и суд, и призывы к веротерпимости, и прочее, а этот царёк, кто б он ни был, исполнял свою роль. Наши либералы почему-то любят этого злосчастного Самозванца – как своего предшественника по реформам. Таких предтеч скрывать надо, а не гордиться ими! Лиличке Серебринской тоже нравился первый Самозванец. Умер, говорит, героически, сопротивлялся московской черни, кричал: «Я вам не Годунов!» Не знаю, откуда она это взяла. Кстати, вы пойдёте на сорок дней Лиличке?
Анна освоилась в берлоге Фанардина, соорудила ему среди книжных горушек уютное лежбище и уже не смеялась в лицо, а лишь чуть улыбалась, когда романист звал её замуж.
– Как раз в этот день и не могу никак. Замолвите уж словечко за меня перед дочерью. Что-то, по расчётам, тысячу баксов не могу отследить из той суммы, что получила Серебринская. Уплыли куда-то.
Фанардин лежал на диване, в ногах дремала овчарка. Она теперь открывала навстречу Анне только один глаз, светившийся потусторонним спокойствием, – её бог был совсем близко.
– Эх, Анечка, – сказал романист. – Я сам из бедной семьи, из простых. Мама вообще – подавальщица была в заводской столовой. Мурманск, эх… Я очень любил деньги, вещи красивые, прямо дрожал. Как увижу у кого новую машину – беда: сердце занимается, так хочу! Халтурил со страстью – прямо видел, как мои скудные смыслом.
мнимо-цветастые строчки превращаются в крымский отдых, в свежее рыночное мясо, в антикварные подсвечники… И как отрезало. Уже лет пятнадцать, да, с реформ с этих вонючих, ну, думаю, Бог ты мой. пропади оно всё пропадом, да разве ж можно так! Вылезли черви… Копошились, извивались, назывались «сфера обслуживания», золото в банки складывали и на дачах в землю зарывали – факт, знаю! – и вот они, жопами наружу, взошли ясным днем, как репки! Здрасьте, тётя Маня из ресторана «Тройка» и дядя Ваня, завскладом, завзадом и завадом. Господи, столько мучений принять, лучших людей схоронить, чтоб теперь в такую тошноту въехать!
– Ну, деньги – это нормально, – ответила Анна. – Дисциплинирует. У нас, конечно, есть тенденция к чрезмерности во всём…
– Нельзя всё считать! – закричал Фанардин и аж закашлялся с натуги. – Мир создан не по правилам арифметики! Пусть тётя Маня живет, но пусть строго знает своё место, пусть на колени падает перед воином, перед священником, перед учёным, перед мастеровым даже! Пусть трепещет! Пусть не лезет в алхимические дела Большого государства со своим копеечным расчётом…
– Знаете, – ответила Анна, – я читала где-то, что каждый из нас внутри носит свой дом. И когда выпадает время его воплотить, этот внутренний дом вылезает наружу. Я ехала летом в Зеленогорск к приятелю и видела за невысокими – чтоб все могли рассмотреть! – стенами целые скопища таких вот вылезших наружу внутренних домов. Целые посёлки самодовольных, хвастливых, придурковатых уродцев. Они толпились на маленьком пространстве, в двадцати-тридцати метрах друг от друга, со своими невообразимыми башенками, эркерами, галереями, круглыми и овальными окнами, сооружённые без всякого правдоподобия, без мысли о стиле, вкусе, новенькие, щегольски раскрашенные… Это были внутренние дома людей, оставшихся без всякой узды, без гнёта традиции, со своими аппетитами и мечтами наедине. И я подумала – может, так и надо?
– Чтоб всё скрытое уродство душ вылезло наружу и воплотилось в материи?
– Да. Потому что это несёт какое-то потенциальное освобождение. Ведь сбывшаяся мечта отваливается от человека, как сытый кровосос.
– Вы только учтите, что каждый ещё носит в себе свой внутренний автомобиль, внутренние шубы и сапоги, внутренние брюлики и внутреннего убийцу. И что с нами будет, если это всё начнет воплощаться?
– Так и воплощается уже, Яков Михайлович, и ничего с этим не поделать.
– Завидую я вашему спокойствию, – проворчал Фанардин.
– Я ни при чём, честное слово. У меня от природы что-то с эмоциями – будто какой-то центр блокирован. Мне секретарь Серебринской сказал, что я в этом отношении похожа на её дочь Катю.
– Не-ет… Одно и то же не одно и то же. Катя – здоровый циник и прагматик. Это женщина-калькулятор, ей на Западе самое место. А вы странная, закрученная-заверченная, просто у вас, видимо, в чувственном аппарате поставлен предохранитель. Редкая в нашем Отечестве деталь. Вы покопайтесь в предках – может, там англичане были или шведы?
– Знаете, Яков Михайлович, я уже боюсь с вами разговаривать… Был швед, был, дед двоюродный по маме, Якоб Вальштрем. Слушайте, а давайте я вам сюда телек из кухни притащу? Будете лежать и смотреть.
– Да ну, – отмахнулся Фанардин. – Что там смотреть-то? Холуйские новости?
7ё
Собою упоённый небожитель,
Спуститесь вниз на землю с облаков!
Поближе присмотритесь: кто ваш зритель?
Он равнодушен, груб и бестолков…
Валите в кучу, поверху скользя.
Что подвернётся, для разнообразья.
Избытком мысли поразить нельзя —
Так удивите недостатком связи!
Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст
Человек в глазах другого человека всегда хорошо, плотно, окончательно очерчен: а вот самого себя ещё поискать надо. Старая женщина предъявляет фотографию смеющейся тонкорунной девы: это я. Да что вы говорите! Надо же, как вы были хороши. Но что же получается, если сложить все моменты, если приплюсовать младенца в пелёнках к ребёнку в штанишках, затем втиснуть в контур подростка, потом – юношу-деву, потом… уф! Ничего не выходит, не совместить это в человеческих глазах, тут другие нужны, неподвижные, вечные, бесстрастные, что никакого момента не опускают, отвести взгляд не могут, и для этой точки восприятия смена очертаний куда занимательней отдельного контура. Тогда выходит, что человек не более плотен, чем мелодия, только на его разворачивание больше времени уходит. Человек – это форма речи. И блаженны те, кто не мешает хозяевам речи беседовать между собой. Спорить нашими телами, обмениваться впечатлениями с наглядной помощью наших судеб. Мы слуги. Это знали мудрецы всех времён. В нас хронически нуждаются господа, когда мы исполняем их волю, и мы бесполезны для жизни Имения, когда, исполнившись переносных значений, мы убегаем от хозяев и воображаем сами себя господами. И вот тот, кто должен был быть важным знаком препинания – например, точкой в конце фразы господского текста, – распухает на бессмысленной свободе в мёртвый чёрный ком, а рядом корчится междометие, пытаясь своей энергией преобразить пустоту, в которую его угораздило рухнуть. Сбежал беспутный глагол и надеется сам творить, подбивая на бунт ленивые существительные! А прилагательные женщины бродят на воле, избегая сочетаний… Итак, господам приходится работать с тем, что осталось, а этого едва-едва хватает на связное письмо. Влюблённые боги больше не могут обменяться затейливыми стихотворениями, так оскудела человекоречъ. Глаголы ненадёжны, плохо с эпитетами, а главное – речь теряет размер, не держит форму.. Приходится вычеркивать. Постоянно приходится вычеркивать.
Анна с неудовольствием опознала в Катрин Лепелье, Кате Серебринской, своего западного двойника – более ухоженного и более самоуверенного. Стройная, отчуждённо-любезная, с короткой стрижкой и маленькими быстрыми ручками, Катрин во время разговора с Анной не прекращала хлопоты по дому – отбирала книги на продажу и в подарок, складывала ненужные бумаги в мусорные мешки.
– Ох, мама, мама… Мама была в депрессии уже давно, – объяснила Катрин. – Хотите, кстати, что-нибудь на память? Вот, хорошая фотография, возьмите. Позавчера, когда мы маму поминали, многие говорили об этом. Её сильно подкосила смерть Михаила Александровича, это её второй муж. Они ведь прожили около двадцати лет. Михаил Александрович был учёный, известный правозащитник, и они подходили друг другу, как глубокие родственники. Да, семь лет назад он и умер, он старше мамы был значительно, а я уехала через год. С моим отцом мама рассталась, когда я совсем малышка была, – студенческий летучий брак, так что я воспринимала Михаила Александровича как родного папу. Но не называла так. Дядя Миша или просто Миша. Благодаря ему у меня сформировался положительный образ мужчины, которому я не нашла соответствия на родине. Я понятно говорю?
– Я понимаю вас. Но, видите ли, если бы мама ваша была жива, никто бы и не вспомнил ни про какую депрессию. А задним числом легко накопать горы аргументов. Прожила же Лилия Ильинична несколько лет и без Михаила Александровича, и без дочери. Знаете, у меня был друг – театральный режиссёр, так он говорил: закон всякой драмы – что случилось сегодня?
Катрин покачала аккуратной головой. Эти серые глазки под высокими тонкими бровями видели множество прекрасных пейзажей, а соблазнительный ротик съел немало вкусной пищи, а ножки были обуты всегда в дорогую обувь, да и весь её складный организм никогда не терпел нужды – но глазки эти не были сыты, и ротик этот не был доволен, и ножки эти нетерпеливо переминались. «Миленькая стильная крыска…» – подумала Анна.
– Мама приезжала ко мне три раза. Я её любила, но очень плохо понимала. У мамы всегда было так много отвлечённых чувств! Она постоянно выходила из себя и жила вот будто вне тела!
– Отвлечённых чувств? Каких?
– Всякая там любовь к родине…
– Вы считаете это отвлечённым чувством?
– Мне всегда казалось, что это нечто наносное, искусственное. Нет в человеке органа для такой любви. Витасик! Два мешка на выброс!
Появился взъерошенный Витасик, припряжённый к разбору утильсырья, кряхтя уволок мешки.
– Удивительно: как ни следи за квартирой, всё равно накопится хлам, – заметила Катрин. – Вот наша бабушка была аккуратистка, каждый год производила генеральную уборку по железному правилу: вещь не понадобилась год – вещь не пригодится никогда.
– Мама вашей мамы?
– Да. Нина Петровна. Там же был мезальянс – дед Илья Иванович был учёный, с репутацией, с кафедрой, а женился в войну на медсестре Ниночке. Неудачный был брак, Илья Иванович ушёл из семьи, а мама его обожала и винила во всём Нину Петровну. Что она необразованная мещанка, что папе с ней было скучно. Я думаю, эта мысль сильно повредила маме, она стала подозревать в несостоятельности… всё обыкновенно-женское, что ли. Бабушка долго жила, вот в той комнате, где Витасик теперь окопался, и меня вырастила тихо, без деклараций. А маме когда! У мамы то поэт из Сибири живёт, ни здрасьте ни до свидания, то представитель какой-нибудь исчезающей народности, то мать солдата, то отец диссидента. Ни пройти ни проехать, как бабушка Нина говорила. Она умница была, умела деньги считать, готовила из ничего, она вещи берегла. При ней чашки не разбилось, а как умерла – мама всё переколотила. У нас сервиз был кузнецовский – ну, где? Одна супница осталась, потому что мама только, может, под ружьём перелила бы суп из кастрюли в супницу. Всё бегом! Всё несётся куда-то! Знаете, мама в детстве играла не с куклами, а с дедушкиной коллекцией минералов. И я думаю, она в поисках такой же чистоты и ясности нарастила вне себя какую-то искусственную личность. Искусственный кристалл… И он разрастался и давил её, давил… Но при Михаиле Александровиче это было ещё не так заметно. Он её как-то хорошо гасил.
– Успокаивал?
– Да. Он был очень порядочный, очень разумный человек. У него никакой ненависти к советской власти не было. Он просто вычислил, вывел по книгам и своему опыту, что не может быть такого общества, в котором человек не имеет права открыть свой ресторан. Что это фантом И в высшей степени разумно будет всячески приближать окончание этого миража. Он говорил, что, если человек лежит без движения, в нём образуется пролежень, так наш социализм и есть такой пролежень. Что это… как это… не способ организации социального тела, а область его умертвления. И что мы держимся за счёт русских накоплений, за счёт огромного наследства. Его чуть было не посадили в восемьдесят третьем году – тётя Роза спасла, нашла ходы какие-то… Мой муж Франсуа на него похож, вот смотрите.
Катрин достала две фотографии – мужчина с бородой в саду, опирается на лопату, и мужчина без бороды в саду, в той же позиции. Худощавые, с ясными глазами, они вправду были схожи. Кто из них Франсуа, было понятно по гламурнои расцветке фотографии.
– У Михаила Александровича была дача?
– Прекрасная, по меркам тех времён, в Новом Петергофе, и мы там жили по целому лету с бабушкой. Но после его смерти она досталась первой жене и детям. Мама же не расписалась с ним, представляете? Девятнадцать лет прожила! И не расписалась! Тут я вообще не понимаю, что это такое. Но даже в этой ситуации можно было подать в суд, доказать факт совместной жизни, общего хозяйства – нет, она отказалась и говорить про это.
– Никакого чувства собственности, да? Катя вздохнула – видимо, тут находилась самая болевая точка.
– В том мире, где я сейчас живу, такие истории нельзя рассказывать даже как послеобеденный анекдот – люди встревожатся: если у неё такая мамочка, может, она и сама ку-ку? Франсуа, который много знает, так он и не удивился её суициду, он всегда считал, что мама ненормальная… Я ведь рано ушла из дома. Как стала немного зарабатывать, так и ушла, снимала комнату. Мама считала меня эгоисткой, а она сама разве не была эгоисткой? Просто моё эго не нуждалось в поэтах из Сибири и солдатских матерях. Мне нужна была размеренная, обеспеченная жизнь, понимаете? Башмак надо подбирать по ноге. Мамина жизнь мне, можно сказать, жала… Хотите, кстати, что-нибудь из детективов? У мамы была неплохая подборка.
– Спасибо, я взгляну, – ответила Анна и принялась рассматривать книги. – Скажите, а Лилия Ильинична разговаривала с вами незадолго до смерти?
– Да, где-то за неделю, может быть. Она сказала, что скоро ждет девочек, своих в гости, что купила DVD и смотрит старые советские фильмы, только старые и что, когда они кончатся, придётся смотреть их снова, потому что больше ничего она смотреть не хочет. Ещё – ну уж теперь это можно рассказать – пожаловалась, что у нее в последнее время бывает, как в детстве, энурез, от нервного напряжения, а если выйдешь за продуктами или просто на автобус сядешь, то нервы неизбежны. Я убеждала её показаться врачам, но мама всегда жила вне тела и её бесила мысль этим телом заниматься. Я просила её приехать… Потом она бормотала что-то своё, поэтическое, про то, что вылезли крысы, серые шкурки, блестящие глазки, и что они грызут Петербург, грызут Россию. Спросила, помню ли я рассказ Грина «Крысолов», где крысы прикидываются людьми.
– А вы помнили?
– Нет. – ответила Катрин Лепелье. – Я только «Алые паруса» помню, которые отчасти сбылись в моей личной жизни. Приехал принц, прав да, пожилой, и увёз меня отсюда. Мне очень жалко маму, вы не подумайте, что я бессердечная. Она мной занималась, водила в танцевальный класс, заставляла языки учить – очень пригодилось. Читала перед сном часто, хорошие книги, только всё такие нереальные, вроде Грина. Она… очень добрая была, только мне казалось, что не надо для чужих быть доброй, а лучше внутри семьи, но она так не могла. Я её звала к себе, но она ни в какую. «Что я там буду делать»? А здесь, мамочка, какие ты себе дела нашла? Понимаете, она зашла в тупик. Ведь у нас выйти на пенсию – это социальная смерть почти. Да, она мне ещё сказала в том разговоре непонятное: нет, говорит, воздуха, нечем дышать…
– Если вы не возражаете, – ответила Анна, – я возьму Честертона и Топильскую. И какую-нибудь фотографию Лилии Ильиничны. И вот её книжку стихов.
– А вот, возьмите, здесь она такая, как в последние годы была, с длинным каре. Перед смертью она зачем-то подстриглась коротко-коротко. Совсем как чужая лежала в гробу. Отчего это покойники так не похожи на себя живых? Какие-то дурные куклы, плохие слепки. Я знаю, говорят – душа отлетела, жизнь ушла, главного в человеке больше нет, осталась мёртвая плоть, поэтому. Но почему вот если срезать цветок, он остается собой некоторое время, и мёртвые птицы – такие же, только глаза затянуты плёночкой. А человек сразу делается не такой, почему?
– Бог весть, – сказала Анна. – Я покойников мало знаю.
Пожилая усталая женщина смотрит старые фильмы, только старые фильмы, над которыми смеялась в молодости, где невинные влюбленные бегают под дождём, а следователи в поношенных плащах разоблачают мордатых расхитителей социалистической собственности. Этот мир когда-то породил её саму, а потом умер. Миры ведь тоже умирают. Но, может быть, питающаяся горькой реальной землёй Небесная Россия за счёт этой гибели обогатилась оттеночком наивного социализма? Женщина не думает об этом, не чувствует никакой веры. Там, где жила её чистоплотная, хозяйственная мама, теперь шуршит молодой губошлёп, гулёна-жилец, который иногда смешит её нелепостью манер и суждений. Когда-то она винила маму за уход отца и думала: что толку в этих пирожках и вечных постирушках? Разве ими удержишь господина? Нет, надо быть интересной и образованной, надо знать всё то, что знают они, и уметь всё то, что они умеют. Непременно должны быть виноватые. Кто-то всегда виноват. Кто-то должен нести ответ. Густое чёрное облако вины следовало на кого-то спихнуть. Мама плохая. Учительница плохая. Коммунистическая партия плохая. Капиталисты плохие. Но как ни старайся, облако вины хоть краем, да зацепит тебя саму. Женщина стала ощущать скудость, некрасивость, неверность своей жизни, если воспринять её как единую длительную мелодию метаморфозы бытия. Чего-то не хватало, недоставало, и как это исправить? Впереди была только одна, последняя метаморфоза – предстояло превратиться в старушку; если нет большого горя, метаморфоза занимает пять-семь лет. Но что было неверным?
В ней никогда не чувствовалось цветения пола, и глупо было бы подхлёстывать корявую, неказистую лошадку своей недопечённой женственности. Прямые жёсткие волосы скучного тёмно-русого цвета не укладывались ни в какую причёску: однажды она сделала мелкую химическую завивку, и лучшим друзьям пришлось смущённо и с жалостью отводить глаза, до того вышли безобразные патлы. Никакие ткани не ложились на прямоугольную фигуру – сминались, оттопыривались, так что наилучшим выходом всегда оставались неширокие брюки. Она была чистоплотна, старательно мыла своё тело каждый день, но в хлопотах могла напрочь забыть, что начинаются месячные, и несколько раз попадала в конфузные ситуации – однажды залила стул в парикмахерской, вот уж был стыд. Не то чтобы природа-мать не любит таких своих дочек, она к ним равнодушна. Второстепенная, служебная фигура. Надо служить, работать, а там и потом вы скажете, что вы страдали, что вам было трудно, и увидите небо в алмазах. Она и служила – друзьям, товарищам, идеям, мужу, обществу. Где же ошибка, в чём? А если ошибки не было, почему по утрам не хочется открывать глаз? Старые фильмы, уютная модель вечности. Люди в них, при всём разнообразии, похожи, как инструменты в оркестре, – играют одну мелодию, дышат общим воздухом… Тогда как за окном воздух у каждого свой. Да ещё поди его поищи.
«Она позвала своих подруг для решительного, главного разговора, не иначе. Наверняка Серебринская рассказала им всё, что происходило в её жизни. И только они, полвека дружившие с ней, могли удержать близкого человека от гибельного шага. ЛИМРА. Между прочим, в этом слове содержатся первые буквы их имен – Лилия, Марина, Роза, Алёна. Может быть, так и назывался их кружок? Связь прошла через всю жизнь – оказывается, именно Роза спасла мужа Серебринской от тюрьмы. Такой дружбе трудно не позавидовать, а впрочем… ведь не спасли. А хотели спасать? Как «девчонки» провели этот вечер, вот что интересно…»








