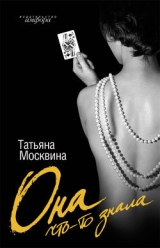
Текст книги "Она что-то знала"
Автор книги: Татьяна Москвина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Что она кричала?
– Да что-то как в стихах каких-то. Что вылезли чудовища и пусть они её растерзают. Что нет сил, вот это много орала, что она одна и у неё нет сил быть против мира. Пусть он её сожрет, типа. Хорошая квартира, чистая. Я подумала – может, пустит пожить? Я у одной тётки жила полгода, пока её не замели. Нормально было.
– Замели?
– Ну да, посадили. Они же все на денежных местах сидят, тётки, ты сама знаешь. Бухгалтеры, товароведы там, завмаги, в ЖЭКах в этих, в паспортных столах – всегда при котле. Аферисток тоже до чёрта. Все тырят, кое-кто и попадается.
– Ты думаешь, все тырят?
– Да стопудово. А чё им делать? Тётка, она если семейная – тогда надо придурков кормить, потому что там обязательно или дед лежит в параличе, под себя ходит, плюс мужик синий не просыхает, плюс внуки. Ну, суповой набор, ты сама знаешь. А если тётка одинокая – тогда она мается, приключений ищет. Или при ней гардемарин какой-нибудь, или девка. Бывают ещё тётки совком забитые, всего боятся – эти пьют. Жутко пьют. В любом разе бабки нужны.
– Стройная картина мира. Но я тебя уверяю – есть на свете другие тётки.
– Не семейные и не одинокие? Это какие?
– Которые не тырят.
– Нету, – твёрдо сказала Анжелика. – У нас в городе точно все тырят, сверху донизу.
Каждую осень, чаще всего в конце октября, бывает такой день, когда становится ясно, что погода портится безвозвратно, непоправимо, и впереди – сумрак, мелкие злобные ветры, сердитое грязное небо, плюющее в клиентов небесными остатками конца времени года, а дальше и того плоше – мокрый снег, гололёд, сломанные руки-ноги, темень, ругань, родина, зима.
Так же непоправимо и безвозвратно, как погода, испортилось пространство, по которому шла нынче Анна, разыскивая дом на улице Правды, где некогда обитал Фронт гражданской защиты. Улицы Правды больше не было, не было привычного с детства бульвара с тополями, не было ни одного знакомого Анне магазина или кафе. На полтора километра тянулась мощенная плиткой пешеходная зона, по одну сторону которой в неумолимом кладбищенском ритме лежали прямоугольные клумбы, неотличимые от могильных ничем, кроме отсутствия имени покойного, а по другую – мелкие пластические уродства, крошечные мостики, тумбы и фигурки неведомого назначения. Впрочем, имя покойного и так знали все… Торговые помещения исторического центра за пятнадцать лет реформ столько раз переходили из рук в руки, испытали столько беспощадных ломок, перестроек и ремонтов, что напоминали многократно изнасилованную женщину, которая уже ничего не помнит и ничего не понимает в происходящем с ней…
– Да я понял, по какому вы вопросу, – рыкнул мужчина Артур. Он стоял в разгаре своего ремонта, бурный и вдохновенный, как дирижёр, ведущий оркестр в кульминацию. – Пойдемте тут рядом, в кофейню. У меня ещё быт, видите, не сложился… Рустам, по стеклу с Базаровым свяжись, только с Базаровым, понял? Анечка, у меня полчаса только, вы поняли, да, отлично. Всё сам, иначе ничего не будет. Было так всегда! – помните, пели в фильме «Романс о влюбленных) ? «Было так всегда-а-а! Бу-у-дет так всегда!»
– За всем следить надо? – спросила Анна, чтоб хоть что-то сказать.
– За всем! И особенно – за всеми! Два экспресса, ха-ха. Это я так говорю – экспресса… Или что?
– Хорошо, я согласна.
– Может, погрызёте что-нибудь?
– Нет, спасибо.
В новёшенькой металлической кофейне, блистающей, как самолет, не чувствовалось, как и в самолете, никакого прошлого. Здесь не жили, не любили, не ругались, не выясняли отношений. Здесь, можно сказать, летели, будто и не оставляя жизненных выделений. Ничем не пахло. Даже кофе – не пахло.
– Артур, я не представляю никакой официальной организации, и всё, что вы мне расскажете, – останется между нами навсегда. Но мне надо понять для себя, для того, чтобы написать про Лилию Ильиничну, что случилось с ней в эти последние месяцы жизни. Эта история с переселением Фронта…
Балиев аккуратно отпил глоток кофе, а вовсе не опрокинул его махом в глотку, как предполагала Анна. Нет, он ценил мгновение, дорожил вкусом.
– Так себе кофеёк. Дерут по полной, а зерно берут самое дешёвое. Шестьдесят рублей, почти три бакса – за что, спрашивается? Это такой у нас, у коммерсов, круговорот, дорогая Анечка, – круговорот бабок по карманам. Большая обдираловка – новый русский аттракцион, да. Хорошо, я прямо скажу – я напрягся, когда там, на банкете, разговор пошёл, вот, значит, Лиля была боец, бойцов убивают и всё такое. Я-то хотел наоборот, чтобы никаких больше не было разговоров, никаких писем, и воззваний, и статей на туалетной бумаге, то есть в газетах в этих ваших – свинтили с жилплощади пулечкой, и всё. Я люблю иметь дело с главными лицами, а главным лицом в этом деле была ваша Ильинична. Этот второй клоун, Саша Копец, – это вообще чумовой дурак и мудозвон. Извините. Огрубел на строительных работах. Поехал к ней, как на свиданку, – вино, торт и бабки в конверте. Всё думал, сколько дать. Осмотрелся. Всё чисто-метено, никакой разрухи, книжки-картинки, даже секретарь-пидор ходит и чай варит. Но деньгами тоже не пахнет. Вижу – честная, хорошая тётка, осталась одна на старости лет, цепляется за эту свою общественную работу, как ещё в пионерлагере учили. Что и говорить! Крепко учили! У меня с собой было пять штук, дал четыре…
– Четыре? Вы точно помните?
Артур засмеялся.
– Как не помнить. Анечка, деньги – моя жизнь. Я помню свою первую зарплату так же твёрдо, как сколько заплатил за тур в Грецию в прошлом году. Я дал Ильиничне четыре штуки, да. Нормальная цена. Надеюсь, старушка хоть телевизор себе купила? Не всё бухнула в этот… фонд Фронта?
– Она купила телевизор. Только смотрела его недолго.
– Думаю, я тут ни при чём. А вы откуда узнали, кстати, про это дело?
– От… её друзей. Серебринская очень переживала. Видите ли, она в первый раз взяла… ну, взятку взяла. Что наводить тень на плетень.
– Не взятку, а компенсацию. Я занимаю их место – так должен как-то компенсировать беспокойство? По закону я прав. Но ведь есть и совесть, правильно? Ребята никаким бизнесом не занимались, ничего не шустрили, колготились там насчёт прав человека, зачем же мне их давить, правильно? Я мог и раздавить, например. Сейчас такие конторы, как этот Фронт, властям на хрен не нужны. Я заплатил – они съехали. Чисто, приятно. Хоть в церкви свечку ставь. А теперь выясняется, я ещё и виноват, что у старушки комсомольская совесть взыграла и она из-за меня таблеток наглоталась!
– Я этого не говорю.
– Ну, правильно. – Мужчина Артур вдруг погрустнел, и его некрасивая, густобровая, щекастая физиономия стала почти симпатичной. – Скажу вам как историку – мне самому жалко иногда кое-что из той, из прошлой жизни. И людей жалко – тех, бывших. Там такие бывали душевные люди, такие песни, эх! Заплутали мы, как в лабиринте, по своему же говну кругом ходим.
5д
Господа, положим, что человек не глуп. (Действительно, ведь никак нельзя этого сказать про него, хоть бы по тому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто же тогда будет умён?)… Но есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтоб иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного.
Фёдор Достоевский. Записки из подполья
Бывшие люди… слово ударило в голову, отозвалось узнаванием. Россия – страна, где всегда живут бывшие люди. Когда же это началось? Наверное, когда впервые завёлся в отечестве мираж новой жизни и стала оседать на дно истории бородатая, хитро прищуренная, осторожная допетровская Русь. Кто-то мчит вперёд, меняя моды и уборы, возводя дворцы и ликуя на пирах, – а кто-то застыл в вечной опале, вечной обиде, вечном старообрядческом «Не приемлем!». Очумевшие от прибылей лихие фабриканты смеются над промотавшимся помещиком, проевшим последнее выкупное свидетельство, но век лишь моргнул, и фабрикантов тащат к стенке бодрые красные командиры восставшего народа. А вот и командиры у той же стенки смакуют последний вздох – пришла пора святой инквизиции под новым именем, ордена меченосцев, очередных хранителей очередного Грааля. Но и новоявленные рыцари сгинут, выкинутые – это если повезло – после смерти Великого инквизитора на крохотную пенсию, и придут люди жоповатые, тестовидные Иван Иванычи – номенклатура партейная, да и они недолго на арбузных задах просидят! Тут другие подоспеют пастухи у новожизни, выйдут из-под земли небывалые быки-драконы огнедышащие, с малиновым звоном золотых цепей, собирать жатву крови… «На Московском государстве без лукавинки не проживёшь!» – советовал премудрый Лесков, старец древнего письма, да тут хоть как вертись – и с лукавинкой не проживёшь. Разбегайся, братцы, хоронись кто куда – опять новой жизнью лупят по головам, да по своим, да по своим!
Анна сидела дома, готовилась к завтрашнему уроку, но то и дело обращалась мыслями к чуть приоткрывшейся ей судьбе чужой женщины. Несмотря на очевидное скопление тяжёлых обстоятельств, которые могли привести Серебринскую к полновесному стрессу, что-то всё-таки было не так в этом самоубийстве. Человек, берущий взятку за молчание, может как угодно страдать и раскаиваться. Но он же взял деньги, стало быть, он хочет жить и эти деньги тратить. То, на что он хочет потратить деньги, ему важнее всякого стыда и раскаяния. Если бы дело обстояло иначе, Серебринская не телевизоры бы покупала а отдала всю сумму на нужды Фронта.
Или история с пёстрой тваришкой – Анжеликой. Допустим, Серебринскую на пенсионном досуге одолели запоздалые эротические фантазии.
Этого о людях лучше не знать, но ничего очень уж пакостного в этом нет. Как правило, людям только кажется, что они хотят воплотить свои грёзы в жизнь, – коли они, упаси боже, реально воплощаются, несчастные понимают, что ничего такого на самом деле они не хотели! Что они пренаивно приняли некое самоочищение психики, некие конвульсии дисбаланса сознания – за действительные планы своего «я». Женщины, которых возбуждает мысль об изнасиловании, вовсе не хотят его реально – в них, как правило, таким фантомным образом сказывается чувство вины перед миром за свою индивидуальность. Серебринская хотела с чем-то в себе разобраться и опять обрушилась в стыд, но действовала она, как человек, желающий жить, психовать и каяться…
Да, конечно, следовало разобраться с этой последней встречей подруг. Собака зарыта именно там. И дочь, Катрин Лепелье, – у неё записка, что-то может знать и она.
«Впрочем, не оставить ли мне эту затею?» – подумала Анна, любовно поливая свои домашние цветы. Все подоконники её строгого, упорядоченного жилья были уставлены растениями в белых и коричневых горшках. Других расцветок для горшков Анна не признавала. «Фикусу тесно. Летом он маханул, а теперь что-то приуныл, а рано ещё унывать… А драцена молодцом. Вот, миленькая, покушай… Забыть, не лезть, бросить историю заплутавшей женщины с такими ясными глазами и таким тёмным финалом? Но чего ради бросать? Что мне грозит? И потом, фигура частного детектива безумно привлекательна. Героическая позиция добычи истины скрашивается тем забавным обстоятельством, что истина ничтожна. Кто убил Гортензию Смит? Вот кто убил Гортензию Смит. А и хер бы с ней, с Гортензией Смит? Нет вот, не хер. Человек расследующий, человек, ищущий истину – как бы мала она ни была, – обречён на сочувствие. Даже на сочувствие самому себе. Вот я сегодня сама себе была интересна как следователь. Я поймала, кажется, юркий призрак жизни… Мы не умираем за истину, не бьёмся за неё – но разве мы её от этого меньше любим? Просто она стала не так доступна, как в те времена, когда вольные духи разбойничали на земле. Реформации, революции – это искушение истиной. Ну нет пока ничего. Ну пародия такая на жизнь. Но можно доискаться, кто убил Гортензию Смит! И чем я не детектив? У меня есть все качества хорошего литературного героя – например, у меня мало свойств. Для расследующего это так же обязательно, как любимые привычки. Хм, но у меня и привычек нет. Значит, я вообще идеал! Ни трубки Холмса, ни зонтика Брауна, ни усов Пуаро, ни вязания Марпл, ни орхидей Вульфа. Я воплощаю идею расследования в чистом виде. Я никто».
– Роза Борисовна, извините, я не расслышала – вы меня поняли?
Хрипловатый голос, раздавшийся в ухе Анны, был пропитан иронией и царственной важностью. На памяти Анны столь царственно разговаривала только завуч её школы, которую однажды прямо из кабинета увезли санитары. «Что на уме у этих тёток – я о.уеваю», – кстати вспомнилась Анжелика.
– Я поняла вас. Итак, ко мне обращается незнакомая женщина и просит рассказать, о чём я беседовала со своими подругами накануне… накануне смерти Лилички. Это исключено. Как говорят голливудские кинозвезды – следующий вопрос, пожалуйста.
– Следующего нет вопроса, – растерялась Анна. —Только этот и был.
– Только этот и был. Значит, будем считать, что контакт исчерпан.
Весь разговор.
«Да, случай тяжёлый и запущенный, – вздохнула Анна. – Не зря Яков Михайлович ещё в юности боялся эту Розу.. О, в дневниках Серебринской я же читала – царственная Роза имеет привычку с детства воровать в магазинах. Там ещё фраза имелась, дескать, я не сверхчеловек, как вы, и я так не могу. Значит, Роза считает себя сверхчеловеком? С чего бы это? Пора мне к Якову Михайловичу заглянуть…»
А Яков Михайлович ноябрём-то приболел некстати, но Анне сильно обрадовался. Открыл, весь заверченный в тёплое тряпьё, а как увидел, что Анна захватила для болящего коньячку, даже прослезился.
– Анюта! Выходите за меня замуж! Я вам наследство оставлю. А то сидим тут, старые пердуны, на жилплощадях! Пора место уступать, да…
– Дочка рассердится, – засмеялась Анна. – В суд подаст. Вы женитесь на какой-нибудь молодой злодейке, которой всё по барабану. Вот я такую недавно видела, по нашему делу, между прочим…
Странно, но факт: одни люди почти и не следят за квартирой, а она у них в порядке, все вещи на своих местах, а у других, как ни бейся, – бардак и свалка. Видимо, космос и хаос залегают в городской среде какими-то пятнами, пластами, зонами, и уж тут чистый фатум в законе, тут уж от личной воли мало что зависит: попался в зону хаоса, покорствуй. Так примерно разъяснял своей гостье хозяин, поскольку со времени последней их встречи пал даже тот уголок кухни, что некогда был прилежно расчищен.
– Вот клянусь громом, как Билли Боне! Они сами передвигаются! То есть книги, бумаги… чашки с тарелками, честное пионерское – сами ходят по квартире!
Собачка романиста, видимо, начала сдавать ключевые жизненные позиции, не решив для себя, стоит ли переживать ещё одну зиму. В прошлый раз она нехотя, но встретила Анну в коридоре, теперь же и брюха не подняла. Повела ухом, посмотрела – и снова задремала в предчувствии собачей вечности.
– Не волнуйтесь, Яков Михайлович, —утешила Анна старичка. – Я приберу. Дело нехитрое, старинное, женское…
– И что важно – совершенно бессмысленное. Вы заметили у нас в языке смешное выражение: навести порядок. На Руси порядок не устанавливают или там учреждают, нет, его – наводят, как чары или порчу! Неудивительно, что этот волшебным образом наведённый порядок не держится, а исчезает вмиг, как всякий морок…
За мытьём посуды и сметанием пыли и крошек Анна рассказала романисту о результатах своих расследований.
Фанардин застыл. Потом стал нервически покачивать головой.
– Нет больше честных людей в России! Нет! – и скорбно хлопнул две стопки кряду.
– Да ладно вам, Яков Михайлович… – улыбнулась Анна. – Когда они и были-то здесь, и с чего бы взялись? Вы сами историк. Нарушение присяги и клятвопреступление – это у нас норма жизни.
– Я никаких присяг не нарушал!
– Неужели? А помните, как нас принимали в пионеры? Как ревели горны, стучали барабаны, как развевались алые стяги… или висели, уж не помню. А мы дрожащими голосами обещали, клялись «горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза»… Так что мы все – клятвопреступники. А в народе вообще с этим просто – что за честь, коли нечего есть?
– Шутите, – вздохнул Фанардин. —Лиличка взяла взятку! Лиличка! Да я молился на неё…
– И ни к чему совсем. Молиться надо в церкви. А люди – они и есть люди.
– Вы так говорите нарочно. Самой ведь противно от того, что вы раскопали.
– Нет, нисколько. Мне Лилию Ильиничну жалко. Она запуталась, попала в круг страхов и страданий.
– Но теперь, конечно, ясно, почему она себя порешила.
– Вы думаете? Мне вот неясно. Неясно, зачем она взяла эти деньги, не на телевизор же, тут что-то другое, и уж вовсе непонятно, почему покончила с собой, – деньги берут люди, желающие жить, вот в чём дело. Она не казну растратила, не своровала их, ей принесли эти деньги в обмен на её деятельность – то есть на отсутствие этой деятельности. Частным образом. Один человек имеет право дать деньги другому – ну, например, хоть взаймы. Или подарить. Это не противоправная, а внеправовая сделка… Нет, очень бы хотелось поговорить и с её подругами, и с её дочкой.
– Дочка будет скоро – на сорок дней… Марина и Алёна вряд ли приедут – у Марины спектакли, Алёна далеко. Город Горбатов! Слыхали? Вот именно. Она там живет уже восемь лет. Разве что Роза придёт…
– Нет, спасибо, Яков Михайлович. Опыт общения с Розой Борисовной оказался таким, знаете, исчерпывающим.
– Ясно! – развеселился Фанардин. – Это она любит – для начала человека в дерьмо сунуть. К ней подход нужен, но, знаете, если её разговорить, ублажить как-то – так дух захватывает, что она говорит. Она считает, что, подобно всякой самой головоломной задаче, мир имеет единственное верное решение, и его можно найти. И тогда мир изменится в один миг, потому что решённая задача тут же сменится другой, ещё не решённой. И это может сделать один человек. Она захотела стать таким человеком.
– Это же безумие, Яков Михайлович…
– Ну и что? Высокое безумие! Потом она в житейском смысле умна и практична. Она устроила так свой быт, чтобы без помех решать главную задачу. Она ещё в юности говорила мне, что любое человеческое счастье для неё исключено.
– Всё-таки что такое ЛИМРА? И почему они, подруги Серебринской, принесли на их встречу эти четыре лилии?
– Вы знаете, про ЛИМРУ никто ничего не ответил, а про цветы Роза сказала мне, что они никаких лилий не приносили.
– Откуда же они взялись? Сама купила?
– Выходит, так. Или мы чего-то не знаем.
– Получается, мы ничего вообще не знаем.
«Я лечу в Грецию», – говорит человек и садится в самолёт, где жуёт конфеты, смотрит в иллюминатор, какает в облака и читает газеты. Это что, он летит? Или его летят? «Я живу на улице Ленина, я живу с женой, я живу хорошо», – говорит человек, но не вернее было бы сказать, что не он живёт, а его живут? Не властный ни в животе своем, ни в смерти, ни в любви, человек научился ловко присваивать неподвластную ему действительность. «Я заболел». Ты что, братец, сам вот так вот решил, взял и заболел? Ведь это тебя заболели, тобой заболели, ты здесь вообще при чём? Нет, стоит на своём – я пошел, я написал, я подумал. Тобой написали, тобой подумали, тобой пошли – так следовало бы сказать, и так не говорит тем не менее никто. Каждый день с утра до вечера неутомимый я-жулик переназывает мир, выставляя себя героем действия. Когда человек кончает с собой – есть ли это приговор я-жулику, который с работой не справился, не подогнал ответов под вопросы, неудачно переназвал мир, не сумел его присвоить?
Анна ехала в автобусе, думая о Серебринской и поглядывая на людей – да, они все принадлежали какому-то типу, их можно было классифицировать, дать порядковый номер. Но и тех, кто сейчас просвистывал мимо автобуса, покоясь в личных авто, можно было определить без особого напряжения. «Так ли уж мы биоразнообразны?» – думала Анна. После текста Лилии Ильиничны про тёток она стала обращать на них внимание. В самом деле, тётка в жизни шла густо и заполняла все пустоты реальности.
Плохо подстриженные, неумело накрашенные, сухие или пузатые, в немыслимых зачастую одеждах, тётки, как войско, несли суровую службу. Им обязательно было куда-то надо. Трудно было встретить беспечную, пьяную, просто так болтающуюся тётку – разве что тётку специального типа, падшую тётку, спившуюся вместе со своим мужиком. Куда-то всегда надо – на работу, на рынок, в больницу, на кладбище, в химчистку, в собес, в жилищное управление… «Интересно, – думала Анна, – есть мир мужиков в машинах, с бычьими шеями, и про них всё понятно, как они ходят, говорят, чего хотят. И есть мир тёток с сумками из автобуса, и они тоже нарисованы чётко. И кажется, эти два мира вообще друг друга не должны видеть в упор. И что могло бы их объединить?
Да ясно что – семья. Тётка – мать, жена, сестра, реально тётка или тёща мужика. Хорошо придумано, правильно. А Лилия Ильинична – бунтовщица. Какой-то свой отдельный путь хотела придумать. Неохота ей было входить в доблестное тёткино войско. Или не могла она войти в него, потому что семьи, ради которой тётки бегают с сумками, у неё не было, так уж распорядилась госпожа Катрин Лепелье. А бывшим пионерам без общества куда пойти? Но как она решилась в таком случае предать единственную свою общность. Фронт гражданской защиты, вот что уж совсем непонятно», – подумала Анна.








