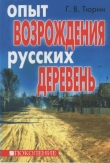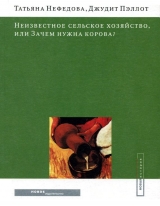
Текст книги "Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?"
Автор книги: Татьяна Нефедова
Соавторы: Джудит Пэллот
Жанры:
Деловая литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Участки у населения небольшие, в основном от 10 до 20 соток, и подавляющее большинство жителей никаких земель больше не использует. Только те, у кого есть скот, арендуют 1–2 га сенокосов у администрации или используют заброшенные колхозные поля, тем самым частично спасая их от зарастания лесом. Но даже столь небольшие участки далеко не у всех используются полностью, что резко отличает хозяйства населения этой зоны от южных. 100 %-ная занятость участка посадками была только у половины опрошенных, а у некоторых кроме картошки и бурьяна нет вообще ничего. У остальных – та же картошка и несколько грядок овощей, в основном для себя.
Две трети опрошенных не имели никакого скота, многие – даже птицы. Одна корова была у четверти опрошенных, а две – это уже большая редкость. Поскольку коллективные предприятия не работают и натуроплаты нет, то свиней тоже почти никто не держит. И уж совсем мало коз и овец. Это весьма странно, так как при таком обилии травы, что существует в этой зоне, уход за мелкими неприхотливыми животными, особенно козами, по силам любой бабушке. Большинство отвечали, что они уменьшили свое хозяйство в последнее десятилетие (см. раздел 2.8).
Хозяйств, продающих половину и больше своей продукции в этом районе, где есть реальный спрос на нее, очень мало. А зарплаты, если и выплачивались, то не превышали в 2003 году 1500 руб. в месяц. Большинство считает, что стали жить хуже, чем прежде, причем значительная их часть – это люди старших возрастов. Важно другое – те, кто считает, что жить стало лучше, – хозяева, увеличившие свое производство. Но таких хозяев всего 18 %. Пассивность основной части населения налицо. 60 % опрошенных не хотели бы уезжать из сельской местности, но для своих детей подавляющее большинство не желают такой же судьбы и связывают их будущее только с городом.
Рисунок 2.5.1. Дачный дом в деревне Терехово Шуйского сельского округа Валдайского района
Еще в большей степени личное хозяйство натурализовано на западе района, где совсем мало дачников. Именно здесь люди находятся в наиболее сложном положении, особенно там, где уже нет колхозов. Индивидуальные хозяйства существуют в основном для самообеспечения. Очень многие молодые люди живут только за счет пенсий своих родителей и лишь изредка перебиваются случайными заработками.
В целом, согласно статистике сельских администраций, почти повсеместно в личных хозяйствах в 1990-х годах произошло сокращение поголовья частного скота, особенно сильное во второй половине 90-х, несмотря на обилие сенокосов и пастбищ. Это произошло в том числе и из-за того, что Валдайский молокозавод закрылся, предприятия принимать продукцию перестали, перекупщики сюда заезжают редко – и, кроме дачников, покупать ее практически некому. Но дело не только в сбыте. На трассе Москва-Петербург с весьма интенсивным движением никто не продает продукцию своих огородов. Районная администрация организовала 13 пунктов приема молока у частников, но молоковозы нередко уезжают пустые. Потребкооперация жива, но цены закупок там очень низкие. Население, избалованное «богатыми» москвичами и петербуржцами, ориентировано на высокие цены и в отсутствие «дачного» спроса предпочитает не продавать свою продукцию вовсе.
Рыбной ловлей занимаются лишь 30 %, охотой – намного меньше. Единственное постоянное занятие местных жителей – это сбор грибов и ягод. 90 % опрошенных ответили, что они регулярно ходят в лес за грибами. Тем не менее и дары леса не дают особого дохода, так как здесь, в отличие от Каргополья, и леса не так богаты, и соответствующая инфраструктура менее развита. Перекупщики сюда не приезжают, каждый третий из ответивших подтвердил, что продает грибы на автотрассе, но делает это нерегулярно, хотя такой «бизнес» может приносить в сезон по 200–400 руб. в день.Свои 4 га земельного пая никто не использует, заброшенной ничейной земли населению вполне хватает. Хотя многие вынуждены были разобрать землю на паи, так как некоторые предприятия тихо умерли, но и эти паи тоже зарастают бурьяном и лесом.
«Импортные локомотивы»
Главной движущей силой оказываются не местные жители, а приезжие, которые наряду с дачниками выполняют функцию «локомотивов», вытаскивающих район из экономической депрессии.
Грустный раздел о вымирании сельского хозяйства глубинки хочется закончить примером того, что можно сделать в этой зоне.
Олег Михайлович Гусаков приехал в село Шуя из Приднестровья, где долго шла война. Приехал, оставив там большой дом и хозяйство в 50 свиней. Хотелось покоя и простора для деятельности, а сюда, на Валдай, вышла замуж дочь. Вот и решил Гусаков поучаствовать в восстановлении российской глубинки, ведь сам он с Севера, это судьба забросила его в горячие южные края.
Он начал с того, что написал письмо в Администрацию президента с просьбой о российском гражданстве и кредите. И ему ответили. И даже дали деньги – беспроцентный кредит в 170 тыс. руб. (5,5 тыс. долларов). Первым делом он купил пилораму, брошенную колхозом и полу-растащенную местными жителями, и восстановил ее. Намеревается производить строительные материалы. Именно лес, по его мнению, – основное богатство района. Убожество полусгнивших изб рядом с таким богатством особенно его поразило. Олег Михайлович считает, что местные жители ходят по «золоту», но не видят его и не умеют использовать. Помимо стройматериалов, он хочет производить спички, метлы и прочие изделия из дерева и древесных отходов. Кроме леса, в районе есть еще богатство – луга и пастбища. Гусаков первым делом обзавелся коровой и телкой. Хочет расширять свое хозяйство. Молоко продает дачникам и в ближайший пионерлагерь. Но главная идея связана с кроликами. Если для получения говядины нужно 1,5 года, свинины – 8–9 месяцев, то для крольчатины требует всего 4 месяца. Олег Михайлович сейчас готовит помещение для… 20 тыс. кроликов. Разрабатывает совместно с городским напарником всю схему – от производства до сбыта продукции крупными партиями. Самым слабым звеном во всех проектах этого энергичного человека (а ему уже 70 лет) могут стать работники. Уже сейчас в Шуе он не может найти двух надежных непьющих людей для работы на пилораме, хотя собирается платить им по 4 тыс. руб. в месяц – большие деньги для села. А его проект с кроликами мог бы дать работу 20–30 местным жителям. Но только пойдут ли они? Набрать ведро грибов, продать и купить бутылку водки спокойнее и привычнее.
Есть и другие примеры добротных хозяйств в сельской местности.Но большая их часть связана все же не с сельским хозяйством, а с торговлей и рубкой леса. И главной движущей силой оказываются здесь не местные жители, а мигранты, приезжие, в том числе и из «горячих точек» бывшего СССР. Именно они наряду с дачниками и служат теми «локомотивами», которые могут помочь таким районам выбраться из глубокой ямы экономической депрессии.
2.6 Индивидуальное хозяйство в пригороде
Наличие дачников и даже засилье коттеджей в пригородах не разлагают местное сельское сообщество так сильно, как в глубинке, а часто, наоборот, стимулируют товарность его сельскохозяйственной деятельности.
Для того чтобы понять условия и масштабы индивидуального хозяйства в пригородах, рассмотрим два примера.
Ставропольский район Самарской области никакого отношения к Ставропольскому краю не имеет. Он расположен в Поволжье вокруг города Тольятти (бывший Ставрополь-на-Волге), с числом жителей свыше 700 тыс. Это типичный пригород крупного не бедного города, где Волжский автозавод обеспечивает и занятость, и повышенный уровень доходов местного населения. По результатам деятельности крупных и средних коллективных сельхозпредприятий, это один из лучших районов области, по ряду показателей он обгоняет даже пригородный район при Самаре. Число агропредприятий в районе за 1990-е годы увеличилось. Однако, как и всюду, это увеличение отчасти фиктивно и связано с тем, что при накоплении денежных проблем из предприятия обычно выделялась агрофирма меньшего размера, куда переводились активы и люди, а все долги оставались на старом, умирающем предприятии. Таким образом, на месте бывших крупных совхозов образовалось несколько агрофирм, порой уже частных. Однако наряду с этой тенденцией существует и другая – возвращение крупных предприятий (акционерных обществ, товариществ и т. п.) к старым кооперативным формам организации и даже их дальнейшее укрупнение. Укрупнение происходит путем поглощения активов обанкротившихся предприятий и присоединения их земель (переводом земельных долей граждан). Чем крупнее предприятие, тем больше у него оборотных средств и возможностей диверсифицировать производство, что заметно увеличивает маневренность таких агропроизводств в новых условиях.
Несмотря на сравнительно «хорошее самочувствие» предприятий Ставропольского района, концентрация производства здесь очень высока. Четверть предприятий – лидеров по валовому производству молока дают в Ставропольском районе почти три четверти его объемов, половина предприятий – почти 90 %; также половина сосредоточивает 80 % поголовья КРС. Даже уровень концентрации производства зерна довольно высок. Из 32 предприятий района рентабельны были в 2003 году только 13. А это значит, что в районе и зарплаты, и степень занятости местного населения довольно неоднородны.
Однако большая часть сельского населения Ставропольского района работает не в сельском хозяйстве, а в Тольятти. С этим связаны и многие проблемы агропредприятий – трудно найти хороших работников. Даже там, где предприятие выплачивает полностью зарплату и платит за паи, в агропроизводстве занят лишь каждый десятый трудоспособный житель. Более слабым предприятиям удержать работников еще труднее. Хозяйства населения играют в основном подсобную роль. Люди выращивают немного картошки и овощей для себя, а также снабжают ими детей в городе. Скота у населения в пригородах тоже мало – по этой же причине, а также из-за отсутствия пастбищ и повышенной конкуренции горожан за землю под сады и коттеджи.
Например, в Васильевской волости, рядом с Тольятти, включающей три села, по данным сельской администрации, на 10 домохозяйств приходилось на 1 января 2004 года в среднем две коровы, две свиньи и 25 голов птицы. Часть участков в селах (от 15 до 30 соток) уже куплена тольяттинцами, которые на месте старых домов возвели дорогие коттеджи. В 1990-х годах в волости отмечался строительный бум. Причем строили не только местные и тольяттинские жители. Много приезжих. Участок в 10 соток стоил в 2003 году от 8 тыс. до 17 тыс. долларов. Земли поселений здесь полностью освоены. У сельской администрации свободных участков нет, под строительство коттеджей отдают колхозные поля. Однако некоторые хозяйства – даже на небольших участках – имеют товарную направленность: рынки сбыта рядом. Главные товарные культуры у частников – овощи, ягоды и зелень.
Еще сильнее пригороды выделяются в Нечерноземье. Пермский район к югу от региональной столицы, города-миллионера, – также лучший в регионе, здесь крупные предприятия активно адаптируются к новым условиям. Уже можно сказать, что примерно половина из них вполне способна выйти из кризиса и даже выстоять в условиях вступления России в ВТО. Судьба остальных будет зависеть от федеральной и региональной политики. Многие могут быть проглочены лидерами или раздроблены на несколько хозяйств.
Рисунок 2.6.1. Жилые дома в селе Кондратово под Пермью
Тем не менее и здесь можно встретить мощные товарные хозяйства населения. В Пермском районе процветает частный огуречный и шире – овощной бизнес. Село Кондратово вплотную примыкает к Перми (рис. 2.6.1). Сначала даже не понимаешь, что город уже кончился. Те же многоэтажные дома, которые построил еще в 1980-х богатый пригородный совхоз, который тоже специализируется на овощах, выращиваемых в огромных теплицах. Кондратовский совхоз и сейчас – один из сильнейших в районе, хотя его теплицы используются теперь лишь наполовину. Поля, вплотную примыкающие к многоэтажным домам, сплошь распаханы и засажены. Но рядом – все равно огороды по 5-10 соток. На некоторых – маленькие сарайчики для инвентаря (ведь квартира-то рядом) и даже дома. Если построен дом, то участок, скорее всего, получили по наследству от родителей городские дети, и он по существу используется как дача. Но огород все равно распахан, картошка, овощи, ягоды и прочий набор необходимых для жизни, а то и для продажи культур на них есть.
Наше обследование села Кондратово показало, что более 70 % всех участков (и местных жителей, и их наследников) полностью заняты разными культурами, четверть участков используется на 75 % и только 5 % лишь наполовину заняты посадками сельскохозяйственных культур (остальная половина – либо луга под сенокос, либо газон с цветами дачников). Кроме своих огородов, жители села не имеют иной земли, и земельного пая у них нет, так как тепличное коллективное хозяйство разделу не подлежит. По данным сельской администрации, скота в селе крайне мало. На все село одна корова, несколько человек имеют свиней, а бабушки – коз. Мы спрашивали людей, как изменилась их сельскохозяйственная деятельность за последнее десятилетие. Две трети респондентов ответили, что по сравнению с 1980-ми годами изменений нет, а одна треть увеличила сельскохозяйственную активность. Продают свою продукцию более половины всех респондентов, причем 40 % продают более половины всего, что производят. На продажу выращивают, главным образом, огурцы в стационарных теплицах и зелень (рис. 2.6.2). Чаще всего сами возят в город, но отдают и перекупщикам, и дачникам. Примерно треть респондентов отметила, что продажа овощей и зелени с огородов составляет большую половину их совокупного дохода, включая официальные зарплаты и пенсии. Обследование других поселений района показало, что село Кондратово выделяется среди них повышенной товарностью индивидуальных хозяйств. Но почти во всех крупных (не дачных) селах от трети до половины домохозяйств даже на небольших участках земли старается организовать свое хозяйство так, чтобы получить какой-либо доход от продажи овощной продукции.
Примеров товарного индивидуального хозяйства в пригородах можно найти множество. В селе Пристанное под Саратовом на теплом юго-восточном склоне Волжской долины огурцы выращивают с дореволюционных времен. Крупного скота здесь нет, ему просто негде пастись. У всех местных жителей участки заняты парниками, не такими мощными, как в Кондратово, но тоже стационарными. С ними боролись вплоть до милицейских рейдов по уничтожению и в 1960-х годах, и в 1980-х, но искоренить огуречный «бизнес» не удалось. Ведь огурцы – это основной источник дохода местных селян. Однако Пристанное находится всего в 15 км от Саратова в очень живописном месте у Волги, и потому сельское хозяйство там обречено.
Рисунок 2.6.2. Огороды в Кондратово под Пермью
То, что не удалось выкорчевать административными методами, будет вытеснено новыми видами землепользования. Поля вдоль Волги застраиваются коттеджами. В Пристанном почти 1/4 всех домов (а село немалое – 434 постоянных жителя) – шикарные новые особняки. Много в селе и дачников. Правда, те из них, кто является наследниками местных жителей, горожанами в первом поколении, пытаются продолжить огуречный «бизнес» (рис. 2.6.3). Но большинство особняков окружено газонами – их владельцев сельское хозяйство не интересует. 
Рисунок 2.6.3. Огурцы в пригородных хозяйствах населения
Помимо овощей для пригородных сел часто характерна и ягодная специализация. Село Троицы с 277 жителями расположено в Пермском районе на берегу Камы, в часе езды на автобусе от Перми. Приведем пример пригородного хозяйства, которое по силам одной женщине-пенсионерке. Фаина Петровна работала прежде учительницей в школе, а с выходом на пенсию занимается только своим огородом. Ее пенсия в 2001 году составляла 1400 руб. и позволяла бы ей после оплаты коммунальных услуг вести весьма скромный образ жизни, если бы не огород в 10 соток и не корова, которую она держит уже 10 лет. Корма для скота она покупает, для заготовки сена нанимает сенокосилку. Каждый год корова дает теленка, которого Фаина Петровна выращивает до полутора лет и продает. Продает и молоко – дачникам, а также сметану и творог, которые она возит на пермский рынок. Кроме того, продается и картофель. Но основной доход летом дает клубника, которую она регулярно возит в Пермь (трехлитровая банка в самый разгар сезона в 2001 году стоила 120 руб.). Все это позволяет ей содержать большой каменный дом. И все же подобное хозяйство нетипично. Фаине Петровне корова нужна, чтобы обеспечивать обучение дочери в Пермском университете. Чаще пригородные хозяйства скота не имеют. А клубничная специализация характерна для многих жителей пригородов, хотя в силу природных ограничений этого северного региона она не имеет столь поголовного распространения, как на юге. Например, в селе Шаумян, в пригороде города Георгиевска Ставропольского края, прежде в каждом огороде более половины площади было занято клубникой. Помимо самого Георгиевска главными потребителями ягоды являлись города-курорты Кавказских Минеральных Вод. Сейчас ситуация изменилась. Курорты столкнулись с теми же проблемами, что и вся экономика России (цены выросли, отдыхающих немного), а сельские жители стали выращивать более разнообразную продукцию для собственного пропитания. Тем не менее слава «клубничного» села за Шаумяном сохранилась. Многие продолжают выращивать клубнику на продажу. Но если на Севере не хватает для этой культуры тепла, здесь – иные риски: при сильной жаре клубника выгорает. Поэтому надежнее оказываются все же разнообразные овощные культуры и фрукты.
Итак, для пригородного индивидуального сельского хозяйства характерны разнонаправленные тенденции. С одной стороны, наличие рядом города, возможность трудоустройства и стабильные зарплаты не способствуют обращению к натуральному хозяйству, люди обычно выращивают мало, только для себя, самое необходимое. С другой стороны, рядом бездонный городской рынок и дачники, а значит, есть повышенный спрос на продукцию, который и стимулирует товарность индивидуального производства. Поэтому те, кто не сделал карьеру в городе, но сохранил трудовой потенциал, пытаются превратить небольшие участки в источник дополнительных доходов. Важно, что наличие дачников и даже засилье коттеджей в пригородах не разлагает местное сельское сообщество так сильно, как в глубинке, а часто стимулирует товарность его сельскохозяйственной деятельности. Это во многом связано с лучшей демографической структурой сельского населения в пригородах, меньшей степенью его алкоголизации, большими возможностями выбора занятий. Однако все зависит от размера города, состава населения и наличия трудовой конкуренции. В ближайших пригородах Москвы уже не встретишь товарных хозяйств, все заполонили дачники, коттеджи и гастарбайтеры, товарное сельское хозяйство вытеснено в более удаленные части пригородной зоны столицы (см. раздел 5.6). Помимо влияния города возникновение ареалов высокотоварного частного хозяйства может быть связано со многими другими факторами. Примеры таких ареалов приводятся в следующем разделе.
2.7 Очаги высокотоварного овощного хозяйства
Закончить серию примеров хочется описанием районов особого рода. Они возникают в разных уголках страны. Их главное отличие – высокий уровень индивидуального хозяйства не отдельных семей, а целого села и даже нескольких сел, устойчивые высокотоварные кластеры, существующие в течение многих десятилетий и даже столетий, несмотря на все политические и экономические изменения.
Кинель-черкасские помидоры
Доход от небольшой теплицы в 500 корней помидоров равносилен второй зарплате, примерно 5–6 тыс. руб. в месяц
Кинель-Черкассы в Самарской области считаются самым крупным селом в России (не считая южных станиц) – около 19 тыс. жителей. Но известно оно не столько этим, сколько тепличными помидорами, наводнившими городские рынки Самарской области. Почти в каждом втором доме разбросанного по берегам небольшой речки села стоят огромные теплицы, высотой почти в жилой дом, и люди занимаются товарным помидорным хозяйством (рис. 2.7.1,2.7.2).
Помидоры начали выращивать здесь несколько десятилетий назад, но такого размаха деятельность населения достигла лишь в 1980-х годах, когда в Кинель-Черкассы провели газ (хотя до сих пор некоторые теплицы отапливаются дровами).
Участки у жителей небольшие – по 15 соток. Из них 2–4 сотки заняты теплицами. У некоторых стоит по нескольку теплиц. Сажают от 500 до нескольких тысяч корней. Рассаду выращивают дома или в особых помещениях, начиная с января.
Рисунок 2.7.1. Парники с помидорами в Кинель-Черкассах

Рисунок 2.7.2. Помидорные кусты высотой в 3 метра
В марте высаживают ее в теплицу, температура в которой не должна опускаться ниже 18 градусов. Продажа помидоров начинается с конца мая. Содержание даже относительно небольшой теплицы ежедневно требует 2–3 часов работы. Один только полив, который проводят раз в три дня, занимает около 3 часов. Тем не менее доход от небольшой теплицы в 500 корней составляет 100 тыс. рублей за сезон, а за вычетом затрат – 70 тыс. руб. (т. е. в среднем в 5–6 тыс. руб. в месяц). Большие теплицы, где несколько тысяч корней, дают соответственно больший доход. Поэтому многие сделали этот «бизнес» своей основной работой. Поскольку большие теплицы одному человеку не по силам, хозяева нанимают постоянных работников, затраты на зарплату которых окупаются. Такие хозяйства уже трудно назвать индивидуальными. Многие нанимают временных работников на прополку за 100 руб. в день плюс обед. Это означает, что в помидорном бизнесе участвуют не только владельцы теплиц, но значительная часть местного населения. Кроме помидоров население выращивает на продажу картошку и лук, а также цветочную рассаду. При таком размахе тепличного хозяйства не хватает давления газа – и это одна из главных проблем села.
Система сбыта помидоров отлажена до мелочей. Некоторые хозяева раз в неделю сами ездят сдавать помидоры на рынок в Самару или другие города. Кто-то продает тут же в селе или на въезде и выезде из него, на обочинах дорог. Кроме того, как только поспевают помидоры, на улицах села повсюду появляются машины с прицепами. Это перекупщики, в основном – из Самары. В начале июля 2004 года они скупали помидоры у местных жителей по 17 руб. за килограмм. В Самаре, Бугуруслане и других городах Татарстана, в Ульяновской области перекупщики сдадут их на рынки или в магазины по 23–24 руб. А на Самарском рынке в начале июля 2004 года все помидоры были кинель-черкасские и стоили уже по 30–40 руб. Главные конкуренты Кинель-Черкасска – южные районы (Волгоградская область, Краснодарский край), где перекупщики могут взять помидоры по 10 и менее рублей. Если перекупщиков приезжает мало, закупочные цены падают.
Уровень жизни в селе относительно высокий. Достаточно сказать, что, по данным сельской администрации, на 19 тыс. жителей села приходится 24 тыс. частных автомашин, грузовиков и мотоциклов. В селе явно «крутятся» деньги. Это видно и по большому количеству кафе и магазинов. Скота у населения мало, слишком трудоемко помидорное хозяйство. На 10 домохозяйств приходится в среднем одна корова и две свиньи.
Администрация района никак не помогает частникам и не вмешивается в их «помидорное хозяйство». Это сельскохозяйственное производство, сравнимое с деятельностью нескольких крупных предприятий, проходит как бы мимо официальных структур.
Есть в районе крупные и средние предприятия, а также фермеры. Однако по рейтингу «самочувствия» бывших колхозов район находится на одном из последних мест в Самарской области. Из 32 предприятий района две трети молока производят всего три, но и там надои очень низки. На остальных общественный скот давно вырезан. Большинство выращивает зерно, которое дает прибыль. Но лучше всего выживают или небольшие зерновые агрофирмы, или крупные объединения (агрохолдинги), сконцентрировавшие земли нескольких предприятий (до 70 тыс. га), имеющие элеваторы, мукомольные заводы и т. п. Из старой «колхозной гвардии» на плаву лишь один бывший колхоз, ныне ООО «Им. Ленина». Фермеров в районе довольно много. Все они занимаются исключительно выращиванием зерна и подсолнечника, давая до четверти их общего объема.
В этом районе предприятия и хозяйства населения развиваются параллельно, не касаясь друг друга. Более того, поскольку местные жители в большинстве своем озабочены помидорным хозяйством, на предприятиях остро не хватает работников. В районе дефицит комбайнеров, доярок, скотников, пастухов. Привлекают временных рабочих из Средней Азии, здесь работает более 100 узбеков. Все это парадоксальным образом сочетается с большой долей незанятого населения в общей численности трудоспособных.Кинель-Черкасский район в Самарской области не уникален – здесь, в середине области, выделяется целая полоса районов с повышенным производством овощей. Соседний с Кинель-Черкасским Похвистневский район специализируется на производстве огурцов. На частных огородах этих районов и еще соседнего Красноярского, расположенного ближе к Тольятти, производится более 240 кг овощей в год на одного сельского жителя. Еще 4 района производят более 180 кг в год на одного сельского жителя. Если учесть, что в Самарской области один сельский житель потребляет в среднем около 60 кг овощей (без картофеля) в год, то размах товарного овощного бизнеса становится очевиден.
Огуречные и капустные «страны» Подмосковья
В Центральной России много огуречных мест. Но на рынках Москвы доминирует огурец луховицкий. На родине он служит не подсобным, а главным источником дохода большинства местных жителей.
Город Луховицы на юго-востоке Московской области при своих 32 тыс. жителей и на город-то не похож. Правда, есть в нем микрорайон многоэтажек (при оборонном заводе) с одной главной улицей. Но большая часть города – частные дома с немалыми приусадебными участками.
Казалось бы – почти деревня. Но и деревней Луховицы не назовешь.
Как только въезжаешь в город, сразу бросаются в глаза достаток и благополучие. Много каменных домов. Не нынешние вычурные коттеджи, хотя и таких появляется в городе все больше, а добротные двухэтажные дома постройки 1970-1980-х годов. Даже с соседним Зарайском Луховицы не сравнить, хотя Зарайск куда более привлекателен и своей историей, и сохранившимся почти игрушечным кремлем, и очарованием типичного южного городка, «залетевшего» в холодную Московию. Но Зарайск все равно кажется нищим городом, а Луховицы – богатым.
В Луховицкий район надо приезжать в мае. Тогда можно увидеть совершенно фантастические огороды. И в городе, и в селах вдоль Оки участки впереди и сзади домов, как правило, не имеют ни единого деревца и сплошь покрыты низкими длинными (тоннельными) сверкающими на солнце пленочными парниками. Земли почти не видно (рис. 2.7.3 и 2.7.4). И горожане, независимо от рода официальных занятий, и селяне, и дачники выращивают ранний редис и огурцы. Исключений почти нет.
Редиску сажают под пленку в начале марта, когда вокруг лежит снег. Урожай получают через месяц. Уже в конце апреля и весь май вдоль Рязанского шоссе задолго до Луховиц на ящиках, а то и прямо на земле навалены яркие красные горки редиса. Редисом завалены все местные рынки, значительная его часть привозится в Москву, берут редис и перекупщики.
Но основная культура – огурец, широко известный в Москве и области. Первый урожай снимают к концу мая, когда цена высока и доход максимален. Поэтому так важно получить именно ранние огурцы, на что и рассчитана эта экономичная, но трудоемкая пленочная технология без стационарных теплиц, специального подогрева и т. п. Если наступает резкое похолодание, парники приходится дополнительно утеплять, когда жара, их надо открывать. Особенно мощное товарное огуречное индивидуальное хозяйство сложилось в пойме Оки от поселка Красная Пойма до пгт. Фруктовая.
Огуречная традиция имеет неглубокие корни. До революции тут были сады. Часть из них вырубили в период коллективизации, остальные вымерзли в суровую зиму 1941 года. Восстанавливать их не стали. Послевоенные пойменные совхозы выращивали огурцы и помидоры в больших застекленных теплицах. Отсюда они перешли на огороды.
И оказалось, что жирные и легкие от природы пойменные земли прекрасно подходят именно для огурцов. И все же не только природные условия, но и дешевая технология, активность местного населения, наряду с близостью к столице, подняли здесь личное хозяйство на небывалую высоту. Особенного расцвета «огуречная страна» достигла в 1980-х годах. Тогда ранние электрички, идущие в Москву, буквально забивали мешками с огурцами, предназначенными для столичных рынков. За сезон можно было заработать на машину, за несколько сезонов – на каменный дом.
В 1990-х годах сравнительная доходность огуречного «бизнеса» упала. Тем не менее в 2001 году с одной сотки удавалось получать до тонны огурцов, т. е. в среднем 4–5 тыс. руб. при затратах около 1 тыс. Если учесть, что участки в Луховицах, как правило, достигают 25 соток, можно сделать вывод, что огурцы являются не подсобным, а основным источником дохода большинства местных жителей. Правда, структура сбыта продукции в 90-е годы изменилась. Теперь уже мало кто везет их в Москву – подорожал транспорт, бензин. Самим продавать можно только на улицах столицы, на так называемых «диких» рынках – на стационарные с ранними овощами не пробиться, там хозяйничает торговая мафия. Но зато последние годы появилось множество перекупщиков. Цена у них ниже, но забирают товар они прямо у калитки.
Рисунок 2.7.3. Огуречные «поля» в луховицких хозяйствах весной
Когда сходит первая волна ранних дорогих огурцов и начинается волна «массовых», люди начинают их солить. Соленые огурцы (в банках или развесные) также продают на местных и московских рынках.
Никакой кооперации в выращивании и сбыте огурцов нет. А конкуренция велика: каждый стремится опередить соседа, получив огурцы пораньше.В отличие от Кинель-Черкасского района, где огромные стационарные теплицы часто не по силам одной семье и требуют наемного труда, луховицкий «бизнес» в основном семейный. В нем очень важно разделение труда между поколениями. Молодые, в том числе приезжающие из города, сажают и убирают урожай (копают обычно не лопатой, а нанимают совхозный или частный трактор за плату). Местные старики по погоде проветривают или закрывают парники, пока молодые заняты на основной работе. Потому-то выращивание огурцов возможно только рядом с домом. Более того, с уходом стариков такая технология вообще становится уязвимой и проблематичной.