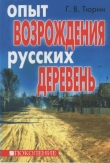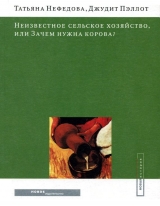
Текст книги "Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?"
Автор книги: Татьяна Нефедова
Соавторы: Джудит Пэллот
Жанры:
Деловая литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Как правило, личное подсобное хозяйство ассоциируется с сельской местностью. Но специфика городов России, имеющих множество типично деревенских частных домов, предполагает и наличие приусадебного хозяйства у горожан. В законе о личных подсобных хозяйствах 1998 года этот пункт оговаривается отдельно.
Важно отметить также, что личные подсобные хозяйства сельских и городских жителей – это не только индивидуальные хозяйства. Согласно закону 1998 года, они могут создаваться «для совместной деятельности по производству, переработке, хранению сельскохозяйственной продукции и реализации ее излишков, а также по страхованию, кредитованию, материально-техническому и сервисному обслуживанию; объединяться в сельскохозяйственные кооперативы, потребительские общества, создавать ассоциации (союзы) личных подсобных хозяйств».
И наконец, принятие в 2002 году после долгих дебатов в Думе в усеченном виде Земельного кодекса, разрешившего продавать все земли, кроме сельскохозяйственных, ознаменовало наступление последнего, четвертого этапа реформы. Он завершился в январе 2003 года вступлением в силу закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которому приобретать в России землю в собственность и продавать ее может любое лицо за исключением иностранцев. Однако как максимальный размер участка сельскохозяйственных земель в частной собственности, так и механизм реализации этого закона в целом определяется законодательством субъектов РФ, и это привело к проволочкам и прямому искажению федерального закона. Спустя два года многие регионы так и не ввели оборот сельскохозяйственных земель.
С 2003 года 12 млн. владельцев земельных долей, согласно федеральному закону, получили право не только требовать от предприятия для использования, но и официально продавать свои земли. Кроме зон повышенного спроса на землю в пригородах больших городов и в некоторых южных регионах (см. раздел 5.6), вряд ли это вызовет массовое изъятие земельных паев из колхозов. Продать земельный пай не так-то просто, так как первостепенное право на покупку земель имеют сособственники и администрация предприятия. Держать землю про запас просто нельзя – по новому закону о купле-продаже сельхозугодий требования к характеру использования паев ужесточились: если земля не обрабатывается 2 года, ее через суд может изъять государство. Так что это право собственности все равно достаточно условно, и распоряжаться землей, как ему хочется, человек не может [6] . Кроме того, оформление земельной доли в собственность – очень сложная процедура, чиновники постарались выставить на пути сельского населения множество преград, включая и финансовую (только стоимость составления земельного кадастра доходит до га тыс. руб.). Еще и поэтому люди охотно соглашаются отдать землю, если какая-нибудь фирма берется все сделать за них, но предлагает при этом мизерные деньги, не адекватные стоимости земли.
По данным Роснедвижимости, свидетельства получили 92 % тех, кто имеет права на земельные доли. При этом почти 60 % земельных долей оказалось в руках лиц, уже не работающих на сельскохозяйственных предприятиях. Большинство собственников передало земельную долю в аренду предприятиям или внесла ее в их уставной капитал. Лишь четырем процентам получивших свидетельства были выделены участки для самостоятельного фермерского или индивидуального хозяйства из их земельных долей. Четверть собственников никак не распорядилась землей, и она по-прежнему продолжает использоваться предприятиями.
Но этим «борьба» государства с частным землепользованием не закончилась. Новый Земельный кодекс прибавил забот как сельским жителям, так и городским владельцам приусадебных участков, которые они должны «приватизировать», если хотят не только пользоваться, но и распоряжаться землей (завещать, продать и т. п.).
Владельцев земельных долей теперь заставляют переоформить свои права собственности, даже если они не выходят из предприятия.
Иначе при его банкротстве, что стало весьма распространенным явлением в тех районах, где на землю есть спрос (см. раздел 5.6), их земли продадут с молотка. Но и это не стимулировало интерес сельского населения к пользованию и распоряжению земельными долями. Зато Земельный кодекс выявил явную заинтересованность сельских жителей в приватизации приусадебных участков.Горожане же массово бросились в соответствующие конторы приватизировать свои дачи и клочки земли, не испугавшись даже высоких трансакционных издержек. Хорошо, если в земельном комитете или в сельской администрации сохранились документы на участки или временные свидетельства о собственности, выданные в начале 1990-х годов. Если нет, то надо собирать множество дополнительных справок, доказывая свое право на клочок земли. Хотя срок приватизации крошечных приусадебных, дачных или садовых участков для частных лиц продлили на неопределенное время, люди все равно боятся, что административные и экономические преграды получения земли будут только увеличиваться, особенно в Подмосковье, и спешат получить очередную гарантию. Поскольку в Земельном кодексе никакие детали приватизации не прописаны, то, как всегда, все отдано на усмотрение местных чиновников, которые уже начали «очередную войну» против своего народа. Нежелание менять привычные формы бумажной волокиты, попытки использовать приватизацию как очередную «кормушку» уже привели к огромных очередям и поборам. Один из авторов сам проходил все ужасы чиновничьего частокола. Оформление всех бумаг и периодическое стояние в огромных очередях продолжалось более года, а официальные госпошлины и услуги по межеванию (без посредников-риэлторов и взяток чиновникам) в 2005 году в 5–6 раз превышали среднемесячный доход пенсионера.
Многоукладность аграрной экономики
Экономика России, сдвинувшейся в сторону развивающихся стран, стала откровенно многоукладной. Сельские жители получили право выбора: 1) ограничиться приусадебным хозяйством, 2) забрать из коллективного предприятия свою земельную долю и вести личное хозяйство, сдать в аренду, продать, 3) оформить фермерское хозяйство. Первый вариант выбрали 96 % сельчан.
Согласно А. Никулину, для аграрного развития, в которое были втянуты и крестьянские хозяйства, характерно несколько направлений (Никулин 2001). После отмены крепостного права и в начале XX века шло активное окрестьянивание (формирование товарных семейных сельских хозяйств) с зачатками кооперирования. При советской власти произошло раскрестьянивание и огосударствление сельских сообществ. Сейчас мы наблюдаем – одновременно с частичным разгосударствлением – новое окрестьянивание наряду с пока еще слабо выраженной фермеризацией и формированием поместий частников или крупных корпораций.
Многоукладность экономики ярко проявляется в переходные периоды, когда рядом со старыми укладами появляются новые. Она в то же время характерна для традиционных обществ с замедленным развитием.
В начале XX века имели место четыре основных уклада: деградирующий помещичий, мелкотоварный, капиталистический и рождающийся социадиетический. Сейчас, после 70 лет социализма в аграрном секторе, тоже можно выделить четыре уклада: 1) коллективные предприятия – наследники колхозов и совхозов (производственные кооперативы, государственные предприятия, открытые и закрытые акционерные общества и другие сельскохозяйственные организации), 2) крупные агрохолдинги, включающие несколько агропредприятий, переработку сельскохозяйственной продукции, торговые предприятия и часто множество не связанных с сельским хозяйством производств, 3) мелкие индивидуальные хозяйства населения и 4) фермерские хозяйства. Переходная экономика России, сдвинувшейся в сторону развивающихся стран, стала откровенно многоукладной. Правда, агрохолдинги, хотя и представляют собой особый вид организации производства, никак не выделяются в стандартной статистической отчетности. Поскольку они, как и другие сельскохозяйственные организации, возникают на базе бывших колхозов и совхозов, их вместе с коллективными предприятиями обычно объединяют в один уклад крупных и средних предприятий.
На самом деле укладов больше, и столь жесткая классификация весьма условна. Она основана на организационно-юридических нормах и далека от самого типа хозяйства и его масштаба. Грани между хозяйствами населения, с одной стороны, и фермерами и даже колхозами, с другой, сильно размыты. Тем не менее каждый человек в зависимости от возрастных, физических, финансовых возможностей и менталитета в принципе может вписаться в тот или иной уклад. Но далеко не все зависит от человека: где-то уже или еще нет предприятия, на котором можно работать, кому-то не дают прописку или землю в том месте, где он хотел бы вести индивидуальное или фермерское хозяйство. Где-то у сельского населения уже отобрали право распоряжения земельными долями, выдав взамен акцию предприятия или небольшую сумму денег.
И все же после длительных гонений мелкое частное сельское хозяйство в 1990-х годах получило законодательные возможности для развития. Крестьяне имеют право выбора:
– ограничиться приусадебным хозяйством, работая одновременно в коллективном хозяйстве, где-то еще или не работая (независимо от возраста):
– выйти из коллективного хозяйства со своим паем (или за счет него увеличить размер своего участка до 5 га), но не оформлять свое хозяйство как фермерское предприятие. Предполагалось, что это будет переходной формой между индивидуальным хозяйством и фермерством (см. раздел 5.3):
– забрать весь земельный пай, зарегистрировать фермерское хозяйство и получить дополнительно к паю земли из фонда перераспределения или прикупить паи своих соседей.
Несмотря на столь либеральное законодательство, доля фермеров в численности сельских домохозяйств составляет 2 %. Около 2 % взяли в собственность полностью или частично земельный пай. Подавляющая часть сельского населения предпочла ограничиться своим приусадебным участком да дополнительными огородами при сохранении работы по найму.Таким образом, в 90-х годах именно хозяйства населения, сельские и городские, из-за огромной численности оказались более мощными производителями, чем фермеры и находящиеся в кризисе крупные предприятия.
1.4 Современная роль хозяйств населения
В 50–60 годах XX века в сельской местности вообще невозможно было выжить без своего участка, так как колхозы практически не платили денег. Затем зарплаты в сельском хозяйстве стали расти, и если в 1970-х они составляли около половины того, что получали занятые на промышленных предприятиях, то к концу 1980-х почти с ними сравнялись. На зарплату люди в деревне могли приобрести телевизоры, холодильники и т. п., т. е. денег на бытовое обустройство вполне хватало. Но свое собственное хозяйство все равно надо было вести, так как в период позднего социализма все более явно обозначался дефицит продовольствия. Купить продукты в деревне было практически невозможно – магазины были пусты, продавались только крупы, хлеб, консервы и водка. Дефицит продовольствия существовал практически всюду, но в крупных городах он был менее заметен. Билеты были дешевы, деньги у людей были, и поездки в город, особенно в Москву, за маслом, колбасой и другими продуктами раз в месяц, а то и чаще стали в 1980-х годах привычными. В этих условиях свой огород, а для тех, кто жил далеко от города, и скот были необходимы.
В 1991-м году вся эта система достигла своего максимального развития, и нехватка продуктов обозначилась и в Москве. Появились очереди даже за хлебом и молоком. Все это рухнуло в одночасье в начале 1992 года, как только были отпущены фиксированные цены. Стоимость продовольствия сразу выросла в несколько раз, и на прилавках, как по мановению волшебной палочки, все появилось. Но стало недоступным, так как денег у населения не хватало. Иные причины стали определять высокую роль сельскохозяйственной деятельности населения.
Колхозы и совхозы в 1990 году давали 75 % сельскохозяйственной продукции России. Сейчас их доля уменьшилась до 38 %. Но именно на них опирается в основном наша пищевая промышленность, оставляя индивидуальным хозяйствам самообеспечение населения, а также городские, официальные и стихийные, рынки. Доля продукции фермеров, на которых возлагали большие надежды в начале реформ, по официальным данным, не поднимается выше 4 % агропроизводства.
Кризис общественного агросектора 1990-х и индивидуальное хозяйство
Сильное увеличение доли хозяйств населения в агропродукции связано с кризисом крупных предприятий, рост производства в мелких хозяйствах с 1990 года не превысил 20 %. Тем не менее выход из кризиса агропредприятий не приводит к вытеснению индивидуального производства. Значит, оно имеет внутренние резервы.
Индивидуальное сельское хозяйство – самый мощный сектор мелкотоварной экономики. По объему валовой продукции он превышает любой другой сектор малого предпринимательства, даже в таких отраслях, как торговля, строительство, промышленность (Малое предпринимательство 2004:142). Доля хозяйств населения в производстве продовольствия за 1990-е годы увеличилась почти в 2,5 раза и, как уже говорилось, составила в 2003 году 58 % валового производства (см. табл. 1.3.1 в предыдущем разделе и рис. 1.4.1). Однако такое увеличение связано не столько с расширением хозяйств населения, сколько с упадком коллективных предприятий.
Рисунок 1.4.1. Доля хозяйств населения в валовой продукции, 1990 и 2003, % 
Источники: Сельскохозяйственная деятельность 2003:14; Сельское хозяйство 2004: 37.
Общеэкономические реформы, которые затеяло российское правительство в начале 1990-х годов, существенно усугубили кризис колхозов и совхозов, который и без того можно было наблюдать на рубеже 1980-х и 1990-х годов (см.: Нефедова 20036:91–99). Сильно изменились внешние условия их функционирования: уже нет прежних государственных дотаций, нет госзаказа, гарантирующего сбыт продукции, независимо от ее качества, нет и постоянного дефицита продовольствия, делавшего сельское хозяйство СССР приоритетной отраслью финансирования. Зато население испытывает дефицит денег, не позволяющий аграрникам поднимать цены на продовольствие, а агропредприятия – дефицит оборотных средств, не дающий вовремя закупить дорогое горючее, удобрения, семена. Эти ножницы цен привнесли в обиход сельских руководителей страшное понятие – диспаритет, который наряду с постоянным отсутствием «живых» денег является их главной головной болью. А кредиты с накручивающимися процентами, которые они не в состоянии отдать, давно сделали многие агропредприятия недееспособными должниками, по существу банкротами. Не банкротят их только потому, что большая их часть никому не нужна, кроме местного населения с его индивидуальным хозяйством.
Об этой странной экономике, основанной на взаимосвязях крупных предприятий и мелких частных хозяйств, будет подробно рассказано в разделе 3.3.
Помимо общеэкономических произошли и институциональные изменения самих предприятий. Но они не были столь существенны, как земельные преобразования (см. предыдущий раздел). Колхозы и совхозы в 1990-х годах преобразовались в акционерные общества, товарищества, сельскохозяйственные производственные кооперативы и т. п., но большая их часть мало изменилась. Революционные преобразования в Центре вызвали непропорционально слабые сдвиги в их реализации на мезо– и микроуровнях (Заславская 2003). Руководство агропредприятий в целом оказалось не готово к реформам, недаром колхозное лобби, состоящее из руководителей крупных предприятий, все 1990-е годы было основным тормозом преобразований. Однако не верно было бы считать, что в агросекторе все плохо. Часть крупных предприятий адаптировалась к новым условиям, вырастила отсутствовавший прежде класс менеджеров. Активно идут новые процессы интеграции предприятий. Формируются агропромышленные комплексы. Тот факт, что работники получили право со своей землей выходить из предприятия, а также появление фермеров, положил конец полному монополизму крупных агропредприятий в деревне. Отношения в сельской местности меняются.
Из-за того что работники предприятий получили бумажки о собственности на земельные доли (хотя их землю, как и прежде, используют предприятия), современная статистика относит эти предприятия к частным. В результате возникла полная путаница и в статистике, и в литературе. Но как бы ни назывались и куда бы ни относились бывшие колхозы и совхозы – к государственному, кооперативному или частному сектору, это все равно предприятия, где занято в среднем 180 человек (от 50 до 1000 работников), а вся организация деятельности существенно отличается от действительно частных небольших хозяйств.
В середине 90-х годов коллективный сектор давал немногим более трети былого производства (рис. 1.4.2). Поголовье крупного рогатого скота в бывших колхозах и совхозах упало почти в 3 раза, свиней – почти в 4; в 3 раза сократилось производство молока и мяса. На этом фоне, естественно, резко выросла доля индивидуальных хозяйств населения. Однако в абсолютных масштабах рост был незначителен (за исключением отдельных продуктов – картофеля, овощей, производство которых выросло в 2–3 раза). Население резко расширило свою сельскохозяйственную деятельность лишь в самом начале кризиса, в 1991–1993 годах. На уровне 115–120 % от 1990 года производство в индивидуальных хозяйствах держалось почти все 1990-е годы.
С 1997 года производство в крупных предприятиях, хотя и с переменным успехом, начало расти (см. рис. 1.4.2). Казалось бы, с его частичным восстановлением замещающие его индивидуальные хозяйства должны были бы начать свертываться. Однако с 1999 года наряду с оживлением коллективного сектора отмечается и рост продукции индивидуальных хозяйств. Это означает, что они имеют и внутренние резервы, и в этом нам тоже предстоит разобраться в настоящей книге.В 1990-е годы число личных подсобных хозяйств сельских жителей, несмотря на небольшой рост сельского населения благодаря миграциям из республик бывшего СССР, не увеличилось и составляло в 2003 году 16 тыс. (Сельское хозяйство 2004:94). Зато заметно возросло количество садоводческих участков (с 8,5 млн. в 1990 году до 14,5 млн.), что говорит о расширении городской страты индивидуальных хозяйств. Общая площадь землепользования граждан увеличилась за тот же период с 3,9 млн. до и,8 млн. га, что отнюдь не так много, как может показаться: по официальным данным, к 2003 году индивидуальные хозяйства занимали всего 6 % всех сельскохозяйственных земель (Сельскохозяйственная деятельность 2003:13).
Рисунок 1.4.2. Динамика производства, % к 1990 году

Источники: Сельское хозяйство 1998: 32; Основные показатели 2004а: 5.
Роль частного сельского хозяйства в занятости населенияПри 73 % населения, живущего в городах, по показателю реальной структуры занятости Россия – страна аграрная. Суммарные трудозатраты агропроизводства с учетом хозяйств населения, т. е. занятость (в самом прямом смысле слова) в сельском хозяйстве России до сих пор выше, чем в промышленности.
Известно, что, несмотря на социально-психологическую дезориентацию, многие в годы реформ в связи с массовым обнищанием вынуждены были браться за несколько работ в попытках адаптироваться к новым условиям.
Официальные цифры не позволяют увидеть ситуацию с теневой и вторичной занятостью, особенно на селе. Тех, кого фактически кормит земля, в стране раза в 2 больше, чем формально занятых на ней, а порой их доля выше 60 % всех занятых в регионе (Трейвиш 1999).
Россия до сих пор – страна аграрная. В конце 1990-х годов на основной и дополнительной работах в промышленности было отработано чуть более 600 млн. человеко-часов, в сельском хозяйстве – 245 млн. (что соответствует структуре занятости по официальной статистике), но в домашнем хозяйстве на производстве сельхозпродукции люди отработали еще 420 млн. человеко-часов (Горбачева 2000). Несмотря на то что, по официальным данным, в сельском хозяйстве России занято и% экономически активного населения, суммарные трудозатраты, т. е. занятость в самом прямом смысле слова, в сельском хозяйстве России пока еще выше, чем в промышленности.
Обращение к сельскому хозяйству, особенно горожан, стало возможно и из-за уменьшения официальной занятости и общей трудовой нагрузки. Для 90-х годов характерно резкое сокращение продолжительности рабочего времени. Например, среднее число рабочих дней, отработанных в промышленности, сократилось почти на полный месяц (Капелюшников 2002). Увеличилась текучесть кадров с доминированием добровольных увольнений (3/4 выбывших), что во многом было связано с уменьшением на многих предприятиях, и особенно в бюджетной сфере, оплаты труда. В отличие от реформируемых стран Центральной Европы, где оплата труда росла, в России произошло очень сильное снижение реальной заработной платы: в 2000 году она составила 40 % от уровня 1990 года (Там же). Работа в режиме неполного рабочего дня или недели, а также вынужденные отпуска также стали средством адаптации предприятий. Уменьшилась трудовая нагрузка и на агропредприятиях, многие из которых перестали работать и/или платить зарплату.Результаты обследования городского и сельского населения в Новосибирской области говорят о значительных затратах времени на сельское хозяйство (табл. 1.4.1). В среднем это 2,5 часа в день. Учитывая, что приведенные в таблице данные недельных затрат времени рассчитаны для года в целом, можно утверждать, что в летний период доля труда в личном подсобном хозяйстве составляет существенно большую цифру. В среднем общие затраты труда на сельское хозяйство в Новосибирских селах достигают 1000 часов в год. Это соответствует и оценкам некоторых зарубежных исследователей, которые проводили опросы в деревнях, расположенных в самых разных природных зонах (табл. 1.4.2).
Таблица 1.4.1. Структура трудовой нагрузки сельского населения в Новосибирской области в 1980-х годах и конце 1990-х годов, часов в среднесезонную неделю

Источник: Артемов 2003.
Таблица 1.4.2. Личные подсобные хозяйства сельского населения в Орловской, Псковской, Ростовской областях, середина 1990-х годов

Источник: Harm Tho Seeth, Chachnov, Surinov 1998.
Официальная статистика на основе своих выборочных опросов показывает гораздо меньшие цифры. Эти расхождения понятны, люди неохотно и путано отвечают на официальные вопросы о количестве затраченного времени – ведь собственный повседневный труд не ценится. Согласно статистике, в 2001 году в России на производство в домашнем хозяйстве продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства в среднем на одного жителя был затрачен 141 час. Это гораздо меньше, чем данные в таблицах 1.4.1 и 1.4.2, но нужно учитывать и различия между городом и деревней, которые текущая статистика домохозяйств не дает, а также региональные различия. Например, в нечерноземных северных Новгородской и Кировской областях, а также в республиках Поволжья было затрачено уже 230–250 человеко-часов в год. А в Бурятии – все 340 (Экономическая активность 2002: 106). Эти цифры не так уж малы. Разделите на обычный восьмичасовой рабочий день, и получится, что каждый житель России как бы потратил в год 18 полноценных дней на работу на своем огороде, а каждый трудоспособный житель – почти месяц, т. е. целый отпуск. А в Новгородской области или в Чувашии – гораздо больше месяца. Если учесть, что вся работа сдвинута на 5–6 месяцев в году, то ее напряженность будет еще нагляднее.
Личное подсобное хозяйство как источник питания и доходовПо данным переписи населения, в сельской местности личное подсобное хозяйство служит средством существования для трети сельских жителей, что сопоставимо с долей лиц, имеющих доход от любой другой трудовой деятельности. Роль собственной продукции в питании граждан огромна. От своего огорода и часто скотины зависят 92 % сельских жителей и 44 % горожан.
Данные последней переписи, 2002 года, показывают, что личное подсобное хозяйство как источник средств к существованию имеет в среднем по России 12,5 % всего населения (табл. 1.4.3). Однако зависимость доходов от собственного сельскохозяйственного производства в городе и деревне сильно различаются. В городе это всего 6 % населения, в сельской местности – 31,4 %, что сопоставимо с долей населения, имеющей доход от любой другой трудовой деятельности – 34 % (Источники средств 2004: 10). Еще 28 % населения имеет доходы от пенсий по возрасту и инвалидности, 20,4 % получают разного рода пособия, остальные живут на иждивении [7] . Многое зависит от возраста. В возрасте от 30 до 60 лет число сельских жителей, считающих свое личное хозяйство одним из источников средств к существованию, достигает почти половины. В старшем возрасте доля таких людей падает: к числу этих источников добавляется пенсия. Для горожан та же доля не поднимается выше 10 %, а ее максимум характерен для старшей возрастной группы, от 50 до 65 лет. Среди деревенских жителей в наиболее трудоспособном возрасте, от 30 до 50 лет, почти каждый десятый не имеет никаких источников доходов, кроме собственного огорода и скотины. Остальная четверть сельского населения считает свое сельское хозяйство вторым источником дохода – в дополнение к доходам от трудовой деятельности (12 % селян), различного рода пенсиям и пособиям (10 %) и собственным сбережениям или иждивенческому существованию (3 %).
Таблица 1.4.3. Доходы отличного подсобного хозяйства как источник средств к существованию, 2002, %

Источник: Источники средств 2004.
Таблица 1.4.4. Мнение членов домохозяйств о значимости сельскохозяйственной продукции собственного производства для обеспечения благосостояния, 2003, % от числа опрошенных

Источник: Малое предпринимательство 2004: 146 (материалы Национального обследования домохозяйств).
Перепись населения выявила гораздо большую роль продукции индивидуальных хозяйств в доходах населения, чем показывают отдельные обследования благосостояния домохозяйств. Эти расхождения видны при сравнении таблиц 1.4.3 и 1.4.4. Но главное, что поражает в последней таблице, – это огромная роль собственной продукции в питании граждан. От собственного огорода и часто скотины зависят 92 % сельских жителей и 44 % горожан.
В оценках роли подсобного хозяйства для населения в научной литературе существуют большие разногласия. Они связаны как с методиками оценок, так и с характером выборки (все это – результаты опросов). По результатам опросов Научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, состав доходов сельских жителей следующий: продукты из своего хозяйства – 25 %, зарплата – 30 %, пенсия – 17 %, остальное – пособия, дотации и прочие доходы (Состояние 2000:65). Выходит, что значимость подворья для них почти сравнима с зарплатой и выше пенсии.
Этим данным примерно соответствуют и социологические обследования в разных регионах России. Например, в вологодском селе доходы от индивидуальных хозяйств колебались от 17 % до 50 % совокупного дохода, в среднем составляя около 1/3 (Ястребинская 1999: 69). В Саратовской области, по нашим опросам 2000 года, в периферийных районах они достигали 60–80 % доходов, однако, если вычесть натуроплату (которая является доходом от работы в колхозе), их доля будет менее 1/2. Примерно такие же оценки роли саратовских хозяйств даются и О. Фадеевой по результатам многомесячного обследования села Даниловка в той же области (Фадеева 2002).
Как бы ни расходились данные разных исследователей, почти все они отмечают, что в условиях общеэкономического кризиса и коллапса многих работодателей, роль своего хозяйства в питании и в денежных доходах населения сильно возросла. На увеличение доходов от своего сельского хозяйства указывает увеличение доли денежной помощи селян городским родственникам, которую отмечают исследователи (Артемов 2003). Да и возможность обучать и содержать своих детей в городах, что стало очень характерно для деревни, при крайне низких официальных доходах и даже их отсутствии, также говорит о большой роли своего хозяйства именно в денежных поступлениях.
Итак, роль сельскохозяйственной деятельности населения увеличилась. Она не только восполняет потери производства агропредприятий, но является источником существования для огромной массы селян и многих горожан, даже если официально эти люди заняты в других сферах. Личные подсобные хозяйства представляют собой основной тип самозанятости российского населения, часто неадекватно отражаемый статистикой.Во многих регионах этот образ жизни является доминирующим. Все советские годы именно он и оставался (под мощным прессингом социализма, его большой планово-индустриальной экономики) самым массовым, ландшафтно-, социально-, экономически неустранимым хранителем «частного сектора», так или иначе связанных с ним ценностей и навыков. Современные хозяйства населения – его прямой постсоветский наследник.
Глава 2 Разноликие сельские «подворья»
Казалось бы, сельское хозяйство во всей современной России устроено примерно одинаково: в той или иной степени сохранились крупные предприятия, почти у всех сельских жителей есть подворья, в любом районе появилось хотя бы несколько фермеров. Но в одном селе видишь покосившиеся избы, заросшие сорняками грядки, а в другом – настоящие тепличные плантации и стада частного скота. Почему в одних местах люди ведут свое хозяйство активнее, чем в других? Как отличаются хозяйства по уровню развития, масштабам, специализации, товарности? Уже говорилось, что недостаточность и оценочность статистической информации делает этот объект почти непознаваемым.
По крайней мере, необозримым. Это бушующий океан, о котором нельзя судить по двум-трем, даже ста выловленным рыбешкам. Нельзя изучить несколько сел и считать, что это и есть Россия. Только путешествия по самым разным районам позволяют хоть как-то охватить существующее разнообразие сельских хозяйств. Поэтому мы начинаем описание индивидуальных хозяйств именно с их разнообразия. Попробуем «зачерпнуть» не в одном-двух, а хотя бы в нескольких местах, с самыми разными природными условиями. Конечно, приведенные ниже примеры не охватывают всех районов нашего исследования, иначе бы настоящая глава сильно разбухла. Не только эти, но и другие регионы будут еще фигурировать в последующих главах. Кроме того, мы опирались не только на собственные исследования, но и на результаты, полученные нашими коллегами. Например, на детальное полевое изучение хозяйств населения Курской области (Клюев, Яковенко 2005), на подробные социологические обследования домохозяйств Новосибирской области (Калугина 2001: Калугина 2003), на десятилетние исследования российских сел группой ученых под руководством Т. Шанина (Крестьяноведение 1996: Крестьяноведение 1997: Крестьяноведение 1999: Рефлексивное крестьяноведение 2002) и многие другие.