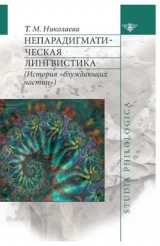
Текст книги "Непарадигматическая лингвистика"
Автор книги: Татьяна Николаева
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
§ 8. Между индоевропейским и неиндоевропейским
Разумеется, было бы слишком самонадеянно думать, что интересующие нас партикулы были известны всем языкам, или хотя бы попытаться доказать это для части языков. Поэтому – в пределах первой главы – мы ограничились только тремя группами сведений: 1) некоторыми данными о индоевропейском Стадии II (см. об этом выше), 2) данными о так называемых ностратических языках, 3) теми сведениями о языках Евразии, которые оказались для нас доступны и показались достоверными.
Итак, можно считать, что между индоевропейским и неиндоевропейским находится свод ностратических данных, который, как двуликий Янус, относится и к тем, и к другим. И здесь в качестве исходного фактического материала мною был использован словарь Вл. М. Иллича-Свитыча [Иллич-Свитыч 1971].
Естественно, что для целей этой нашей книги наиболее важной частью этого Словаря оказалась та часть, которая относилась не к знаменательным корнесловам, а к «реляционным элементам языка». Это были следующие таблицы: 1) Местоимения и местоименные аффиксы; 2) Именные аффиксы падежа и числа; 3) Аффиксы глагольных залогов; 4) Словообразовательные аффиксы; 5) Показатели относительных конструкций; 6) Частицы [ИлличСвитыч 1971: 6—18].
Количество заслуженных восторгов перед юным и безвременно погибшим первооткрывателем за эти годы стало столь велико и, конечно, объективно, что можно сейчас уже высказать некоторые соображения, пожалуй, не столько критического свойства, сколько относящиеся к возникающей в настоящее время метатеоретической рефлексии по отношению к идентификации языковых единиц.
В книге Иллича-Свитыча некоторые мучительные проблемы (в основном это именно проблемы отождествления единиц партикульного фонда, о которых говорилось выше) решаются довольно просто и, вероятно, верно. Так, он отождествляет b– и m-, t– и d-, хотя на d– заводится и отдельная строка. Так же не составляют для него серьезных проблем определения различия в вокальном наполнении состава CV, хотя еще К. Бругман, впервые серьезно обратившийся к индоевропейским частицам, полагал, что в их основе лежит структура CV, где С относится к денотату, а гласный передает тип дейксиса: Jener-, Ich-, Der– Deixis. То есть в одной строке Словаря В. М. Иллича-Свитыча идентифицируются, например, mä – me, m-, mo-, mi и т. д.
Современные трудности в использовании его Словаря, при абсолютном доверии к данным, состоят совсем в другом. А именно: реконструируя данные языковой общности, отстоящей от нас, видимо, на многие и многие тысячелетия (или даже десятки тысячелетий), он классифицирует обобщаемые единицы по современным грамматическим описаниям. Выше говорилось о том, какая сложная структура стоит за современным русским я и как сложно отражается она в «скрытой памяти» нашего русского языка. Совмещая реконструируемые формы и современные грамматические описания, В. М. Иллич-Свитыч соединяет в одной таблице квалификации чисто семантические, чисто «фонетические» и чисто грамматические. Например, об n-овой конструкции мы узнаем, что это: 1) указательное местоимение (дравидийский язык), 2) показатель субъекта 3-го лица единственного числа (картвельский), 3) суффикс косвенных форм имен и местоимений (алтайский), 4) суффикс косвенных форм имен (индоевропейский), 5) локативный формант в местоименных наречиях (алтайский, уральский и картвельский), 6) суффикс множественного числа имен одушевленного класса (семито-хамитский), 7) препозитивная и постпозитивная локативная частица (индоевропейский) и т. д.
А между тем это может быть по существу одна единственная реконструируемая единица, скажем, со значением «отдаленного дейксиса», но в одних языках уже претворившаяся в грамматический формант, а в других сохранившая свое автономное существование. Таким образом, и в случае работы абсолютно пионерской, мы сталкиваемся все с той же боязнью признать недостаточность современного нам таксономического состояния языка, данного нам в языковой теории.
В левой части своих таблиц В. М. Иллич-Свитыч выделяет некие обобщенные для шести языковых групп значения описываемых формантов. Эти таблицы можно рассматривать как список, представляющий и значения, и то, что сейчас мы бы назвали функцией. В нем 41 единица. Но семантическая пестрота единиц-номинаций этого списка мешает (и, несомненно, мешала самому ученому) сделать дальнейшие обобщения. Так, в его таксономии мы видим: 1-е лицо единственного числа; Указательное местоимение одушевленного класса; Указательное местоимение широкого значения; Суффиксальные формы маркированного прямого объекта; Каузатив-рефлексив; Локативную частицу и т. д.
Поэтому для задач, поставленных в настоящей книге, все данные, извлеченные из таблиц В. М. Иллича-Свитыча, были переписаны мною, исходя из иной точки зрения. А именно: мною был составлен некий другой словарь, в основе своей имеющий консонантную опору, и для каждой единицы словаря были сопоставлены все возможные – как семантические, так и грамматические – ее соответствия, предлагаемые в Словаре В. М. Иллича-Свитыча.
Итак, по данным В. М. Иллича-Свитыча, выделяется 10 основных примарных единиц, классифицируемых по их консонантным основам.
Это:
• b /m (V);
• t/s (V);
• n (V);
• d (V);
• l (V);
• k (V) ;
• s (V);
• ku (V);
• i/e (jV);
• a/o.
Интересно, что В. М. Иллич-Свитыч находит нужным выделять два разных s: одно автономное и другое, чередующееся с t (на этом мы остановимся ниже), два к: одно задненебное и другое – увулярное. Кроме того, он объединяет два губных согласных: b и m. (Напоминаем, что в реконструируемой звуковой системе праиндоевропейского у Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [Гамкрелидзе, Иванов 1984] чистого, непридыхательного звонкого b нет.)
В этой системе, составленной по данным В. М. Иллича-Свитыча, как можно обнаружить, легко выделяется некий фонетический центр – с сонантным ядром в виде m. С одной стороны, к нему примыкает n, а к n в свою очередь – d и t. С другой стороны, к тому же m примыкает губногубное b, а с третьей стороны – латеральный сонант l.
Получается фигура:

Таким образом, центр составляют сонанты и переднеязычные.
Партикулы вокалического происхождения, выделяемые В. М. Илличем-Свитычем, легко объединить в цепочку, а именно: a – o – e – i. Недаром про каждую из этих гласных можно прочесть в литературе, что именно она может быть той самой первогласной для древнего реконструируемого вокализма (выбор определяется исследователем). В системе, по В. М. Илличу-Свитычу, остаются не вписанными в общую схему фонетических связей s (обоих видов) и k (также обоих видов).
Обсуждавшиеся выше противопоставления дейксиса на -s и дейксиса на -t решаются у В. М. Иллича-Свитыча следующим образом: 1) дейксис на s – соответствует указательному местоимению одушевленного класса, дейксис на t – указательному местоимению неодушевленного класса; 2) s-единицы – это суффиксы каузатива и дезидератива, t-единицы – это суффиксы рефлексива и каузатива [Иллич-Свитыч 1971: 13]. Наконец, чередующиеся t/s описываются им как варьирующиеся показатели формы 2-го лица единственного числа, то есть ’ты’.
Попытка еще раз переписать грамматические построения В. М. Иллича-Свитыча, основываясь лишь на консонантных опорах, для нас оказалась довольно трудной, так как выявлять сложный исторический путь каждого из показателей в шести декларируемых им группах было невозможно. Поэтому предлагаемое ниже наше описание может быть только приблизительным.
1. Так, ведущее место в его таблицах занимали показатели с опорой на m– (то есть на самый простой губной звук).
В Словаре представлены для этой партикулы:
– местоименные показатели 1-го лица (как единственного, так и множественного);
– дейктические соответствия как с указательным, так и с вопросительным значением;
– аккузатив имен одушевленных и суффикс маркированного объекта (по нашему мнению, эти показатели можно приравнять друг к другу);
– запретительная и отрицательная частица.
2. Количественно (то есть по представленности форм в Словаре) к вышеуказанному показателю близки показатели с консонантной опорой на n-, которые демонстрируют следующую функциональную семантику:
– они соотносятся с 1-м лицом множественного числа;
– выступают в функции указательного местоимения;
– являются локативным формантом при именах и местоимениях;
– являются показателем косвенного падежа имен одушевленного класса;
– являются суффиксами отглагольных имен, причастий и прилагательных;
– показателями медиума и пассива в глаголах;
– выступают как отрицательная и/или запретительная частица[47]47
Легко заметить здесь и в дальнейшем, что все отмечаемые для разных единиц значения внутри одной группы на самом деле могут быть идентичными.
[Закрыть].
3. Значительно меньшее число значений можно перечислить по Словарю В. М. Иллича-Свитыча для единиц с показателем консонантной опорой на t-:
– это прежде всего показатели 2-го лица, как в единственном, так и во множественном числе;
– это показатели 3-го лица с семантикой указательности, причем они могут обозначать и ’этот’, и ’тот’;
– это показатели косвенных падежей имени;
– наконец, в рамках глагольных категорий они могут служить показателями каузатива и рефлексива.
4. Выделяемый В. М. Илличем-Свитычем отдельно от t-ового показателя показатель на d– имеет в его Словаре два типа значений, как будто бы не сводящихся друг к другу в единое поле:
– это, во-первых, значение соединения (объединения), то есть ’ тоже, и, же’;
– во-вторых, это значение локативной семантики, направительности, показатель, трактуемый то как формант локативных падежей, то как суффикс аблатива с местоимениями и основой на -о. В данном случае интересно проследить, как распределяются эти два типа значений по шести языковым группам, описанным В. М. Илличем-Свитычем. Удивительным образом оказывается, что обе семантические группы присутствуют во всех шести языковых семьях[48]48
В дальнейшем, при анализе славянского материала, будет видно, насколько особо отстоит партикула на -d от других, поскольку она не выступает в ряде славянских языков в виде структуры CV при локативном значении, а реконструируется как ąd/ød.
[Закрыть].
5. Согласно В. М. Илличу-Свитычу, показатель с консонантной опорой на s-, не смешивающийся с консонантной опорой на t-, имеет следующие значения:
– указательности, дейксиса, с указанием на 3-е лицо;
– притяжательности;
– для глаголов служит как «аффикс каузатива и дезитератива».
6. Несколько неожиданными со славянской точки зрения (и даже с индоевропейской) являются значения показателя с l-овой опорой. Если для славянского континуума здесь выделяются, скорее, вопросительно-разделительные значения, то есть не-идентифицирующие, то здесь мы имеем дело, по В. М. Илличу-Свитычу, со следующей функциональной семантикой:
– значение локативности;
– значение собирательности (для имен);
– функция (значение) отглагольности (для имен);
– показатель отрицания (как собственно отрицательная частица, так и отрицательный компонент) внутри глагольных форм.
Таким образом, пытаясь обобщить, сразу же можно сказать, что отрицательно-запретительное значение имеют все три показателя с консонантной опорой сонорного характера: m-, n-, l– [49]49
По этому поводу сразу же вспоминаются противительные союзы с той же опорой на l-, например, греч. ἄλλα или слав. ale, le.
[Закрыть].
7. Последняя группа показателей с консонантной опорой – это элементы с Stammlaut на k-. Семантико-функциональный разброс здесь настолько велик, что заставляет думать об особости исторического развития показателей на задненебный (напомним, что В. М. Иллич-Свитыч разделяет опоры на k– и опоры на ku-).
Перечислим эти значения, обобщая их по мере таксономической допустимости:
– разумеется, это прежде всего и во всех языковых семьях представленное значение вопросительности;
– это значение направительности;
– связывается с этим в известной степени и значение побудительности, императивности;
– это хорошо известное для индоевропейских языков значение соединительности вроде латинского que ’и’;
– одновременно с этим присущее многим языкам значение уменьшительности.
8. Напротив, довольно единообразную семантику являет группа показателей с глайдовым переходом (средненебным) j-. Если не объединять его с i, как это делает В. М. Иллич-Свитыч, то семантика у этих показателей простая:
– быть реляционным показателем, проще говоря, выступать в функции относительного местоимения со значением ’ который, какой, что’;
– быть показателем уменьшительного или ласкательного суффикса (для имен).
Оба этих значения представлены во всех шести группах, или языковых семьях.
Как и для чередований с i (которое в индоевропейском, как пишет автор таблиц, первоначально передавало множественное число местоимений), В. М. Иллич-Свитыч предлагает для j в уральском и aj в семито-хамитском в обоих случаях значения выразителя форм косвенного падежа множественного числа.
Последние две группы – чисто вокального состава, без консонантной опоры.
9. Первая из них – это чередующиеся (по В. М. Илличу-Свитычу) гласные i/e.
Значение их прежде всего дейктическое – с той только разницей, что в одной группе языков этот элемент может указывать на ближайший предмет, а в другой – быть показателем отдаленного дейксиса.
Другой тип значения – запретительная или отрицательная частица, часть отрицательного глагола или даже форма отрицательного глагола.
Третье значение, выделяемое В. М. Илличем-Свитычем, это свойство быть суффиксом отглагольных и отыменных имен, суффиксом прилагательных. Судя по примерам, здесь выступает именно i, а не e, тогда как в значении отрицательном и запретительном выступает именно e. Так как из материала, приведенного в таблицах, остаются неясными ни позиция этого элемента в слове, ни хронология появления этой функции, то мы можем предположить, что третья функция есть по сути первая – так как именно этот показатель создал так называемые «полные», то есть определенные, формы славянских прилагательных.
10. Вторая вокалическая группа – это чередующиеся a/o. Здесь мы видим редкий случай полного функционального единства всех шести языковых семей: эти компоненты выполняют дейктическую и только дейктическую функцию: быть словом (или элементом слова) указательного значения.
Делать какие-либо обобщения по приведенным данным очень сложно. Прежде всего потому, что, как указывалось выше, поздние грамматикализованные формы и поздние функции сопоставляются с более ранними по относительной хронологии «на равных», а диахрония грамматикализованных форм в книге не представлена. Во-вторых, мы все-таки не знаем, чем обусловлены вокалические чередования и потому не можем оценить их важность. И, наконец, мы не можем иметь – как бы ни старались – представления о том, как членилось семантическое поле дейксиса в столь отдаленную эпоху.
И все-таки мы можем сказать следующее:
1. Несомненно, что число таких дейктических единиц невелико – в данном случае их примерно десяток.
2. Несомненно также, что внутри этого класса выделяется фонетическое ядро, компоненты которого близки друг к другу артикуляторно.
3. Несомненно и то, что наиболее активными функционально оказались элементы с опорой на сонорные звуки.
4. Отрицательно-запретительное значение связано в первую очередь с сонорными или просто вокалическими элементами.
§ 9. Неиндоевропейский пласт партикул
Наиболее интересными для сопоставления с индоевропейскими данными – как в плане контактном, так и с точки зрения позиций отдаленного родства – показались нам сведения о данных финно-угорских и енисейских языков. Однако почти вся существующая по этому поводу литература практически посвящена вопросам заимствования дейктических показателей из русского языка. (В дальнейшем мы подробнее остановимся в этом плане на работах М. Лейнонен.) Считается, – как это описано в литературе, – что только венгерский язык избежал в этом плане славянского влияния. На самом деле уже сама постановка вопроса о том, почему в одних языках частицы легко заимствуются, а в других эта сфера мало проницаема, заслуживает очень серьезного внимания. Например, не совсем ясно, почему славянские языки Балкан заимствовали многие компоненты коммуникативного фонда из турецкого и греческого, а чешский язык в этом отношении противостоял «частицеобильному» немецкому. Но это уже серьезные и иные вопросы контактологии.
Интересующий нас финно-угорский материал был извлечен в основном из монографии К. Е. Майтинской «Служебные слова в финно-угорских языках» [Майтинская 1982].
Эта насыщенная материалом книга, с одной стороны, демонстрирует со всей наглядностью глубинное, многолетнее и выношенное влечение автора к неким первичным единицам дейктического характера и искреннее желание выявить все эти единицы и их перечислить. С другой стороны, видно, что автор, как и многие лингвисты, о которых писалось выше, боится признать и принять существование этих первообразных элементов и хочет придерживаться традиционной точки зрения, что эти элементы откуда-то «произошли». Например, мы читаем в книге: «В финно-угорских языках первообразные частицы происходят: 1) от местоименных слов, 2) от словообразовательных суффиксов, 3) от звукосочетаний междометного характера, 4) от имен» [Майтинская 1982: 143]; «Вопросительные частицы возводятся к уральской указательно-местоименной основе Y» [Там же: 148]; «Усилительные частицы возводятся к уральскому *к-овому местоименному суффиксу» [Там же: 149].
Так, финская частица s– возводится автором к указательному местоимению se, марийская частица at – к указательному t-ово-му местоимению, удмуртская частица но появилась на базе n-ово-го указательного местоимения и под.
Но, с другой стороны, мы можем прочесть в этой же книге, почти на тех же страницах: «Эта общность указательных местоимений и указательных частиц отражает то древнейшее первичное состояние дейктических слов, когда указательные местоимения и указательные частицы еще не были разделены, т. е. одна и та же единица совмещала в себе обе функции» [Майтинская 1982: 146]. И даже прочесть такое «крайнее» высказывание: «Приведенные данные свидетельствуют о том, что праформы перечисленных частиц уже в обско-угорском языке-основе были частицами» [Там же: 151].
Однако несомненно, что удачной стороной книги К. Е. Майтинской является установка автора на расчленение (разбиение) поздних языковых дейктических и прономинальных комплексов на первичные минимальные единицы, которые приближаются по статусу (и даже облику) к нашим славянским партикулам. Так, например, расчленяется ею финская диалектная частица josko ’неужели’ < jo + s + ko. Соответственно расчленяется и финское joko ’неужели’ < jo + ko. В обоих случаях конечным элементом является вопросительная частица ko. Финское jopa ’даже’ тоже складывается из двух элементов: jo ’уже’ + pa. При этом многие финно-угорские компоненты коммуникативного комплекса получаются путем редупликации, удвоения. Таково, например, мансийское titti (здесь утроена первичная частица ti). Ср. с этим русские модели вроде то + тъ, къ + то + то и под.
В книге К. Е. Майтинской воспроизводятся списки частиц (партикул), которые она считает первообразными (правда, эти списки приводятся каждый раз все-таки с легкими изменениями). Это – основы на консонант с-, k-, j-, n-, t– и вокалическая первообразная частица Е. Поразительно, насколько этот приведенный список вполне согласуется с вычленяемыми индоевропейскими данными. Однако К. Е. Майтинская демонстрирует в своей работе и отличия финно-угорской системы. Во-первых, синтаксическая позиция указательного элемента в этих языках была (и есть) постпозитивной. Об этом будет сказано ниже в связи с частицей дак, о которой сейчас в литературе много споров. Во-вторых, она выделяет три вопросительных основы: ки, ки (при указании на человека) и гпэ (с фонетическими вариантами). Последняя партикула в индоевропейском не представлена. Наконец, к прафинно-угорскому состоянию К. Е. Майтинская относит и частицу ra (ее интересно сравнить с партикулой ro, приведенной выше в качестве первичной у Дункеля).
В этой же книге К. Е. Майтинской высказана интересная гипотеза о более позднем появлении семантики отрицания у так называемых n-овых частиц. Она пишет: «По-видимому, первоначально соответствующее n-овое слово использовалось для подчеркивания и выделения других слов. Особенно часто – при отрицании. Оно специализировалось, стало отрицательной частицей и утратило местоименную (а позднее – выделительную) функцию» [Майтинская 1982: 146]. Эта гипотеза позволяет объединить с отрицанием и славянский «дальний дейксис», приняв единое происхождение этих партикул[50]50
Правда, у В. М. Иллича-Свитыча (см. выше) место сонантов в системе первообразных отрицаний, напротив, кажется семантически первичным.
[Закрыть].
Специально вопросом о контактологических причинах столь активного заимствования русских частиц в финно-угорских языках занималась в последние годы М. Лейнонен [Leinonen 1997; 2000; 2002]. Этому вопросу посвящено уже несколько специальных ее исследований. Среди бесспорных заимствовований из русского языка вроде копулятивных da, i и других особое место занимает частица dak, располагающаяся позиционно в финальной части предложения, употребляемая и в русском, и в финно-угорских языках. Значение ее можно передать как ’раз уж, если, когда’, например: Иди, пошел дак. Специальный доклад об этой частице, вызвавший оживленную дискуссию, был сделан нидерландской фонетисткой М. Пост на Фонетической конференции в Поречье в 2003 году. Дело в том, что эту частицу можно считать: 1) русской частицей так с озвончившимся началом, превратившуюся в дак; 2) комбинацией русских да + къ; 3) комбинацией русских та + къ; 4) общим для двух языковых семей сочетанием ностратического t/d + k. Некоторые частицы, как пишет М. Лейнонен, в этом плане вообще трудны для определения их происхождения. Например, партикула ka [Leinonen 2002: 319], означающая ’ вот так’, может являться русской побудительной частицей, изменившей свою семантику (Иди-ка сюда), или исконно финно-угорской (в крайнем случае, ностратической), восходящей к консонантной опоре k.
На иных позициях, чем те, что изложены выше в книге К. Е. Майтинской, стоят авторы исследований об енисейско-индоевропейских параллелях [Живова 1984; Ильяшенко 1984; Ильяшенко, Максимова 1984]. Г. П. Живова прямо соотносит указательные и вопросительные местоимения в енисейских языках с первообразными частицами ностратического характера[51]51
Г. П. Живова в своей статье опирается на работы К. Бругмана, А. Мейе и – в первую очередь – на книгу В. М. Иллича-Свитыча 1971 г., о которой говорилось выше.
[Закрыть], см.: «Вопросительные, указательные и личные местоимения восходят к первичным дейктическим частицам» [Живова 1984: 20]; «Вопросительные местоимения восходят к первичным основам с широким значением местоимений, частиц, наречий» [Живова 1984: 27].
Какие же именно первообразные элементы восстанавливаются в этих работах для енисейских языков? Прежде всего, это элемент а, который присущ всем местоимениям. Поэтому частица общего вопроса ана реконструируется как а + на, где на – дейксис широкого значения. Енисейское а] ’что?’ предстает как комбинация a + j, восходящая к ностратическому io – релятивизатору. Akus ’что?’ реконструируется как a + ku + s. Примечательно, что в этом кластере оба вторых члена известны как дейктические показатели.
Итак, в енисейских вопросительных местоимениях Г. П. Живовой выделяются следующие первообразные элементы: a-, na-, bi/be < и. – e: *m, ku-, s-.
В неопределенных местоимениях в енисейских языках обязательно присутствует ta, восходящее к древнему t-дейксису, также ностратического характера, а также m < b/m.
Отрицательной частицей является n’i, тоже находящая параллели в индоевропейских языках.
Падежные формы формируются из первоначальной дейктической частицы d-, которая, в свою очередь, распространяется вокалическим показателем -a – для женского рода и -i – для мужского. (В енисейских языках существует различие в падежной системе для мужского и женского рода.)
О присутствии ностратического ko/ku в селькупских вопросительных местоимениях пишет и И. А. Ильяшенко [Ильяшенко 1984]. В совместной статье Ильяшенко и Максимовой [Ильяшенко, Максимова 1984], посвященной склонению местоимений в селькупском языке, говорится о цепочечном «нанизывании» в элементах падежной системы. Так, в северносамодийских языках в генитиве обнаруживается комбинация *j (V) + t (V) или *J + I. Авторы показывают, что те же системы нанизывания находим и в генитиве прибалтийско-финских языков.
Итак, в енисейских языках исследователи выделяют уже ранее описанный для других языков состав первообразных элементов: a-, na-, ni-, bi/be < и. – e. m, ku-, s-, t-, d-, j-.







