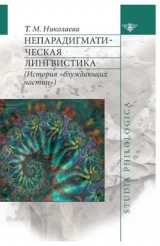
Текст книги "Непарадигматическая лингвистика"
Автор книги: Татьяна Николаева
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
§ 5. « Скрытая память» языка и возможности ее выявления[24]24
Многие положения, публикуемые в настоящем разделе, опираются на статью автора [Николаева 2002].
[Закрыть]. Партикулы и знаменательные слова
В этом параграфе демонстрируются сразу две теоретические позиции, одна из которых предполагает другую. Проще говоря, на дискуссию выставляется такое общее понятие, как «скрытая память» языка. По нашему мнению, скрытая память языка распространяется не только на партикулы, не только на слова коммуникативного фонда, но и на слова так называемые «знаменательные». С другой стороны, концепция «скрытой памяти» может служить одним из способов реконструкции «партикульной» диахронии.
Итак, что же такое «скрытая память» языка? Прежде всего, ясно, что речь не идет о фактах обыденного научного знания, т. е. о тех фактах, которые известны историкам языка и специалистам компаративистам. И не о тех фактах, которые сообщаются студентам. Так, например, описание диалектной дистрибуции праславянского Ѣ – это не скрытая память. Объяснение того, почему в одних случаях в языке имеет место «беглая гласная» (лоб – лба), а в других нет (дом – дома), также не является «скрытой памятью», так как это тоже факты обыденного научного знания, об этом знают и пишут в нормативных учебниках.
Говоря обобщенно, можно сформулировать понятие «скрытой памяти» языка как ту ситуацию (или те случаи), когда в рече-употреблении сосуществуют два как будто бы свободно заменяющихся в коммуникации варианта (лексемы, грамматические формы, синтаксические модели и под.); при этом на вопрос, чем их употребление различается, носитель языка ответить не может. Не может, как правило, ответить на этот вопрос и кодификатор-лингвист (т. е. при этом для вариантов иногда даются пометы вроде «разг.», «книжн.», «вариант» и т. д.). И только пристальное исследование большого массива данных дает возможность выявить некоторую «тенденцию», позволяющую интерпретировать это различие; именно тенденцию, а не грамматикализованную модель. Иногда помогает выявить эти различия какой-нибудь формант, который не воспринимается и не описывается традиционно как релевантный фактор различения «вариантов».
Почти обязательным для «скрытой памяти» феноменом является «наивная» (в буквальном смысле) реакция носителя языка, и даже филолога, на вопрос об этих вариантах – в том смысле, что ответом будет сообщение о том, что ведь можно сказать и так, и так, и все равно будет правильно. Иными словами, разработка «скрытой памяти» не относится к той строгой лингвистике как нормальной науке, в которой описание строится по принципу: можно – нельзя.
Разумеется, я понимаю, что предлагаемая теория только нарождается. Все сказанное далее будет относиться к сфере партикул, которые, на мой взгляд, во многом помогают вычислить эту «скрытую память» языка. Именно они, по-моему, являются теми подводными межевыми столбами, которые помогают нам проследить путь языковой эволюции. Допускаю, что моя точка зрения пристрастна. Допускаю также, что и знаменательные слова, не перешедшие в разряд дискурсивных слов, тоже могут как-то определять «скрытую память» языка. Приведем некоторые примеры.
Нам уже приходилось писать об употреблении / неупотреблении в речи русского местоимения первого лица я[25]25
См.: [Брейяр, Николаева, Фужерон 2003; Николаева и др. 2004] и др.
[Закрыть].
Что же представляет собой это я в индоевропейской предыстории? Естественно, оно соотносится с такими же односложными формами славянских и балтийских языков. Но переход к индоевропейским языкам ведет я к греч. ἔγω, латинскому egō, др. – инд. ahām, авест. azəm и др. [ЭССЯ. 1974. Вып. 1: 100—103]. Таким образом, оно предстает как трехчленное партикульное сочетание: e (как в э + то) + g/h/z/ + m. В ЭССЯ оно реконструируется как *egom (’It is me’). Неясными остаются: идентификация чередования e/a и объяснение того, почему в одних языках есть в этой форме j, а в других – нет. О. Н. Трубачев интерпретировал начальный j как необходимую вставку, для того чтобы избежать частых зияний, поскольку для Я частотна конструкция а + я, тогда было бы а..а. Возможна и другая концепция, по которой *j-восходит к релятивному форманту, соединяющему части высказывания. Так, о более древнем чисто разделительном характере относительного местоимения *jo писал еще Я. Гонда [Gonda 1954—55: 1]. См. также у К. Красухина: «Частица o/jo, стоявшая в начале предложения (колона) в крито-микенских текстах, обладала сильным фразовым ударением. Это не морфема генитива, а частица, подобная *de, т. е. выражающая противопоставление предшествующей конструкции и направленность на последнее сообщение» [Красухин 2001: 129]. Тогда русское я может раскрываться в предыстории как четырехчленный катафорический комплекс, состоящий из четырех (возможно, в других языках – трех) партикул: *j + e + gh’ + om. Что же этот комплекс означает, если его перевести на современный язык русских частиц-партикул? Это: ’а + вот + он + я’. Интересно, что именно так часто отвечают русские, имея в виду самого себя, на вопрос: А где такой-то? Таким образом, «скрытая память» языка сохранила семантическое тождество этого древнего четырехчленного катафорического комплекса, только переодев древние партикулы в новые одежды из того же мешка партикул, а старый комплекс свернула до неузнаваемого неспециалистами моносиллаба.
Но с этим словом, местоимением первого лица, связаны и другие интересные вещи. Те, кто признает изначальную композитность этого местоимения, расчленяют его по-разному. Так, например, О. Семереньи [Семереньи 1980: 231] пришел к выводу, что *-m было более ранним, и именно оно было личным окончанием глагола в первом лице: «Следовательно, значащим элементом в номинативе является не *eg(h), а -om; *eg(h) – это элемент, который в качестве префикса присоединялся к местоимению *em». То, что позднее (т. е. современное) первое лицо восходит к комплексу частиц, а собственно показателем первого лица является m-основа (см. м-ой, м-не, mein, my, moi и т. д.), признает также В. Н. Топоров ([Топоров 1992] и др. его статьи). Эту форму он реконструирует как *eg’hom и пишет о ней: «и. – е. *eg’hom, как бы его ни членить, …состоит более чем из одного элемента, из двух по крайней мере» [Топоров 1992: 131]. Первым элементом он считает дейктический элемент: *e-, *H’e-, *H’ei-? *H’I и т. д. Вторым элементом – усилительную частицу: *-g’h-, *-gh-. Но основное внимание он уделяет последнему элементу, с опорой на -m-, развивая идею совместного существования этой формы и той, которая выступает в родительном падеже и обычно трактуется как супплетивное образование для косвенных падежей у местоимения первого лица – т. е. *men. По мнению В. Н. Топорова, это *men связано с корнем «общементального значения» (см. mens/mentis), «тонкой духовной субстанции», противопоставляемой субстанции более грубой, связываемой со вторым лицом. То есть, по концепции В. Н. Топорова, в виде интродукции сначала вводится «Вот моя здешнесть», то есть я, после чего это я поясняется через *men-, атрибуируется.
Выводы В. Н. Топорова интересным образом соотносятся с выводами Г. А. Золотовой о существовании местоимения первого лица, точнее, русского субъекта, которое выражает «инволютивную маркированность» [Золотова 2000]. Имеется в виду в данном случае Мне хочется, рассматриваемое ею в противопоставлении с Хочется. Положения Г. А. Золотовой интересно сравнить с исследованием о двух формах субъекта в среднеанглийском языке и в раннем современном английском: I think – Methinks [PalanderColin 1998]. Автор приходит к выводу о том, что I think употребляли представители «элитарных слоев» и более авторитарно выражающиеся англичане, а форма Methinks была представлена в речи купцов и более низких слоев, скорее, колеблющихся в своих выражениях. Эти выводы вполне коррелируют с выводами Г. А. Золотовой о сути категории инволютивной / волютивной маркированности. Некоторое сходство с высказанными выше идеями можно найти в известной работе И. М. Тронского о дономинативном прошлом индоевропейских языков [Тронский 1967]. Хотя статья в целом посвящена реликтам дономинативного строя и в ней утверждается мысль о том, что в функции субъекта употребляется иногда винительный в безъобъектном значении, его примеры вроде латинского (Heu) Me miserum ’О, я несчастный’ [Тронский 1967: 94] также важны тем, что демонстрируют возможность введения первого лица без интродуктивного построения ’ вот + он + я’, к которому на самом деле восходит индоевропейское «Я».
Достаточно сложное построение, однако близкое к указанным выше, предлагает для форм первого лица В. М. Иллич-Свитыч [Иллич-Свитыч 1971]. Он перечисляет (и, действительно, очень убедительно) те языки, где m– основа связывается с первым лицом. Однако у автора явно возникают колебания в вопросе о том, что же считать исходной формой местоимения, а что – показателем косвенной основы. Он формулирует вывод следующим образом: «Наличие форманта косв. пад. – n– в форме gen. предполагает, по-видимому, что первоначальная форма me– выполняла функцию прямого падежа (основа косв. пад. me-n); введение специфического и. – е. новообразования – формы *hegHom в nom. (первоначально эмфатическая форма?) вызвало изменение функций основы *me-. В и-е., по-видимому, наличествовал вариант с предшествующим he-/ho– (восходящим к указат. мест.)» [Иллич-Свитыч 1971: 397]. Таким образом, вводящая конструкция у В. М. Иллича-Свитыча была элементом словоформы, вытеснившим в косвенные падежи исходное начало me-, которое в других языках ностратического пространства могло быть вытеснено формантом n-, также ставшим в свою очередь инициалью.
Однако для первого лица единственного числа в индоевропейском реконструируется еще одна форма. См. хеттское uk-, продолженное в германских местоименных формах, сохранивших много реликтовых элементов. К. Шилдз [Shields 1998] объясняет эту форму как контаминацию уже «ослабленного» первоначального дейксиса *u и дейктической частицы *k(e/o), обладающей семантикой ’here and now’. То есть и эта форма местоимения первого лица также есть первоначальный композит, а именно – комбинация дейктических элементов, очевидно, с тем же катафорическим значением вроде ’ вот я’.
Все это можно было бы считать просто историей личных местоимений первого лица и не относить к явлениям «скрытой памяти», если бы это не имело отношения к одной скрытой тенденции различения двух конструкций, которую как раз демонстрирует именно русский язык. Дело в том, что в русском языке равно допустимы в речи и формы с представленным местоимением первого лица единственного числа: Я люблю хорошо заваренный чай, и формы без местоимения: Люблю хорошо заваренный чай. См. также в поэзии: Люблю тебя, Петра творенье (Пушкин) и Я люблю этот город вязевый (Есенин). То есть русский язык оказался интересным лингвисту для возможных новых выводов, находясь как бы в некоей середине, где по одну сторону помещаются языки с обязательным местоимением (например, английский, французский, немецкий), и языки, где местоимение в речи практически почти всегда опускается (итальянский, польский и др.). На эту особенность русского языка лингвисты не обращали пристального внимания, однако в последние годы появилась серия работ, начатых Ж. Брейяром и И. Фужерон [Брейяр, Фужерон 2001; Breuillard, Fougeron 2001; Брейяр, Николаева, Фужерон 2003], в которых демонстрируется, что за этим внешне не систематичным варьированием форм с местоимением и без него можно увидеть определенную тенденцию.
Эта тенденция такова[26]26
В этих работах приводилось много примеров, а также подробная аргументация полученных выводов, поэтому в настоящем разделе мы лишь повторим их кратко.
[Закрыть]: во-первых, местоимение возникает тогда, когда имеет место противопоставление – как контактное (Гости давно ушли, а я все продолжал обдумывать происшедшее), так и дистантное (Посмотрите, как прекрасно выглядит Маша: такая подтянутая, спортивная. А я не люблю спортивных женщин).
Интересно то, что связь местоимения с противопоставлением отмечалась для древних языков [Елизаренкова 1982: 241 и др.] и отмечается для тех языков, где местоимение как правило отсутствует (например, см. о польском: [Nilsson 1982: 54]; об испанском: [Васильева-Шведе 1948: 530]). То есть это, очевидно, одна из древнейших синтаксических реализаций сочинения при противопоставленности[27]27
Напоминаем упомянутую выше точку зрения О. Н. Трубачева о том, что инициальное j в ja возникло именно вследствие частой контактности с а противопоставительным.
[Закрыть].
Далее. Во-вторых, местоимение первого лица появляется в русском языке при наличии в этом же высказывании других местоимений, часто контактных по отношению к нему, например: Он знает, что я ему этого не говорила; Честное слово, я их не видела и т. д. Интересно, что в старославянском, где употребление местоимения при противопоставлении обязательно, указанная выше ситуация я не требует [Ефимова 2002].
Существует и ряд речевых штампов, когда, напротив, практически не употребляется я: Прошу слова; Слушаю Вас; Стреляю и т. д.
Однако основной вывод, который сделали Ж. Брейяр и И. Фужерон на материале современного русского языка, очень важен для объяснения контекстно-семантических отношений. А именно: я не употребляется тогда, когда говорящий полностью присоединяется к точке зрения Другого, я употребляется при несовпадении точки зрения говорящего и точки зрения Другого.
Отсюда следуют два важных вывода. Во-первых, в семантику не-присоединения к точке зрения Другого как подвид органически входит и сообщение о Новом: новом событии, новой точке зрения, собственной новой акции[28]28
Именно в этом смысле важно наблюдение В. С. Ефимовой [Ефимова 2002: 3—7] о том, что в евангельских текстах с азъ начинаются слова Христа, несущего новую весть; с азъ вводятся также реплики самоидентификации, столь характерные для евангельских текстов.
[Закрыть]. Во-вторых, существенно понять, что этим Другим может быть и сам говорящий. Люблю хорошо заваренный чай! может утверждать человек, говоривший это много раз и еще раз в этой своей любви убедившийся. Поэтому А. Пушкин убежден в своей любви к Петербургу и повторяет это не раз: Люблю твой строгий, стройный вид… С. Есенин же понимает, что его любовь к дряхлой Москве может быть оспорена: хоть обрюзг он и одряб.., но, споря с этим, он утверждает: Я люблю этот город вязевый.
Эта тенденция хорошо прослеживается и на самом простом бытовом уровне. – Ну, ты идешь? – Иду, иду, – подтверждает жена. Ср.: Ну, ты идешь? – Я иду (’То есть, ты думаешь, что я копаюсь, но нет: я иду’).
Теперь можно снова обратиться и к партикулам, и к «скрытой памяти», эффектно подтверждающейся именно этой сохранившей архаику русской особенностью. Итак, я – это катафорическая комбинация партикул (см. выше). Естественно, что эта объ-явленность себя, своей точки зрения (ср.: «вот моя здешнесть») и должна связываться с противопоставлением, с объявлением нового, началом текста, с несогласием. Легко представить себе, что официант говорил: Слушаю-с, а начальник: Я слушаю. Гораздо труднее ответить на вопрос о том, почему одни языки грамматикализовали обязательность местоимений при финитных глаголах, другие – грамматикализовали практическое отсутствие местоимений, а русский язык почему-то сохранил в неявном виде это тонкое семантическое различие.
На связь «скрытой памяти» и партикул можно привести еще несколько примеров (они приводятся в [Николаева 2002]). Так, в частности, А. И. Рыко [Рыко 2000] исследовала дистрибуцию окончаний 3-го лица настоящего времени глагола в северозападных русских говорах. В работе приводятся данные о том, что в 3-м лице глагола может быть на конце флексия t или t’ или этой флексии нет. На первый взгляд, здесь представлена именно свобода выбора варианта: у одних информантов чаще один вариант, а у других – другой. Количественные показатели, по ее данным, меняются даже от деревни к деревне. Однако, в соответствии с выдвинутым нами выше положением о статусе «скрытой памяти», намечается некая тенденция, которая все же пробивает дорогу к исследователю. Что же это за тенденция? Как пишет А. И. Рыко [Рыко 2000: 129], «применительно ко всем этим системам можно говорить о противопоставлении актуальных и неактуальных значений презенса, причем актуальные значения характеризуются преимущественным употреблением флексии -t, а неактуальные – преимущественным употреблением флексии -ø».
Более подробно о «прилипании» партикул к знаменательным корнесловам и создании глагольных и именных парадигм с партикульной помощью будет говориться в главе второй настоящей книги, но сейчас можно только сказать по этому поводу, что эти северо-западные говоры «помнят» о том, что добавление партикулы с опорным консонантом -t, то есть с сильной семой определенности «здесь и сейчас», создает именно значение актуальности, а нулевая флексия не создает этой дейктической привязки. В других говорах и в литературном языке прошла грамматикализация окончаний с обязательным добавлением консонанта или с «не-добавлением», а анализируемые северо-западные говоры остались в архаической середине.
Как будет говориться в главе второй, партикулы могли и могут «прилипать» не только справа от знаменательной основы, но и слева. Так, в работе [Николаева 2002] приводится пример того, что в формах греческого глагола (аориста и имперфекта) инициальным компонентом является аугмент -ἐ, который в настоящее время преподается студентам как чисто грамматический формант-показатель категории. Однако Вяч. Вс. Иванов [Иванов 1979], вслед за К. Уоткинсом, предлагает отождествить этот формант с начальной частицей *e/o (в палайском и других языках отраженной как *a). Вяч. Вс. Иванов разбирает подобные начальные комплексы в индоевропейских языках и, широко привлекая славянский материал, показывает соответствие этого «аугмента» начальному э– в русском э-тот, э-та. Таким образом, партикула э в данном случае «помнит» свое инициальное ударение (инициальное ударение для лексемы это сохраняется), но и аорист как действие яркое, мгновенное и, скорее, сиюминутное, «помнит» именно эту актуальную «здешнесть».
Представляя нашу концепцию «скрытой памяти», мы обращались к идее В. Н. Топорова [Топоров 1992] о том, что *men– в косвенных формах местоимения первого лица соотносится со знаменательным корнем *men-, обозначающим некую тонкую духовную субстанцию. Это подводит нас, в свою очередь, к самой трудной проблеме: связи партикул и знаменательных слов, к проблеме того, могут ли они «перетекать» из одного класса в другой. Некоторые современные решения при этом довольно просты. Например, наречие здесь легко разлагается на исходный комплекс партикул: сь + де+ сь. Но это наречие есть также дейктическое слово.
Возможны и такие случаи, когда и имя собственное на самом деле реконструируется как дейктико-анафорический комплекс. Интересный пример подобной ситуации приводит Т. А. Михайлова [Михайлова 2001]. Так, в древнеирландской нарративной традиции часто фигурирует женский персонаж, обозначенный в тексте как Этайн и обычно исполняющий функции супруги правителя, наделенной рядом признаков, демонстрирующих связь с потусторонним миром. Однако, даже если рассматривать этот персонаж как чисто мифологический, становится очевидно, что составить «биографию» женщины-Этайн невозможно, т. к. в разных текстах она может фигурировать с разными патронимами и выступать в роли жены разных королей, кроме того, зачав, она обычно производит на свет девочку, с которой они «похожи как две капли воды» и которую тоже зовут Этайн. Принципиальная размытость «биографической парадигмы» этого образа не дает также возможности предположить существование нескольких персонажей, носящих одно и то же имя. Аналогичная картина наблюдается с персонажами по имени Этне, которые очень многочисленны.
Т. А. Михайлова, подробно анализируя разные тексты с этими «странными» именами, приходит к выводу, что они развились из сложения двух дейктических основ с семантикой ’этот, оный’ и проч. Именование Этне/Этайн, таким образом, означает буквально «та-вот-та», «вот-та».
Исследование подобных ситуаций только начинается.
§ 6. партикулы и происхождение языка[29]29
Разумеется, в этом параграфе мы можем опираться лишь на существующие теории происхождения языка, никак и ни в коей мере не претендуя на собственные гипотезы.
Как это ни необходимо, я не решаюсь обращаться здесь к много толковавшемуся веками началу Евангелия от Иоанна, хотя позволяю себе только его привести:
От Иоанна святое благовествование:
1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть…
[Закрыть]
Естественно было бы задать простой вопрос, как и зачем в работу, посвященную партикулам, вводится раздел о современных теориях происхождения языка?
А между тем эти вопросы тесно связаны. Глубочайшая древность партикул совершенно очевидна, но были ли именно они языковыми первоэлементами или они развивались параллельно с появлением классов знаменательных слов – трудно ответить и еще труднее – доказать. Поэтому хотя бы в обзорном виде я считаю нужным эти теории, как будет видно, весьма актуальные, представить в этой главе.
1Прежде всего необходимо заметить, что именно в последние десятилетия вопрос о происхождении языка вдруг стал одним из актуальнейших направлений языкознания. Достаточно сказать, что в 1866 году (по другим источникам, в 1876 году) парижское лингвистическое общество прекратило принимать к серьезному рассмотрению какие бы то ни было исследования о происхождении языка и об истоках его развития. В основе этого запрета лежит конфликт между дарвинистской теорией и взглядами известного тогда лингвиста М. Мюллера, который отрицал эволюцию и назвал дарвинизм «бау-вау» и «пух-пух» теорией.
Правда, нужно сказать, что еще Гердер писал о происхождении языка в 1770 году. В 1836 г. о языке как о «внутренней потребности души» писал В. фон Гумбольдт. Можно вспомнить и опыт фараона Псамметиха, описанный Геродотом. Псамметих изолировал двух детей и ждал, на каком языке они заговорят. Будто бы они сказали «бекос», что по-фригийски значит «хлеб». Сходный эксперимент, но уже практически с нулевым результатом, был проделан в XIII веке Фридрихом II Гогенштауфеном.
Однако в 1975 г. вышло из печати уже 15 000 публикаций по этому вопросу. Возникло международное общество LOS (Language Origins Society), которое к 1992 году насчитывало примерно 200 официальных членов. Оно было основано в Ванкувере (Канада) в августе 1983 года. Это общество проводит регулярные встречи. Активными участниками LOS являются не только лингвисты, но и антропологи, философы, физиологи, палеоисторики и т. д. Однако вопрос о происхождении языка, как будет видно далее, до сих пор несколько пугает исследователей, и они, возможно подсознательно, стремятся «привязать» возникновение языка к чему-то, уже ранее признанному «нормальной» наукой.
Таким образом, как естественно предположить, «креационистская» теория не очень популярна, как и другие идеи о происхождении языка «извне».
Однако интересно отметить, что, строго говоря, хотя о «креационистской теории» и говорится немало, нигде в Писании не сказано, что Бог сотворил язык. См. в Первой книге Моисея Бытие:
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй… И увидел Бог, что это хорошо».
В принципе в Писании могло быть сказано, что Бог решил, принял решение, подумал (пришел к выводу) и т. д. Но он говорит и называет. Но и человек уже владеет языком (или, по крайней мере, не сказано, что он ему дается). См. Быт. 2.19—20:
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым… »
Говоря строго, «креационистскими» являются и теории происхождения языка посредством «обучения» представителями внеземных цивилизаций, антропоидами или не-антропоидами. Но теории подобного рода мы сознательно обсуждать не будем.
Общепризнанным фактом является то, что человек был как будто готов к речи в период более 150 000 лет назад, но сделал это примерно 100 000 лет спустя, в эпоху Верхнего Палеолита. В большинстве работ это так и называется: «Upper Paleolit revolution». Возраст письменности – около 6 000 лет, а признаки знаковых изображений насчитывают примерно 13 000 лет. В настоящее время многие называют прародиной происхождения современного человека Центральную Африку, родину «черной Евы» (black Eve)[30]30
См. характерное название книги Филиппа Либермана «Ева говорила» (Eve spoke) [Lieberman 1998]. Но, очевидно, «политическая корректность» не дает возможности хотя бы задать вопрос – безусловно, автору данной книги небезынтересный: а Адам – что? молчал? Ведь именно он давал имена животным. Во-вторых, во многих трудах говорится о переходе первоговорящих людей из Центральной Африки в Европу, где они столкнулись с неандертальцами. Но как тогда объяснить цвет кожи европейцев и африканцев?
[Закрыть].

Примерную картину (в буквальном смысле) хронологии развития артикуляторного аппарата и речи удобно представить по иллюстрации Констанции Холден [Holden 1998: 2] (см. илл. на с. 62).
Но, как замечает К. Холден [Holden 1998: 282], «thereby hangs a mystery». А именно: в Центральной Азии люди десятки тысяч лет сосуществовали с более «архаичными» неандертальцами. Возможно, что настало время «объединения культур» («socially shared meaning»), которое потребовало создания языка. Известно, что группы первых людей насчитывали примерно 150 человек.
Поэтому естественно, при таком разнообразии взглядов, что теории происхождения языка часто являются либо ничего не объясняющими (часто кажущимися «странными»), либо эволюционистскими, но, как будет показано далее, всегда стремящимися объяснить происхождение языка через некий параллельный (в принципе меняющийся от теории к теории) фактор Х.
Какие же теории можно перечислить (см.: [Boeree 2003])?
1) Теория «Мама». То есть потребность в контакте с близкими.
2) Теория «Та-та». Это потребность вокализировать движения тела. Так, предполагается, что бипедализм (примерно 5– 6 миллионов лет назад) привел к увеличению занятости рук, а протоязык повторял движения рук и начал комбинироваться с вокализацией.
3) Теория «Бау-вау». Язык имитирует звуки внешнего мира.
4) Теория «Пух-пух». Язык начинается с междометий, инстинктивных эмоциональных выкриков.
5) Теория «Yo-heave-ho». Язык восходит к ритмическому пению, производимому во время тяжелой работы.
6) Теория «Динг-донг». Язык возникает тогда, когда человек находит связь между обликом вещей и набором звуков.
7) Теория «Синг-сонг». Язык рожден игрой, смехом, ухаживанием.
8) Теория «Хей, вы!». Люди нуждались в контакте и потому заявляли «Вот я. Я с вами».
9) Теория «Хокус-покус». Язык восходит к магическим звукам, магии контакта с животным миром.
10) Теория «Эврика». Язык был внезапно открыт. Некие предки осознали, что можно через звуки обозначать вещи. См.: «Humanity does not construct language, it finds it’» [Tassot, 1988: 3].
Но и в этом случае автор кончает самыми простыми вопросами, а именно: когда же язык возник? В начале существования человека, то есть 4—5 миллионов лет тому назад? Или с появления современного человека, кроманьонца, – примерно 125 000 лет назад? Говорил ли неандерталец, который имел мозг больше нашего, но голосовую полость выше – как у обезьян?
Но все эти перечисленные выше теории довольно давние.
Наиболее современные подходы к раннему состоянию и эволюции языка отражены у четырех авторов, на которых больше всего ссылаются. Это Дж. Айтчинсон (J. Aitchinson), А. Кэрстэйрс-МкКарти (A. Carstairs-McCarthy), М. Таллерман (M. Taller-man) и Т. Дикон (T. W. Deacon)[31]31
Разумеется, число авторов, интересующихся происхождением языка, и число предлагаемых ими теорий растет сейчас в геометрической прогрессии. Поэтому мы не считаем возможным и допустимым превращать настоящую монографию в обзорную, хотя и считаем, что описание партикул и идеи первоэлементов языка связаны глубоким образом.
[Закрыть].
Дж. Айтчисон [Aitchison 2000], рассматривая эволюцию языка параллельно с развитием психологии и антропологическими изысканиями, соглашаясь с африканским происхождением протогуманоидов, стоит твердо на эволюционистских позициях. Но начало коммуникации она видит в чем-то, что можно назвать внутренним «ясновидением» (mind-reading; ’naming insight’). Отражают воспринимаемые концепции некие «mirror neurons» («зеркально отражающие нейроны»). Таким образом, по ее мнению, протоязык, предшествующий языку человека-потомка, был чем-то принципиально отличным от позднего языка. Но, как считает Дж. Айтчисон, некоторые черты прежнего протоязыка мы можем видеть в языке современном. И это последнее ее утверждение очень для нас важно.
А. Кэрстэйрс-МкКарти [Carstairs-McCarthy 1999—2000] – автор книги «Истоки языка во всей его сложности» («Origins of complex language»). Занимаясь ранее формальным описанием языковой морфологии, он пришел к выводу, что семантика возникает для того, чтобы реализовать звучание: «Yet my work on inflectional morphology led me to wonder whether, in some real sense, things may be other way round: meanings exist in order to provide something for spoken words to express» [«И вcе-таки мои занятия морфологией заставили меня прийти к мысли о том, не совершается ли, на самом деле, нечто обратное тому, к чему мы привыкли: смыслы существуют для того, чтобы произнесенные слова могли нечто выразить»]. А. Кэрстэйрс-МкКарти видит в языке три определяющих его особенности: 1) объем словаря; 2) бинарную организацию моделей; 3) отличие высказывания как такового от группы NPs. Сам же он (глава пятая его книги) приходит к выводу, что синтаксис мотивирован фонологией, которая, в свою очередь, вызвана к жизни опущением ларинкса у наших предков-гоминидов. А опущение ларинкса также есть факт, обусловленный началом бипедализма, то есть прямохождения. Таким образом, по мнению автора, истоки синтаксиса лежат в слоговой организации[32]32
Напомним, что об изоморфизме между слоговой структурой и структурой высказывания писал еще около шестидесяти лет тому назад Е. Курилович. Однако в те, структуралистские, годы эти идеи и трактовались, и обсуждались с совершенно иных позиций.
[Закрыть]. Книга А. Кэрстэйрс-МкКарти вызвала много откликов и много рецензий. Наиболее критичным был отзыв известного исследователя языковой эволюции Д. Бикертона, само название которого уже достаточно красноречиво: «Calls aren’t words, syllables aren’t syntax» [«Выкрики – это еще не слова, слоги – это еще не синтаксис»].
Очень обстоятельная работа Т. Дикона [Deacon 2003] направлена на демонстрацию сложности и комплексности языковой эволюции, которая никак не может объясняться одной какой-либо причиной. Т. Дикон выступает против нативистской теории Н. Хомского и его последователей, по которой язык дан человеку изначально. Неслучайно, пишет Т. Дикон, по отношению к языку употребляются термины change и drift, то есть язык изменяется и движется. Он и сам по себе – эволюционирующая сущность. Но он эволюционирует вместе с эволюцией мозга. (См. єго более раннюю работу: Brain-language coevolution, 1992.)
Широко цитируемый сборник, подготовленный Мэгги Таллерман [Tallerman 2005], собрал вокруг себя самых известных исследователей, занимающихся вопросами происхождения языка и его ранней эволюцией. Правда, его цельности несколько мешает «по-уровневая» в современном лингвистическом смысле постановка вопроса, а именно: ставится вопрос, как возникла морфология, как возник синтаксис, хотя наиболее важными были статьи, освещающие проблемы возникновения дискретности как основного фактора языкового существования (P. – Y. Oudeyer, M. Studdert-Kennedy et al.). Сама М. Таллерман опубликовала статьи, исследующие синтаксис современный в сопоставлении с протосинтакисом. В этом же сборнике опубликована статья уже упомянутого А. Кэрстэйрс-МкКарти и ответ на тот же вопрос самой М. Таллерман.
В отечественной науке последних лет в этом отношении выделяется интересная работа А. Г. Козинцева [Козинцев 2004], где, кстати, содержится внимательный обзор последних исследований о происхождении языка. Существенны выводы этой статьи:







