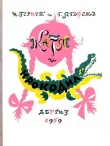Текст книги "Седьмая симфония"
Автор книги: Тамара Цинберг
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
12
Катя медленно шагала по крутым, грязным, выщербленным ступеням. Да она никогда не кончится, эта чертова лестница. Может, это уже чердак? Но это как раз и оказалась квартира 18.
Из-за двери слабо доносился звук пилы. Катя встала на цыпочки и с усилием дернула круглую ручку старого звонка. Слабый, дребезжащий звук задрожал там, внутри, – и замер.
Катя прислушалась. В наступившей тишине снова стал слышен звук пилы.
Она терпеливо ждала.
Наконец из-за двери раздался негромкий женский голос:
– Кто там?
– Мне к Трифонову, – сказала Катя, – меня управхоз послал.
Дверь медленно приоткрылась, и в образовавшейся темной щели Катя увидела внимательно уставившийся на нее глаз. Ей видна была только часть лица стоящей за дверью женщины – маленькой, с узким, недобрым лицом, закутанной в грязный шерстяной платок. Женщина молчала, подозрительно рассматривая Катю.
– Мне Трифонова надо видеть, – повторила Катя. – Дома он?
Ничего не отвечая, словно не расслышав ее слов, женщина продолжала рассматривать Катю. Потом она приоткрыла дверь немного шире и неохотно пропустила ее.
Катя нерешительно вошла в большую полутемную кухню.
Видно было, что этой кухней давно никто не пользуется, через нее только проходят. Большая, пустая, мертвая плита – странно подумать, что когда-то ее топили, что на ней варилась еда. Мертвая раковина, мертвый кран, из которого давно не идет вода. Нет ни табуреток, ни кухонного стола…
В углу у окна широкоплечий человек в ватнике и ушанке пилил кухонную полку. Он даже не взглянул на вошедшую девочку и медленно продолжал пилить, согнувшись и придерживая доску левой рукой.
– Это вы Трифонов, что ли? – спросила Катя, слегка оробев.
Человек в ватнике, по-прежнему не глядя на нее и не прекращая своей работы, проговорил негромко и равнодушно:
– Я Трифонов.
– Меня к вам управхоз прислал, – быстро заговорила Катя. – Мы в пятую квартиру въехали, из разбомбленного дома. Управхоз сказал, что вы делаете печурки. Там нет печурки, в этой квартире.
– Триста граммов, – негромко сказал Трифонов, все так же продолжая пилить.
Катя испуганно взглянула на него. Она отлично поняла смысл его слов, но все же переспросила упавшим голосом:
– Чего… триста граммов?
Трифонов молча продолжал пилить. Пила мерно двигалась, все глубже вгрызаясь в доску. Взад-вперед, взад-вперед. Жена Трифонова, стоя у пустой плиты, проговорила со злостью:
– Хлеба триста граммов! Чего…
– Нет у меня хлеба, – тихо сказала Катя.
– Ну и иди себе, если нет, – ответила женщина.
Катя подошла ближе к Трифонову.
– У меня нету хлеба, – повторила она, тихо, но раздельно и очень внятно произнося каждое слово. – Вы же сами понимаете, – где я его возьму? Мы не можем совсем не есть, у меня брат маленький. Я вам деньгами заплачу, вы скажите, сколько.
Она достала из внутреннего кармана старый мужской бумажник и вытащила из него деньги.
Трифонов, не глядя на нее, продолжал пилить.
Катя растерянно взглянула на его неподвижное, равнодушное, словно застывшее лицо.
Тогда он сказал:
– А на что они мне? Печку растапливать, что ли, твоими бумажками?
– Ну, иди, иди, – быстро сказала женщина. – Нечего тебе здесь делать. На деньги мы не продаем. Иди отсюдова.
– Не пойду! – крикнула Катя с отчаянием и злостью. – Нам невозможно без печки! Там всю зиму не топлено, а печь – как дом. Нам же не выжить так!
Женщина сказала:
– Ну и не выживайте. Нужны вы очень.
– Нужны! – яростно крикнула Катя. – Нужны. Все нужны!
– Ну, хватит, – сказал Трифонов. – Мы тоже выжить хотим, а разве на пайке выживешь? Иди, довольно разговаривать. Сказал тебе: триста граммов. Нет, так иди. И все.
Он сказал это очень спокойно, не повышая голоса, не подымая головы. Полка была уже почти перепилена, пила уходила в нее все глубже – взад-вперед, взад-вперед… Все тот же унылый, мерный звук.
Катя притихла. Ее покрасневшие от холода руки все еще сжимали мятые ассигнации.
– Вы, может, думаете, у меня денег не хватит? – сказала она каким-то усталым, внезапно охрипшим голосом. – Вы скажите, сколько. Сколько скажете, столько я заплачу. Я вам сейчас дам, сколько есть, а третьего я пенсию получу и все остальное отдам.
Трифонов молча продолжал пилить. Все так же размеренно, так же медленно.
Потом, по-прежнему не глядя на нее, он спросил равнодушно:
– За отца пенсия?
– За отца, – ответила Катя.
Очень тихо было в этой пустой полутемной кухне, только слышался все тот же унылый звук пилы.
Катя стояла молча, невольно глядя на его большие рабочие руки, на мерно движущуюся пилу. Ножовка совсем погрузилась в глубь доски. Взад-вперед, взад-вперед.
Вдруг доска, распавшись на две части, с грохотом упала на пол.
Катя вздрогнула.
И тут она услышала, как Трифонов сказал:
– Дай ей печку, Пелагея.
13
А он все тянется, этот бесконечный день. И когда кажется, что силы совершенно иссякли, он ставит новые задачи, и одновременно с этим откуда-то берутся и силы, чтобы эти задачи разрешить. Обыкновенные, будничные задачи, но на них требуется столько сил, что, кажется, при других обстоятельствах их хватило бы на полжизни.
Катя тихо идет по пустому темному чердаку. Деревянные переборки, раньше делившие его на части, теперь сняты, и он кажется бесконечным. Тусклые полосы света тянутся из выходящих на крышу полукруглых окон. Попав в такую полосу, Катя медлит, в темное пространство она вступает, как в воду.
В конце концов выясняется, что он все же не бесконечен, этот чердак, и что там, в глубине, под толем, действительно лежат доски. Катя выбирает две короткие толстые доски и, взвалив их на плечо, медленно идет обратно. Войдя в полосу света, она останавливается и, прислонив свои доски к стене, подходит к чердачному окну.
Далеко внизу, плавно заворачиваясь влево, лежит замерзший, засыпанный снегом канал.
Ни живой души не видно там, внизу. Тихо и пусто. Ни людей, ни машин, ни даже птиц. Все мертво и покрыто снегом.
Но вот вдали, на мосту, появилась маленькая черная фигура. Медленно, с усилием продвигаясь вперед, человек тащит санки, на которых стоит привязанное к ним ведро. Он такой крошечный, когда глядишь на него отсюда. Держась руками за край окна, вся вытянувшись, Катя долго провожает его взглядом.
Час спустя Катя подошла к дверям булочной и, не обращая внимания на очередь, стала протискиваться внутрь. «Куда лезешь!», «Ты чего без очереди!» – раздались сердитые голоса. Но Катя продолжала пробиваться вперед.
– Ладно. Не орите, – проговорила она спокойно. – У меня ребенок один дома. – И, добравшись до прилавка, сунула свою карточку. – На два дня!
Когда, вернувшись к своему новому дому, она медленно подымалась по лестнице, из квартиры на втором этаже вышла невысокая девушка и с любопытством посмотрела ей вслед.
– Ты что, там живешь? – спросила она.
– Ну да, – коротко ответила Катя.
– Когда же вы въехали?
– Сегодня. Мы тут в пятой квартире теперь будем жить.
– А, там профессор жил. Вам что, всю квартиру дали?
– Да нет, одну комнату. Я тут с братом, только он маленький еще.
– А красиво у них там в квартире?
Катя уже стояла на верхней площадке и вынимала из кармана ключ.
– Зайди посмотри, – сказал она равнодушно. – Тебя как зовут?
– Женя, – ответила девушка и поднялась наверх.
Как только Катя открыла дверь и они вошли в темноту передней, сразу стало слышно, как в комнате тихо скулит ребенок.
– Пищит, бедняга, – сказала Катя с огорчением. – Все один да один. И не ел ничего.
Митя сидел в том же кресле, куда его посадила Катя. Он все еще был в шубе и шапке, на ногах у него лежало одеяло и Катин клетчатый платок. Когда Катя подошла к нему, он сразу замолчал и, подняв голову, серьезно посмотрел на нее.
– Ну вот, теперь все в порядке, – сказала Катя, снимая с него шапку. – Сейчас печку приладим. Видел, какая печка? Я хлеба принесла, и у нас еще четыре конфеты есть. Кипяток согреем!
Женя, быстро осмотрев все вокруг, подошла к ним.
– Это Сережа, – сказала Катя.
К комнате сгустились сумерки, но у окна, где сидел мальчик, было еще почти светло. Бледное лицо ребенка, обрамленное грязным, сползшим набок платком, казалось совсем прозрачным, большие глаза глядели устало и равнодушно.
Женя посмотрела на него без особого любопытства. Легкая гримаска сомненья скривила ее губы.
– Эх, совсем он у тебя плохой, – заметила она спокойно. – Наверно, и не ходит уже. Ему сколько?
– Скоро три года будет, – сказала Катя и вдруг, поняв не только смысл сказанных Женей слов, но и смысл того тона, каким они были сказаны, быстро повернулась и спросила с испугом:
– Почему плохой?
– Слабый очень. У нас у соседки прошлый месяц тоже девочка умерла. Вот так же ходить перестала, все лежала, вот как твой. Хочешь, я у нее для тебя какие-нибудь вещи спрошу – ей теперь ни к чему. Сейчас кому они нужны, детские вещи, – ни продать, ни сменять.
– Спроси, – сказала Катя коротко, – у него ничего нет. Одно одеяло.
– Только не жилец он у тебя, – добавила Женя равнодушно.
– Кто не жилец? – тихо и угрожающе спросила Катя.
– Да твой.
– Неправда! – крикнула Катя с такой внезапной силой, что Женя невольно попятилась. – Жилец! Ну и что, что у вас там девочка умерла? А мой не умрет! Не слушай ее, Сережка! «Не жилец», – повторила она, передразнивая Женю. – Сама ты не жилец! Да он тебя на сто лет переживет, если хочешь знать!
Послышался отдаленный орудийный выстрел. Митя повернул голову к окну, и Катя тотчас заметила его движение.
– И их не слушай! – закричала она с яростью. – Пусть стреляют! Плевать нам на них! Они все тут передохнут, фашисты проклятые, их всех, как собак, закопают, а мы все будем жить! Вот увидишь. И ихний Гитлер подохнет, и могилы от него не останется, а ты будешь жить! И будешь в школу ходить, и по Невскому гулять! И играть в футбол… И кушать пирожные!
14
Наконец наступает вечер. Катя опустила маскировочные шторы, и в комнате стало темно. Но печурка уже прилажена с помощью вставленной в печь самоварной трубы, и в ней пылает огонь. И освещенные этим огнем, согретые и утешенные его живительным теплом, сидят перед печкой Катя и Митя.
Они сидят на поду, на снятой с дивана подушке. Мальчик наконец раздет. На нем вязаная кофточка и длинные лыжные штанишки. Полусонный, он задумчиво глядит в огонь, прижавшись к Кате белокурой головой. Катя очень устала. Она сидит без движения, охватив колени руками, наслаждаясь покоем и теплом.
На высоком шкафу, стоящем перпендикулярно к стене и обращенном к детям торцовой стороной, стоит мраморная копия античной скульптуры. Это голова Гермеса работы Праксителя. Слабо освещенный колеблющимся светом печки, почти живой от смены света и теней, скользящих по его лицу, он смотрит вниз с едва заметной улыбкой.
Нет, он вовсе не казался чужим или лишним в этой промерзшей комнате, в блокированном городе, среди лишений и тревог. В самой красоте его, дошедшей до нас сквозь века разрушений и варварства, таилось что-то, несущее надежду и призывающее к стойкости.
Катя только сейчас заметила его. Она не знает, кого изображает стоящая здесь скульптура, не знает, кто ее создал. Но эта благородная красота невольно трогает ее детское сердце. К тому же ведь он единственный, кто живет теперь с ними в этой пустой квартире. И, закинув голову, она задумчиво смотрит на него.
15
Так они идут, эти короткие зимние дни, до самых краев наполненные непосильным трудом, страхом, надеждой и мужеством. Каждый прожитый день – это выигранное сражение, маленькое, незаметное, бескровное, но часто кончающееся смертельным исходом. Но вот он отвоеван, еще один день. Он все-таки прожит, он прошел, присоединился к ряду других прожитых дней, превратился в воспоминание.
И снова наступает вечер. Снова опускаются маскировочные шторы. Слабый желтый свет коптилки – потому что у них уже есть и коптилка – падает на угол письменного стола, на котором стоят две алюминиевые миски.
Перед одной из них сидит Митя Воронов. На стул что-то подложено, чтобы ему было выше, но его подбородок все же едва возвышается над полированным краем стола.
Он сидит совершенно неподвижно, он весь ожидание. Катя медленно отрезает от небольшого куска хлеба два тоненьких, ровных, совершенно одинаковых ломтика. Нужно многое вытерпеть, чтобы научиться так аккуратно резать хлеб.
Светлые глаза мальчика неотрывно следят за движениями ее рук. И, поймав этот упорный взгляд, Катя, помедлив, отрезает еще ломтик. Остальной хлеб она снова завертывает в бумагу. Потом она идет к печурке, осторожно неся на ладони эти драгоценные куски.
Хлеб – бесценное сокровище. Маленькие нежные пальцы Мити собирают вместе несколько крошек, оставшихся на гладкой поверхности стола. Они легко прилипают одна к другой, эти мокрые, липкие крошки, и ребенок осторожно засовывает их в рот.
Катя возвращается к столу и кладет на его блестящую поверхность три подсушенных на печурке ломтика хлеба. Один из них она делит пополам и кладет у каждой миски по полтора куска.
Когда она снова отходит, Митя, весь вытянувшись, достает нож и неловко, с большим напряжением, разрезает свой хлеб на маленькие неровные кусочки. Он медленно раскладывает их около себя, совсем маленькие, слегка подгоревшие квадратики хлеба.
Катя ставит на стол закопченную кастрюльку и наливает в миски жидкий дымящийся суп, старательно делит поровну жидкое и гущу. Митя греет у стенок миски свои маленькие замерзшие руки, внимательно следя за каждой ложкой, которую Катя ему кладет.
Потом очень медленно, не замечая больше ничего вокруг, он начинает есть свой суп.
Катя садится напротив. И тут она видит на гладкой поверхности стола его мелко нарезанный хлеб.
– Опять! – восклицает она с отчаянием и болью. – Не смей так делать, крохобор несчастный! Ешь как человек. Нельзя так… Как нищий…
Митя перестал есть. Он снова застыл, съежившись над своими кусочками. Он не понимает, почему она сердится, но неясное чувство унижения пригибает его все ниже. И он тихо плачет, совсем беззвучно – неподвижный, сжавшийся в комок.
– Ешь, ешь, ведь стынет, – тихо говорит Катя, и нестерпимое чувство бессильной жалости охватывает ее с небывалой силой.
– Ешь, Сережа, – добавляет она совсем неслышно и придвигает к его мисочке свою половинку хлеба.
И он снова начинает есть свой суп. Слезы еще текут по его лицу, но он их уже не замечает. Он не замечает больше ничего на свете. Он очень счастлив. И он ест как можно медленней, чтобы продлить свое недолгое счастье.
16
Ослепительный день. Март тысяча девятьсот сорок второго года.
По обе стороны Литейного моста лежит Нева – великолепная, широкая, мертвая, закованная льдом, засыпанная снегом.
Огромное небо расстилается над ней – бесконечное, сияющее, пустое. Яркое солнце пылает на нем.
Все бело́ и все оледенело.
С Нижегородской улицы, подымая снежную пыль, стремительно выехал грузовик. Перед Литейным мостом он затормозил, и высокий военный в полушубке, с заплечным мешком в руках, легко спрыгнул на снег. Дверца кабины распахнулась, и молодой парень в ушанке крикнул, наполовину высунувшись наружу: «Что, лихо? С тебя причитается!»
– Ладно, пол-литра после войны, – улыбаясь, ответил военный.
Парень рассмеялся, захлопнул дверцу, и грузовик, повернув на Арсенальную набережную, быстро скрылся из глаз.
А Алексей Воронов остался стоять перед Литейным мостом – высокий, худой, светлоглазый человек. Несколько минут он стоял совершенно неподвижно, пораженный в самое сердце этой немотой, этим безлюдьем, этой сверкающей и мертвой белизной.
Он уехал из города десять месяцев назад, в конце апреля сорок первого года. Уехал в командировку, веселый, полный всевозможных планов, уверенный, что через два месяца он снова вернется в Ленинград. А через два месяца он уже воевал, уйдя на фронт в первый же день войны из Петрозаводска, где был в командировке. И все это время он отчетливо помнил тот предпраздничный, весенний, довоенный Ленинград, каким он видел его в день отъезда. Оживленную толпу на широкой, залитой солнцем улице, цветы на перекрестках, улыбки женщин, веселый крик детей. Эту многоликую жизнь, полную движения и шума.
И вот теперь он стоит один перед Литейным мостом. Тишина и пустота окружают его.
Внезапно над его головой раздался спокойный женский голос: «Мы передаем Седьмую симфонию Бетховена. Часть вторая. Аллегретто. Трансляция производится по записи». Воронов взглянул вверх. Из установленного на фонарном столбе черного раструба репродуктора раздались первые звуки знаменитого аллегретто.
Он постоял еще с минуту, потом надел свой заплечный мешок и медленно пошел по направлению к мосту.
Взойдя на мост, он снова остановился. По обе стороны расстилалась широкая заснеженная гладь Невы. Щурясь от яркого света, Воронов долго, с пристальным вниманием смотрел на неподвижные, вмерзшие в лед корабли, на золотисто-розовый силуэт Петропавловской крепости.
Вдруг он заметил, что он уже не один на мосту. Маленькая, странно и громоздко одетая женщина, наклонившись и с усилием волоча что-то за собой, медленно шла ему навстречу. Он посторонился, отступив в снег, и на фоне опушенной снегом решетки проплыл темный силуэт закутанного, неподвижного человека, сидящего на чем-то низком, скользящем по земле.
«Детские салазки! Бог ты мой, ведь это детские салазки!» Вторая женщина, в ватнике и большом платке, идя сзади, поддерживала сидящего на санках человека.
Воронов провожал их взглядом, пока они не скрылись из глаз, свернув на Пироговскую набережную. Это ленинградцы. Сердце его сжалось. Это ленинградцы.
Трамвай, разбитый снарядом, застыл под давно засыпавшим его снегом; искрящиеся снежные гирлянды свисали с порванных проводов.
Мост кончился наконец. Впереди, на Литейном, видны были темные фигурки редких прохожих. Ему бы лучше было пройти там, но, в глубокой задумчивости, он, по старой привычке, повернул направо. Бесконечная, покрытая снегом набережная уходила в морозную даль; высокая фигура Воронова, казалась совсем маленькой в этом безграничном пространстве. Он шел теперь вдоль Невы по узкой, протоптанной в снегу тропинке.
Ворота Летнего сада были заперты. Он постоял перед ними, задумчиво глядя на этот пустынный сад, белый, недвижный, без дорожек, без статуй, – только снег, глубокий, ровный снег и черные, застывшие стволы деревьев. Волшебной красоты решетка – ее колонны, вазы, пики и цветы, – озаренная солнцем, осыпанная снегом, парила над ним в ослепительно синем, бездымном, ясном небе.
И мимо этой прославленной решетки навстречу Воронову двигался высокий черный человек. Да полно, человек ли это? Живые люди так не ходят. Человек из плоти и крови не может держаться так неподвижно. Словно посторонняя, механическая сила движет по белому снегу эту неестественную прямую черную фигуру. Он приближается. Он уже совсем близко. Воронов видит прямо перед собой его лицо, его глаза, глядящие на него невидящим взором.
Нет, нет! Такого лица не может быть у человека! Воронов стоял потрясенный. Он прошел через восемь месяцев войны. Но ни мертвые, ни умирающие не были так страшны, как этот живой.
Тот уже прошел, а Воронов все еще стоял, не в силах двинуться, боясь обернуться.
Но ведь надо идти! И вот уже Марсово поле легло перед ним необозримой пустыней.
Одна-единственная, узкая, чуть заметная тропинка шла через выступающее над снегом гранитное каре. Воронов медленно побрел по этой пустыне. Дойдя до угла гранитного надгробья, полузанесенного снегом, он остановился.
Их почти невозможно было различить сейчас, эти торжественные надписи, так хорошо знакомые ему с самого детства. Он смог прочесть лишь одну строку – внизу, у самой кромки снега:
НЫНЕ ПРИМКНУЛИ СЫНЫ ПЕТЕРБУРГА
Нет, он не был сейчас униженным, родной его город, который он любил такой неистребимой, страстной, ревнивой любовью, какой можно любить только живое существо. О нет, он не был униженным. Что-то гордое и даже надменное было сейчас в его блистательной красоте и что-то презрительное и грозное.
Сколько памятников и статуй было закрыто щитами, завалено мешками с песком, зарыто в землю, укрыто в подвалах, но произведения искусства, украшавшие город, были рассыпаны с такой неисчерпаемой щедростью, что они наполняли его и сейчас, покоясь, как бесценные сокровища, в этом ослепительном снегу.
И, словно насмехаясь над злобными ордами, залегшими вокруг сплошным кольцом, он гордо подымал к бездымному небу свои прославленные здания, арки, мосты, ограды, статуи – воспетые поэтами, исцарапанные осколками снарядов.
Обо всем этом думал усталый человек, медленно шагая по направлению к Инженерному замку. И здесь, на мосту через Мойку, прислонившись к решетке, наполовину погруженной в снег, подняв лицо к репродуктору, из которого лилась щемящая и прекрасная музыка Бетховена, он понял до конца всем своим существом, что этого города врагу не взять никогда, и, может быть, именно потому, что, обороняя его из последних сил, они сражались здесь за все высокое и прекрасное, на что способен человек.
И тут впервые, еще неясно, стороной, прошла в его сознании странная мысль, что в этой страшной борьбе они – советские солдаты – сражаются здесь в конечном счете также и за душу этого народа, этих немцев, залегших там, в снегу, – их испоганенную, изуродованную, опозоренную фашизмом душу.
Он снова идет, теперь уже быстрее, пересекая улицы, минуя площади и сады, переходя мосты, углубляясь в переулки.
Бронзовый святой между колоннами собора протягивает обрубленную руку. Осколок снаряда попал ему в грудь, черное отверстие зияет как смертельная рана.
Но тот, кто лежит навзничь у ступеней собора, – разве он тоже изваян из бронзы? На голове у него ушанка, плотно завязанная под подбородком, сквозь запорошивший его снег еще видно черное пальто. Нет, так не одевают святых и воинов, украшающих соборы и дворцы. А может быть, святые и воины одеваются сейчас именно так?
Снег лежит не тая на его потемневшем лине, в орбитах глаз, во впадинах щек. Из снега приподнята окоченевшая рука; темные пальцы кажутся черными среди сияющей белизны. Видно, кто-то снял с этой руки уже не нужную рукавицу.
Воронов идет теперь быстрее; он пристально смотрит и запоминает навсегда все, что открывается сейчас его взгляду.
Стена дома, развороченная ударом снаряда. Женщина, с непосильным трудом подымающая ведро. Наклонный щит у витрины магазина. Очередь, безмолвно прижавшаяся в стене. Окно, забитое фанерой. Баррикада из железных ферм, перегораживающая узкую улицу. Снег. Оборванные провода. Снег.
Он стоял перед развалинами своего дома.