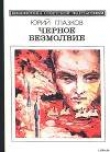Текст книги "Дверь с той стороны (Сборник фантастических рассказов)"
Автор книги: Святослав Логинов
Соавторы: Сергей Снегов,Ольга Ларионова,Александр Шалимов,Виктор Жилин,Леонид Смирнов,Игорь Смирнов,Андрей Измайлов,Артем Гай,Марк Гордеев,Леонид Агеев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Парижские диалоги за неделю до описанных событий
Утро
– Бобби? Наконец! Я не могу дозвониться до тебя уже два часа.
– Мирей? О-гоу! Май литл герл, девочка! Не ждал, рад, счастлив, готов, эт цетера, эт цетера. Откуда, дорогая?
– Из Парижа, естественно. Ты мне срочно нужен.
– О-гоу! Королеве понадобился Бобби, и вот он уже счастлив вдвойне…
– Бобби, это серьезно.
– О'кей. Но кажется, я еще женат… Однако, когда ты в Берне? Дневным?
– Нет, Бобби, вечерним ты в Париже.
– У меня там, кажется, нет дел. Теперь я торгую преимущественно в Центральной Европе, к сожалению. О, Париж! О, Мирей!..
– Я звоню по твоим торговым делам, между прочим. Сделка может оказаться сверхвыгодной.
– Май диа, я уже не верю в такие сделки. Но чтобы встретиться с тобой… Прилечу вечерним и сразу позвоню.
Вечер
Мирей врубила магнитофон на полную громкость. Кассета какой-то сумасшедшей рок-группы.
– Не оглохнем?
– Главное, чтобы оглохли возможные они, Бобби.
– Кто?!
– Ребята вроде тебя.
– О-гоу?!
– Не валяй дурака, Бобби, я знаю, что ты из ЦРУ. Когда-то, очень пьяный, ты сам сказал мне об этом.
– Да-а?.. Май диа, такие разговоры у порядочных людей не считаются.
– Не считаются, не считаются, Бобби. Однако к делу! Некто, похоже, изобрел средство от радиационной болезни. Пока эта версия стопроцентно не проверена, она немного стоит, но доказанная – она бесценна! Надеюсь, ты это понимаешь. Средство от рака по сравнению с этим – сентиментальная забава медиков и старичков. Эта штуковина может перевернуть мир.
– Стоп! Ты понимаешь, как здесь становится жарко?
– Проверь, Бобби! В каждом моем миллионе – твои двадцать процентов.
– Но почему именно мои?
– Такое дело можно доверить только серьезной фирме. Мне нужен весь пакет акций. Сенсация в полную собственность!
– Дело тут не в сенсации. Помолчали.
– Подумай, Мирей. Это из зоны большой политики. Самой большой. Это жернова. Тут ничего невозможно предвидеть. Поэтому хорошенько подумай, девочка. Это говорю тебе я, опытный торговец, Гайлар из Техаса – боевой парень. И пока ты не сказала мне «о-гоу!» – никакого разговора у нас не было. Она рассмеялась:
– О-гоу, Бобби! Проверяй. Источник информации – Луи Кленю.
Днем через два дня
– Мсье Луи, я к вам как представитель специальной комиссии ВОЗ. Прошу ознакомиться с моим мандатом. По письму господина Жиро.
– Де Жиро?!
– Да, мсье. Вам знакомо это имя?
– Конечно. А что за письмо?
– Знаете, нам пишут о чем угодно. Особенно охотно – о выдающихся методах лечения. Чаще всего это чушь, бред, непризнанные гении.
– И что вам написал Жиро? Как вам известно, я ведь не медик…
– Да, мсье. Жиро ссылается на вас, как на очевидца своего открытия или изобретения. Он прямо указывает на вас. Я все понимаю, мсье, и прошу учесть, что в данной конкретной ситуации я выступаю как неофициальное лицо. Хотя Всемирная организация здравоохранения имела право сделать официальный запрос в ваше ведомство.
– О господи!.. Видите ли…
– Шарль Грани, к вашим услугам, мсье.
– Видите ли, мсье Грани, по роду своей работы я не имею права ни на какие разговоры…
– Понятно! И тем более на действия, не так ли? Вот мы и решили не ставить вас в пикантное положение. Нам лишь нужно убедиться, что этот господин Жиро не сумасшедший, а то, что он пишет, хотя бы отдаленно соответствует действительности. Вот и все. Только в этом случае с ним смогут вступить в контакт компетентные люди. Честно говоря, мсье, я сам не медик и даже не знаю содержания письма. Я юрист.
– Ах, так…
– Да, мсье. От меня требуется лишь подтверждение, заметьте, даже не письменное: да, некий господин Жиро существует, и весьма известный специалист в определенной области сам видел его изобретение в действии. Вот, собственно, и все, мсье.
– Ну… Я не видел самого этого изобретения непосредственно…
– Не будем вдаваться в подробности, мсье, поскольку я, судя по всему, осведомлен меньше вас о содержании письма. Но – главное?..
– Да, мсье Грани! Я был потрясен.
– Благодарю вас, мсье. И не беспокойтесь. Ваше имя нигде не будет фигурировать. Если вы, конечно, сами этого не захотите.
– Ну что вы! Для меня это может оказаться плачевным. Но понимаете, де Жиро мой друг, это произошло случайно, по крайней мере, для меня…
– Я вас понимаю, мсье. О-гоу, за нас можете решительно не беспокоиться. Ну, какое дело ВОЗ до нарушенных вами инструкций?
В конце дня через день
– Только моя жена варила такой кофе…
– Еще чашечку, комиссар?
– Не откажусь, мадам. Знаете, не откажусь. Так вы говорите – ничего необычного вчера не заметили?
– Нет, комиссар. Я читаю допоздна. Слышу, как возвращаются все жильцы. Мадам Мирей обычно приходит поздно… Да, теперь уже – приходила. Какой ужас, господин комиссар, какой ужас! Она была очень славная, добрая и порядочная. В современном понимании, конечно. В наше время такая женщина была бы совсем другой. Я имею в виду стиль жизни, поведение…
– Возможно, вы правы, мадам, нравы быстро меняются, и не в лучшую сторону. Так вы говорите – она пришла не одна?
– Да, комиссар. Но знаете, ее приятели и приятельницы производили очень хорошее впечатление. А один, господин Луи, был определенно из высшего общества. Несомненно, еще тридцать лет назад это была бы совсем другая женщина. Если бы не этот ужасный век, могла бы стать второй Жорж Санд или Кюри… Она ведь была большая умница! Но в наше время люди серьезно задумываются только над тем, как заработать побольше денег. А когда люди не думают о жизни серьезно, это развращает. И знаете, комиссар, особенно развратили нас американцы. Это просто как злокачественная опухоль.
– Да, мадам. Насчет развращения вы правы. А кто с ней был в этот ее последний вечер, вы не знаете?
– Нет, комиссар. Но, поднимаясь к себе, мадам Мирей говорила весело. Это был кто-то из ее друзей… Ах, какой жестокий век, господин комиссар! Люди совсем потеряли жалость друг к другу. Что же это происходит, господин комиссар?
– Хм, мадам… Наверное, жизнь стала слишком быстрой. Люди едва успевают зарабатывать деньги.
– Ах, деньги! Старое заветное «не в деньгах счастье» совсем забыли. Сейчас даже бедняки не утешают себя этим, а берутся за нож или яд… Вы не допускаете самоубийства? Нет, нет, конечно, такая женщина, как мадам Мирей, просто не способна на такое. Она была удивительно жизнелюбива, общительна!.. Еще чашечку?
– Благодарю, мадам. Для моего сердца, знаете, достаточно.
– Куда мы катимся, комиссар, скажите мне? Катимся! Ведь люди сами создают свой мир, а кто же еще, мсье? Разве не так?
– Наверное, вы правы, мадам. Это очень мудро, но жизнь не считается с нашей мудростью. Она прет себе, ей-богу…
– Ах, мсье, вы говорите – она прет. Нет, это мы сами прем. Или, наоборот, лежим, как камни. Так и получается: одни прут, другие лежат. Мы, когда были молодыми, все больше лежали, и от этого вышло много бед. Тот же бандит Гитлер… А нынешние прут, но, кажется, не туда.
Комиссар рассмеялся:
– Мне с вами очень приятно беседовать, мадам, знаете… Но к сожалению дела. Если разрешите, я еще как-нибудь зайду к вам. А?
– Буду рада, мсье. Вы мне тоже очень понравились.
Жаркий месяц рамазан
Саня числился старшим механиком группы и был ее парторгом. Парень неторопливый и спокойный на грани флегматичности, но по самой физиологии своей натуры был чужд любой поспешности и суеты, а потому вставал на час раньше всех в «гостинице у Альбино», проделывал, невзирая на погоду – в жару ли, в дождливый ли сезон, – свои три километра привычной ленинградской трусцой, купался в речке, из которой после установки на берегу дизеля разбежались перепуганные крокодилы, и шел на кухню к повару-«люкс» за своим кофе и завтраком, когда остальные трое обитателей «гостиницы», хмурые, потные, невыспавшиеся, угрюмо брели только в душ, чтобы потом, уже опаздывая, хлебнуть кофе и на ходу изжевать, как лекарство, свою порцию обязательного, предписанного доктором из посольства соленого голландского сыра.
Саня являл собой нечастый, вероятно, образец человека, совместимого с любым коллективом в любой экстремальной ситуации. Внешность у него была наиблагодушнейшая: круглое простое лицо с кустистыми бровями Деда Мороза, квадратная мешковатая фигура, – но сколько самодисциплины и терпения!
В это утро Саня принес безрадостную весть: на их землю пришел большой праздник рамазан. А в неведении они оказались по собственной вине, потому что кто же не знает о большом празднике рамазан? Выяснением, на сколько запланирован пророком Мухаммедом этот праздник, Овечкин решил заняться завтра. Не хотелось смущать радостных хозяев своим невежеством. О том, что рамазан – один из месяцев мусульманского лунного календаря, он знал. И что благоверные мусульмане этот месяц будут питаться только по ночам – тоже. Но очень надеялся, что гулять-то они так долго не должны. Может быть, первый денек только? Навряд ли халифы, шахи, муллы и баи поощряли народное безделие…
Саня, как хороший взводный, организовал профилактику технике, чтобы не расслабиться ненароком в период религиозного праздника.
– А после обеда – кино.
– Заказываем «Белое солнце пустыни». Тематический прогон!.. Фильм этот знали наизусть, но все равно смотрели всякий раз с удовольствием, предпочитая всем остальным, что в железных коробках притихли в углу столовой. Может быть, потому, что чудеса храбрости, ловкости и неутомимости революционный солдат Сухов демонстрировал с шуточкой и улыбкой в знойных песках?..
Как там доставалось солдату Сухову в пустыне, можно было только догадываться, а тут после дождей стояла невыносимая духота. Казалось, в первый же день уразы Аллах решил серьезно проверить своих детей. «Но мы-то здесь при чем? – горестно думал Овечкин, роняя на чертежные листы капли пота и размазывая на исписанных страницах мокрыми пальцами засохшие чернила – И вот после всех этих мытарств приедешь домой красный, как вареный рак, сокрушался Овечкин. – А все небось ждут негра. Вообще не поверят, что человек год прожил в Африке…»
Шум и крики за окном отвлекли его от бумаг и невеселых мыслей. Овечкин неторопливо прошлепал к окну, прихватив полотенце, и стал наблюдать.
Внизу, у дверей амбулатории, несколько человек в шортах, определенно жители поселка, окружили парня в одной набедренной повязке и галдели, размахивая руками, а тот кричал что-то, обливаясь слезами. Наконец в дверях появился Оноре, долговязый, сутулый, с обвисшей от пота рыжей копной седеющих волос и утомленным лицом – просто дух уныния и только. Он стал что-то негромко втолковывать парню в набедренной повязке, но стоило ему замолкнуть, как всеобщий гвалт и крики парня возобновились. Доктор стоял подбоченясь и повесив голову на грудь. Сверху казалось, что он заснул стоя, как утомленная лошадь. В последние дни он, похоже, вовсе не ложился спать. Когда бы Овечкин ни проснулся, он слышал шаги, или скрип дверей, или какой-то шум в комнате, где стоял автоклав. Очевидно, Оноре работал как одержимый. Но над чем? Что это была за работа? Почему он так изнурял себя? Овечкин был почти уверен, что этот всплеск активности связан как-то с появлением в поселке коммивояжера. Но почему?!
Американец укатил через два дня на таком грязном автомобиле, что даже вблизи его кузов казался вылепленным из красной глины.
После памятной размолвки контакты Овечкина и Оноре сильно «пригорели». Они едва здоровались. В очередной уик-энд Оноре был занят своей загадочной работой и у бара не появился вовсе. Шьен примирительно махал Овечкину хвостом, следуя мимо за хозяином, словно говорил: «Нам теперь не до разговоров и вина, Жан…» Овечкину стало жаль доктора, и он крикнул:
– Что случилось, Оноре? Я не могу помочь?
– У парня что-то с женой после родов. Но разве их поймешь? Первая, единственная – и баста. Съездил бы, да мой «лендровер» сидит на двух ободьях. И два дня теперь никто за него не возьмется…
– О-о!.. – выл парень.
– О-хо-хо, медсен… Медсен нехорошо, нехорошо!.. Большой праздник нехорошо… Аллах видит… – галдела, обсуждала, просила и возмущалась неизвестно чем толпа – не то несговорчивым врачом, не то парнем, призывавшим его на помощь в большой праздник рамазан, когда Аллах особенно внимательно смотрит на мусульман и, значит, еще строже выполняет все, что начертал каждому.
Овечкин натянул шорты и спустился.
– А это далеко?
– Нет. Там, где вы брали камень.
– А, это действительно недалеко, – обрадовался Овечкин. – Километров восемь, меньше часа. Давайте на нашей.
Оноре морщился, хмурился, ему смертельно не хотелось ехать. Парень замолк и внимательно наблюдал за белыми, словно понимал их разговор.
– Надо съездить, Оноре.
Француз вяло махнул рукой и пошел в амбулаторию. Овечкин решил не отрывать никого от дела, оставил записку в столовой, и они поехали. Вчетвером. Шьен полез в кузов вместе с парнем очень неохотно: привык ездить в «лендровере» рядом с хозяином.
Деревушка располагалась на небольшой лесной поляне – несколько круглых хижин из сухих стеблей тростника лалы, который здесь называли слоновой травой. Вход в хижину – дыра, прикрытая циновкой, а за нею – длинный темный коридор вдоль наружной стены дома и дыра во внутренней стене через полкруга. Лабиринт от зверей и гадов. Овечкин, как строитель и ненавистник гадов, сразу одобрил идею. В их поселке хижины тоже были круглыми, но одноконтурными.
Внутри было много народу. На земляном полу посредине горел небольшой костер из трех поленьев, уложенных по-охотничьи торцами к центру, и старый седой африканец отрешенно сдвигал время от времени поленья к огню. Старуха кипятила воду. Больная находилась на одном из бамбуковых лежаков, что приткнулись к стене по периметру хижины. У другого лежака возилось еще несколько женщин.
Овечкин, переминаясь, стоял у входа, всеми забытый, и казнился теперь своим неуместным любопытством. Нечего было переться в хижину, где все заняты роженицей и новорожденным, просто неловко…
Оноре между тем закончил осмотр и говорил что-то окружившим его женщинам. Одна из них держала на руках ребенка. Оноре ласково, чем немало удивил Овечкина, похлопал малыша по ручонке, улыбнулся и пошел из хижины. Овечкин поплелся за ним.
Шьен сидел в кабине, заняв привычное место рядом с водительским. Яростное африканское солнце накаляло влажный воздух, как в хорошей парной. В голове стучало, словно туда переместилось сердце.
– Поехали, Жан. Через час мы начнем испаряться в вашей железной коробке.
– А как роженица?
– Обречена. Здесь это часто.
– Да что ты!.. – расстроился Овечкин. – Никак?..
– «Никак» тут не подходит, Жан.
Овечкин смотрел на него, открыв рот, не понимая. Возможно, просто дышал с трудом в этой парилке. Одним словом, выглядел довольно глупо.
– Я не понял, Оноре. Что значит «тут не подходит»?
– Ей нужна хорошая больница. Я бессилен.
– Ага, а больница?.. – обрадовался Овечкин.
– И притом быстро. Тогда, возможно, появилась бы надежда. Ну, поехали. Он обернулся к все еще улыбавшемуся парню и сказал что-то, кивнув в сторону хижины.
– Подождите, Оноре! – решительно сказал Овечкин. – Так мы отвезем ее в больницу.
Француз вроде бы даже присел, будто его неожиданно двинули сверху по голове.
– Куда вы собираетесь ее везти?
– В город, наверное. Ближе ведь нет?
– Вы спятили, Жан. Это больше двухсот километров, и половина – только название «дорога».
– Но ведь вы сами говорите, что иного выхода нет! – удивился Овечкин.
– Их помирают тут сотни, рожающих и родившихся. Понимаете, Жан, такая у них тут судьба.
– Какая судьба? У нас же машина…
– А в пяти километрах отсюда? А в десяти, в ста, в тысяче? Там же нет вашей машины! Сумасшедший… За восемь-девять часов пути она может три раза помереть. И вы вместе с нею на этой сковороде.
– Но может, мы ее спасем…
– А всех остальных?
– Что вы предлагаете? – с ужасом спросил Овечкин.
– Не валяйте дурака. Поехали.
Парень переводил взгляд с одного говорившего на другого. И наверное, понял. Складывая руки, как на очередном намазе, он горячо затараторил что-то, но Овечкин никого не видел уже и ничего не слышал.
– Я ее не брошу вот так, Оноре. Слышите?
– А остальных? А остальных?!
– И остальных! – крикнул Овечкин. – Я не могу с этим мириться, Оноре! Это… не по-человечески!
Солнце палило нещадно. Кучка африканцев молча стояла за спиной перепуганного парня. Что они думали об этих двух белых, чего ждали от них?
Оноре растерянно смотрел на Овечкина.
– Скажите им, чтобы собирали больную, – тихо сказал Овечкин и пошел к машине, голенастый, красный и несуразный в этих джунглях, действительно похожий на вареного рака в тропическом костюме.
Он сидел в тени «пикапа», устало вытянув ноги, и ни о чем не думал. Шьен поглядывал на него из кабины свысока. Потом пришел Оноре, сел рядом и закурил. Из деревушки доносились возбужденные голоса.
– Что там?
– Не хотят отпускать ее. Рамазан, и вообще…
– А муж?
– Он один…
Овечкин поднялся.
– Будьте осторожны, – сказал вдогонку Оноре. Потом тоже неохотно поднялся. Шьен выпрыгнул из кабины.
Больную положили в кузове на циновку, муж с калебасом воды и Шьен разместились рядом, и они тронулись в путь. Оноре молча курил, пуская тонкими струйками дым через окно в джунгли. Овечкин вел машину осторожно. Она раскачивалась, кренилась, ныряла в черные озерца, скрежетала железом по притаившимся в воде камням. Оба время от времени оборачивались и заглядывали в кузов.
– Я не поеду с вами в город, Жан. Не могу, дела. В джунглях было не так жарко, но духота сгустилась до того, что казалось, воздух можно резать ножом, как желе. А еще бы лучше – черпать
большой ложкой и куда-нибудь выбрасывать.
– Это два дня, которых у меня нет. Мне нужно торопиться. – Оноре словно оправдывался. Овечкин молчал. – И ей от меня никакого проку. А вам нужен напарник. По такой жаре одному не проехать.
И опять Овечкин промолчал.
– Вы меня слышите, Жан?
– А куда от вас денешься?
Оноре смотрел на него, а Овечкин – невозмутимо вперед на дорогу.
– Напрасно вы так, – сказал наконец устало Оноре.
– Почему же напрасно? Неужели до вас ничего не может дойти?
– А что до меня должно дойти? Может быть, это до вас никак не дойдет, что на этом огромном материке почти везде один врач на несколько десятков тысяч человек, что люди эти темнее своей кожи и нельзя быть донкихотами, хотя бы для того, чтобы постараться помочь по-настоящему не одному, а многим.
Овечкин прибавил ходу.
– Помогать и болтать – разные вещи. Почему они темнее своей кожи в конце двадцатого? – Он быстро смахнул рукой струившийся по лицу пот. – Почему они все безграмотны? Где их врачи, их собственные, а не вы, безразличные французы?..
– Вы не имеете права, Жан…
– Имею! Вы привычно готовы были бросить умирающего человека. Вы здесь сто лет и через сто лет говорите мне, что моя машина тут единственная на тыщи километров. Да это… Ч-черт знает что!..
«Пикап» подпрыгнул, перепуганно хрястнули амортизаторы, но ничего запрыгал дальше. Овечкин крутнулся, сморщившись, словно этот прыжок причинил боль ему, заглянул в кузов. Парень склонился над женой, обтирал ей тряпицей лоб.
– Не делайте меня ответственным за многовековую политику… – устало сказал Оноре.
– А за что вы, лично вы ответственны?
– Оставьте эту демагогию, Жан, – раздраженно сказал Оноре.
– Демагогия… Так же будет и с атомной войной. Не в ответе он, видишь ли, за политику… – не мог остановиться Овечкин. – Тараканы перепуганные, после вас хоть потоп!
– Послушайте, прекратите! Или я выйду!
– Нет, это вы прекратите! И я вас не держу. Вам торопиться, кстати, некуда. Одна собака и та с вами.
– Вы, оказывается, жестокий хам. А я-то считал вас добряком…
– Заблуждались… – Машину бросало в ямы, на ухабах Овечкин остервенело играл педалями, крутил рулем и головой, заглядывая все время назад, в кузов. Он был взъерошен, мокр и необычно возбужден. – Добреньких теперь им захотелось… Да я бы всех вас передушил собственными руками за этих несчастных африканцев! За сто лет не помогли людям хоть немного на ноги встать. Все «давай», «давай»! Хапуги паршивые! Что тут после вас осталось, кроме двух бетонных домов и нескольких рабовладельческих шахт? Постеснялись бы про доброту хоть говорить! Цивилизованная нация…
– Да что вы, ей-богу! – взорвался Оноре. – А вы несете ответственность за тех, кто после семнадцатого убит или бежал, за их детей и внуков, миллионы которых и сейчас шатаются по всему свету? За всех ваших арестованных и расстрелянных – несете? Вы лично, Жан де Бреби!
Овечкин ударил по тормозам, и машина загнанно ткнулась носом в очередную яму.
– Да! Я, Иван Овечкин, несу за это полную ответственность! Хоть я и не знал… И не потерплю больше рядом бездушного, и знаю: все, что у нас не так, – из-за меня! И дети мои будут такими же, провалиться мне на этом самом месте!.. А эту чертову машину я хочу купить для них же – чтоб не чувствовали себя хуже других!.. – Он кричал по-французски, вставляя русские слова и не замечая этого. По осунувшемуся лицу текли слезы, смешиваясь с потом.
– Успокойтесь, Жан, прошу вас… – бубнил ошеломленно, успокаивая его, как ребенка, Оноре. Он тоже был мокрый и дрожал, словно в ознобе. Они сидели в тесной кабине друг перед другом, потные, со спутавшимися на лбу волосами, и Оноре горячечно бормотал: – Да, да, я понимаю тебя… Я ведь тоже хотел бы… Я был бы счастлив… Однако… Ах, Жан!.. Чистая ты моя душа…
За стеклом, отделявшим кузов от кабины, лаял Шьен и маячило горестное лицо парня.
В поселке Оноре вышел, а за руль сел Саня. Они ехали не останавливаясь, ведя машину по очереди, восемь часов. И ночью еще живую женщину передали по записке Оноре заспанной негритянке в бело-голубом халате. Здесь же у больничной ограды, в машине, они завалились спать, не сказав за последние несколько часов друг другу ни слова, – Овечкин, Саня и парень-африканец.
В обратный путь собрались, пока не взошло жестокое африканское солнце. Столица неизменно отпугивала Овечкина своими раскаленными улицами. И хотя, отправляясь в город, он обязательно надевал пластмассовые босоножки, поднимавшие его длинными шипами сантиметра на четыре над сковородой семидесятиградусного асфальта, ощущение ненадежности этих защитных мероприятий не оставляло его. А сейчас без них… Прощание сонных мужчин было коротким.
– Рюс, – сказал парень, крепко пожимая им руки. – Абдулла. Спасибо.
– Абдулла хорошо. Друг, – сказал Овечкин на диалекте и по– русски.
– Друг… – повторил парень по-русски и улыбнулся: – Абдулла Друг!
«Ну, Миклухо-Маклай!» – смеялся Саня, выжимая по пустынному шоссе все, на что способен был их «пикап». До восхода на скорости духота была вполне терпимой. Они очень устали, но им было так легко и радостно, как, наверное, никогда еще в этой чужой стране.
Асфальтированную часть пути проскочили за час. Около полудня сделали остановку и пообедали (или позавтракали) неизменным соленым сыром и кофе из термоса, которые захватил, несмотря на спешку, предусмотрительный «взводный» Саня. На привале Овечкин узнал, что уже сутки его ждет корреспондент столичной газеты: очерк о развитии района, о технической помощи русских и все такое прочее.
«Рановато для очерка», – буркнул Овечкин, сам еще не понимая, что встревожило его в Санином сообщении. Позже, осторожно въезжая в заполненную водой рытвину, он вспомнил слова Оноре: «Ждите новых людей». Слова звучали несомненно угрожающе. Оноре опасался чего-то и предостерегал. От чего? «Они могут оказаться более опасными для вас». Время от времени Овечкин возвращался к этой фразе доктора, несмотря на то что она с самого начала казалась ему невероятной чушью. Чего ему, Овечкину, опасаться каких-то людей? Кого он здесь знает, кто знает его? На всем Африканском континенте не наберется и дюжины таких. Если бы опасность угрожала всей группе, тогда можно было бы понять: мало ли колониального отребья бродило еще по неспокойному континенту – всяких наемников, вооруженных банд, купленных, обманутых, натравленных, запуганных, – но чтобы ему лично…
В «гостинице у Альбино» ребята давно их ждали, открыли несколько баночек кетовой икры и крабов. Стол был праздничный.
«Атеистический вариант праздника рамазан», – определил Овечкин. Лицо осунулось, кожа стала серой, но он довольно потирал руки. Больше всего на свете он любил кетовую икру.
К себе Овечкин отправился, когда ненасытное солнце угомонилось наконец в джунглях.
В амбулатории горел свет, и, поднимаясь по лестнице, Овечкин слышал, как звенит и рассыпается там стекло. Похоже, Оноре бил посуду. Но сейчас Овечкину на все было наплевать. Он мечтал, как, завернувшись в мокрую простыню, плюхнется наконец под родной противомоскитный балахон, и еще на лестнице снимал рубаху. Но лечь сразу ему не удалось. Возвращаясь из душа, он застал в гостиной своих соседей в полном составе. Оноре стоял посреди комнаты в рубахе такой же мокрой, как простыня Овечкина, взъерошенный больше обычного и очень серьезный. Шьен, не менее серьезный, сидел рядом.
– Алло, Жан, есть новости… Вы довезли ее?
– Конечно, – довольно оскалился Овечкин.
Оноре хмуро кивнул:
– Вы молодчина. Так вот, посмотрите, все ли у вас на месте. У нас был основательный обыск.
– То есть как?.. – опешил Овечкин, продолжая улыбаться.
– Я же говорю вам: очень основательный. По крайней мере, у меня.
– Нет, но кто… Как это произошло?
– Посредством взлома замков. Собственно, у вас, по-моему, дверь не запирается. – И Оноре пошел к себе. Овечкин тупо уставился в его спину.
– Послушайте, а вы сообщили в полицию? Оноре обернулся.
– Забудьте здесь это слово, Жан.
– Но когда это могло случиться?
– Пока мы путешествовали по джунглям. Кстати, вы знаете, что тут появился журналист из столицы?
– Да.
– Он искал вас. Один раз я его уже выгнал. Вы виделись с ним?
– Еще нет.
– Он такой же журналист, как я французский президент. Вуаля. Установить, что у него проверяли даже книги, не составило Овечкину труда. Однако никаких пропаж не обнаружилось. Озадаченно почесав затылок, он ругнулся и полез под москитную сетку с твердым намерением с утра серьезно заняться наконец всеми этими, теперь уже возмутительными, обстоятельствами, включая загадочное поведение и намеки француза. Засыпая, слышал стук когтистой лапы Шьена, слышал, как Оноре запирает дверь внизу, потом в гостиной и – черт возьми! придвигает, кажется, к ней стол…
За завтраком в «гостинице у Альбино» Овечкин рассказал о случившемся. Все были озадачены. Местные жители о воровстве со взломом неизвестных им замков определенно не имели представления. Поражало наглое бесстрашие: ведь лезли днем, когда Оноре с Овечкиным на несколько часов покинули поселок. Действовали, конечно, профессионалы.
Всем было понятно, что центральная фигура в этой истории – француз, но поскольку никто ничего, кроме его приемов в амбулатории и уик-эндов с Овечкиным, об Оноре не знал (длительные отлучки на «лендровере» приписывали развлечениям в столице: французы не русские, в удовольствиях себе не откажут), то даже версий никаких не возникало. Только треп.
– Может, ревнивый муж ищет даренные жене подвески?
– Тогда надо найти мужа, пока он не замучил Овечкина…
Работы на строительстве благополучно возобновились, но теперь их продвижение сильно замедлилось, пропорционально замедленному движению сонных фигур на площадке. Хотя, по заверениям опытного Сани, успевшего уже построить что-то не то в Иране, не то в Афганистане, «здешний мусульманин совсем не тот», ураза соблюдалась довольно строго: ели, пили и веселились ночами исправно. Костры горели допоздна, отражаясь в темных водах реки, пугая зверей, сгущая и без того непроглядную черноту ночей.
Саня, верный своей генеральной линии, проводил атеистическую пропаганду с тонким учетом местных особенностей.
– У тебя сколько жен? – допытывался он у постящегося строителя.
– О, только две.
– А у твоего бога – триста.
– Откуда знаешь? – смеялся строитель.
– Не меньше. Иначе какой он бог? Так что днем он спит. Не сомневайся. Ты вон и то на ходу засыпаешь. Свободно можешь есть, не увидит.
И некоторые тайком брали шоколад.
– Э, шеф Овэ! – Пти Ма махала Овечкину рукой. – Подойди, поговори. Блестела белыми зубами. – Мне – тебе кое-что… – Говорила она с ним на удивительной смеси французского с диалектом при интенсивной поддержке мимики и жестов. «Мне – тебе» она произнесла тихо и серьезно, продолжая при этом улыбаться. Овечкин насторожился. – У твой дом – нехороший человек. Боюсь.
– Когда?
Она показала два пальца и махнула, словно бросая их за спину.
– А что за человек, Пти? Наш? Стройка? Поселок? Она крутнула головой. И все продолжала улыбаться. Овечкин понял, что она действительно боится.
– Где мой дом, жил. Ушел пиф-пиф… Много… – И опять словно бросила все пальцы обеих рук за спину.
– А где он? Ну, у кого он может жить? Здесь – где?
Пти Ма слегка развела руками. Посмотрела в сторону джунглей.
– Он был вооружен? – Овечкин тоже пытался изображать. – Пиф-пиф?..
Она пожала плечами. Потом, подумав, дотронулась до его рубахи и обвела руками вокруг своей набедренной повязки.
– Боюсь, Овэ. – И широко улыбнулась ему в лицо.
– Спасибо, Пти. – Овечкин растроганно пожал ей руку. – Не бойся, ничего со мной не случится. И больше не говори об этом никому. – Он приложил палец к губам, и она кивнула.
Бандит был вооружен?.. История принимала совсем паршивый оборот… Французу, несомненно, грозит большая опасность. И он знает о ней, но молчит. Может быть, эта опасность как-то связана с его занятиями? Но что же это?! Овечкин решил все рассказать наконец Сане и ребятам. Теперь он не сомневался в словах Оноре, что появление в поселке новых людей не случайно.
Саня внимательно выслушал, удивленно подняв кустистые брови.
«Ну, дела!.. Может, подождем ребят тревожить? А я тебя подстрахую?..»
На том и решили. И еще: серьезно поговорить с доком.
Корреспондент появился на строительной площадке перед обедом. Это был спортивного вида стройный негр, в белоснежной наглаженной рубахе, с часами-браслетом, небрежно болтавшимся на запястье. Овечкин как-то сразу уверился в том, что этот человек совсем не тот, за кого себя выдает. Настораживали и не очень характерные для журналиста мощные борцовские бицепсы, а возможно, сказалось и безапелляционное заключение Оноре: «Он такой же журналист, как я французский президент». По крайней мере, Овечкин решил использовать преимущество человека, знающего о собеседнике больше, чем тот предполагает. Однако вскоре он убедился, что ошибается.
«Корреспондент» и не пытался убедить Овечкина, что он тот, за кого себя выдает. Казалось, он использует маску совершенно открыто, как одно из условий игры. Но в том-то и была беда Овечкина, что ни условий, ни самой игры он не знал. «Корреспондент» о чем-то спрашивал, но ответов даже не слушал. Изучал Овечкина, бесцеремонно разглядывая его, как и Саню, и других ребят, появлявшихся время от времени в поле его зрения. Наконец Овечкин обозлился и сказал вызывающе: «Вот что, милый. Напиши перечень вопросов и оставь адрес. Мы ответим. Нет у меня времени тары-бары разводить. Адьё». И ушел, определенно удивив «корреспондента». Сыграй Овечкин инженера-простачка, этакого белого интеллигента в знойной Африке, – кто знает, может, все обернулось бы по-другому. Но очень уж не понравился ему «корреспондент». А тот понял, что парень перед ним крепкий, не трус и скорее всего бескомпромиссный. На языке сыска это, кажется, называется «расколол». А может быть, на языке сыскарей.