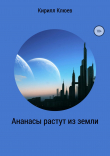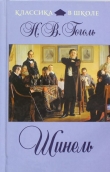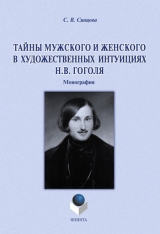
Текст книги "Тайны мужского и женского в художественных интуициях Н.В. Гоголя"
Автор книги: Светлана Синцова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Кульминацией таких метаморфоз образа Тараса становится его переодевание в костюм немецкого графа (мотив маски) и «реплика» Янкеля: «Это мы… это я… это свои!» (1, II, с. 159). Ее он говорит всем попадающимся навстречу полякам.
Но разрушение значений мужского гендера продолжается не бесконечно: до тех пор, пока гайдук-часовой не оскорбил веру пленных запорожцев. Не стерпел Тарас и бесстрашно встал на ее защиту, разоблачив себя, чуть не погубив и себя, и «товарища»-Янкеля. «Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретическую веру не уважают!» (1, II, с. 160).
Поскольку ранее был намечен своеобразный крах веры в товарищество и разочарование в ней, то сейчас у образа веры появляется некий новый смысловой оттенок – подлинности, истинности. Ведь теперь она основана на любви к сыну, на готовности принять за него любые муки, испытания, поругание, унижение (хождение Богородицы по мукам?..). Этот мотив слепой, безрассудной любви к сыну наиболее ярко проявляется в сцене казни Остапа, сообщая ей мистические значения распятия Христа и его последнего обращения к Богу-отцу на кресте.
Мучениям Остапа явно сообщены смысловые оттенки гибели за веру. Это однозначно читается и в обращении к товарищам («Дай же, боже, чтобы все… еретики не услышали, нечестивые, как мучится христианин!..»), и в описании самой казни, явно имеющей нечто общее с крестными муками («…стали перебивать ему на руках и ногах кости») (1, II, с. 164). Знак Христовых страданий даже введен в текст во фразе «когда подвели его к последним смертным мукам». А обращению к отцу предшествует описание смятения и «душевной немощи» (как у Христа, вопросившего, почему оставил его отец).
Поэтому ответ Тараса «Слышу!» звучит не просто из толпы, но и как бы с небес, нарушая тем самым логику развития евангельских ассоциаций. Но зато устанавливается нечто вроде связи-«моста» мужского гендера, его стойкости и силы, с небесным миром. Обнаруживается подлинная, а не ложная суть его веры: веры в сыновнюю и отцовскую любовь-преданность друг другу.
Эта любовь, скрытая в ней сила, стойкость, абсолютная свобода (от боли, мук, страха перед людьми), настолько превосходит даже материнскую («не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери») и женскую («или безумных воплей супруги»), что в женском гендере немедленно возникают сниженные оттенки значений.
Соединившись с мужским через свободный выбор Андрия, женское начало обретает не только защитников (Андрий, польские полковники, нарядные и воинственные шляхтичи), но и теряет свою утонченность, красоту, влекущее очарование. У него появляются отталкивающие черты, комичные, грубые.
Это отчетливо видно в описании толпы, пришедшей посмотреть на казнь. Здесь и набожные старухи, и трусливые молодые девушки, которые на следующую ночь «кричали спросонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар» (1, II, с. 162). Ими движет любопытство, заставляющее вспомнить об Афанасии Ивановиче, слушающем гостей…
Есть в толпе и молодой шляхтич, украшения которого (цепочки с дукатом) напоминают женские. Он весьма озабочен сохранностью шелкового платья своей «коханки». Его пояснения Юзысе по поводу происходящего на площади изобличают то ли ее абсолютную бестолковость, то ли полное отсутствие ума у молодого человека.
«Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики» (1, II, с. 163). Рыцари, толпящиеся вокруг пани, разбрасывающей пирожные и плоды, напоминают свору собак, ловящих добычу. Наконец, венчает описание образ сокола в золотой клетке…
Видимо, гибель Андрия – единственного достойного возлюбленного женского начала, воплощенного в образе красавицы-панны, – нанесла непоправимый урон женскому гендеру, исказив его красоту, уподобив женский неземной образ кривой роже Янкеля и нелепой позе, в которой он изображал возлюбленную Андрия. Утратив свою достойную «половину», женский гендер вынужден был вернуться к привычной «тактике уловления» мужского, надевая на него маски (молодой шляхтич в украшениях, как юный Андрий при первой встрече с воеводиной дочкой, рядившей его в свои украшения), кормя его «с руки» (Пульхерия Ивановна), содержа в золотой клетке (золото в наряде преображенного Андрия?).
Слабость женского гендера немедленно оборачивается укреплением мужского. Пройдя испытания, отрекшись от веры в «идола» (товарищество), он обрел подлинный и высокий смысл для приложения своих недюжинных сил. Такой целью его существования становится война за веру. «Известно, какова в Русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры» (1, II, с. 166). Не случайно вся нация (не только Сечь!) вдруг сплотилась и поднялась против шляхтичей, поругания храмов.
Отцовская любовь, лежащая в основе этой войны и веры («поминки по Остапу»), вновь преломилась в реальной жизни совершенно неожиданной гранью: чрезмерной и беспощадной свирепостью и жестокостью.
Особенно страдали от этой жестокости «чернобровые панянки». Их сжигали «вместе с алтарями» и кидали к ним в пламя младенцев. В свете аналогий женского мира с Девой Марией то, что делает Тарас, обретает отчасти сходство с деяниями царя Ирода.
В запале войны Тарас и его приверженцы вновь совершают грехи, за которые уже пострадали прежние «товарищи»: грабят, бражничают, разбойничают, лютуют. А все это отдаляет мужской гендер от его высокой мистической цели, низводит его высокую миссию отцовской любви.
Поэтому в образе Тараса вновь возникает оттенок ребячества (ищет любимую люльку в разгар сражения), дополненный значениями старости, потери сил и предельно сниженный сравнениями с вороной и собакой (1, II, с. 170). Утратив свое превосходство, мужской гендер сравнялся с женским и даже снова пленен им («сила одолела силу»). Ведь поляки – соотечественники и пособники панны, а один из преследователей Тараса – ее родственник.
Бульбе предстоит отчасти разделить участь Остапа: быть «распятым», но не на кресте, а на дереве и принять мученическую смерть. А еще его сожгут, как если бы он был еретиком.
Данный оттенок связан, очевидно, с вновь «воскресшей верой» в товарищество. Несколько раз повторяется это слово в финальных эпизодах повести, пока Тарас пытается способствовать спасению своих казаков. Его прощальная речь начинается с обращения «прощайте, товарищи!». Поэтому в пророчестве Тараса, что еще узнают поляки, «что такое православная русская вера», появляется смысловой оттенок возвращения и закрепления «еретической веры» в товарищество. А царь, который «подымется из Русской земли», вызывает воспоминания о некоем языческом царе, подобном жестокому Ироду, как сам Тарас…
Но тут же описание страшной смерти на костре рождает ассоциации с казнью Остапа, с крестными муками. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» (1, II, с. 172). Так Гоголь одним штрихом намекает на возможность нового обретения истинной веры в искупительных муках отцовской любви к сыну-Христу…
А неким символом новых бесконечных переходов «товарищества» («будущей весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте») и его искупления на подобии креста в муках отцовской любви-страдания становится образ Днестра. Им завершается повесть. По Днестру уплывают спасшиеся казаки, увозя с собой последние напутствия Тараса.
Таким образом, повесть «Тарас Бульба» выглядит своеобразным «зеркалом» по отношению к «Старосветским помещикам». Так, в первой повести «Миргорода» был развернуто представлен женский гендер, представлен, в первую очередь, через систему соответствующих знаков культуры. Исподволь этот гендер разрушался (как норами-подкопами диких котов). Вторая же повесть чрезвычайно детально представляет мужской мир XV века, мир казачества, Сечи, символизирующей дух свободы мужского гендера. Этот мир тоже подвергается испытаниям со стороны женских персонажей, побуждая мужские образы к трансформации, постепенному приобщению к некой тайной женской сути: Андрия – к иномирной чарующей красоте, где сходятся религиозное начало и искусство; Тараса – к безрассудной и жертвенно-самозабвенной любви к своему сыну.
Но такое постепенное сближение экзистенциально-мистических сущностей обоих гендеров и в первой, и во второй повестях скрыто «покровами» жизни. В «Старосветских помещиках» – бытом, привычкой, стереотипами человеческих взглядов и оценок. В «Тарасе Бульбе» – историческими событиями, былинным строем повествования, неожиданными поворотами событий.
По-прежнему одним из главных препятствий на пути к такому сближению мистических сущностей двух гендеров оказалось свободолюбие мужского. Это качество породило целую череду испытаний, побуждая мужской гендер (в образе Тараса) отказаться от «идолопоклоннической веры» в товарищество и обрести подлинную веру в любовь, которая сродни любви Бога к своему сыну.
Повесть «Вий»[32]32
Некоторые из интерпретаций данной повести представлены в обзорной части статьи Л.В. Дерюгиной (98, с. 326–327), Т.А. Грамзиной (82). Весьма занимает исследователей этнографический материал, возможно, легший в основу замыслов повести (Л.В. Пумпянский и др.).
[Закрыть], открывающая вторую часть цикла, становится очень важным этапом в «художественном исследовании» Гоголя наметившейся тенденции к сближению мужского и женского, неких взаимопревращений их экзистенциально-мистических сущностей.
* * *
Композиционно-смысловая структура повести «Вий» в самом общем плане напоминает бытовую повесть с двумя ключевыми эпизодами выхода в мистический план[33]33
Традиционно эту повесть рассматривают как проявление фантастического начала в творчестве Гоголя, у которого фантастическое неразрывно связано с бытовым.
[Закрыть]. Оба эпизода в смысловых потоках, связанных с гендерной проблематикой у Гоголя, можно сравнить с окнами и неожиданным «выскакиванием» в них из бытовых контекстов. Первая из таких сцен-«окон» – полет Хомы с ведьмой на плечах. Вторая, как бы сложенная из трех ночей, проведенных Брутом в церкви, завершается появлением Вия.
Каждый из таких выходов в мистический план почти не связан с бытовыми контекстами. И это, по-видимому, не случайно. Ведь в «Тарасе Бульбе» обыденная жизнь исказила, принизила, зеркально перевернула экзистенциально-мистические сущности мужского и женского. Поэтому некое «параллельное существование» обыденного и потустороннего планов в «Вие» должно было, очевидно, по замыслу Гоголя, устранить возможность их смешения, искажения.
Концентрация смысловых значений, связанных с дальнейшим развитием гендерной проблематики цикла, в двух указанных эпизодах повести во многом обусловлена тем, что вся динамика ее бытового слоя построена таким образом, чтобы оттенить и подчеркнуть абсолютную противоположность этих двух важнейших кульминаций. Сцена полета возникает почти совершенно случайно (выглядит таковой), ночи в церкви тщательно подготовлены и предсмертным наказом панночки, и обеспечены таким защитником ее интересов, как отец.
Начало повести «Вий», ее экспозиция, завязка абсолютно не предвещают экстраординарных событий. Описание Киевской семинарии и бурсы, без сомнения, развивает один из побочных тематических пластов «Тараса Бульбы»[34]34
Отмечалось не раз литературоведами, в частности, И.А. Есауловым.
[Закрыть] именно в том виде, как он был намечен в этой предшествующей повести. Бурса и семинария – жизненное пространство, в котором мужской гендер относительно скован дисциплиной, предписаниями и ограничениями. Это не Сечь с ее вольным духом тропака, войны, рады. В Киевской академии царит строгая иерархия: слушатели делятся на грамматиков, риторов, философов и богословов. У каждой из этих групп не только свой возраст, но и круг интересов, своя одежда, особенности лиц, голосов, содержимое карманов. Дисциплина в этих группах поддерживается розгами, горохом, авторитетом профессоров. Отдушиной для вольного мужского характера в таких условиях становится либо «бой», затеваемый в отсутствии профессора, либо «набеги» на рынки и огороды обывателей. Подобное описание выглядит неким продолжением и исторической трансформацией войн и набегов казаков XV века, трансформацией явно снижающей, отчасти комической.
«Самым торжественным событием» становятся «вакансии» (аналог казачьим войнам, когда они покидали Сечь?). Семинаристы и бурсаки смешиваются, превращаясь в «табор», и расходятся по домам. Но и в этом случае они остаются зависимыми: философы и богословы – от «кондиций», то есть временного заработка преподаванием, а путешествующие домой – от подаяния (сниженный мотив еды). При этом очень ослаблена зависимость от женщин. Еду семинаристы добывают себе сами, когда воровством, когда пением кантов, когда разыгрыванием комедий в вертепах.
Три бурсака, с рассказа о которых начинается завязка действия, выглядят на «фоне» экспозиции «типичными представителями» того мужского мирка, к которому принадлежат. Один пьяница и вор (богослов Халява), другой весельчак и философ по складу ума (Хома Брут), третий будущий «хороший воин», но пока с неопределившимся характером (ритор Тиберий Горобець).
Ситуация[35]35
Устанавливая системы связей между «Вием» и «Тарасом Бульбой», И. А. Есаулов считает, что обе повести построены на ситуации испытаний (по три в каждой повести).
[Закрыть], в которую они попали, ища чем набить мешок и где переночевать, выглядит почти обыденно, как и хутор, на котором они оказались. Также обыденно выглядит и разговор с осторожной старухой, которая, кстати, отказывается их накормить. В этом смысловом контексте даже первые попытки «бабуси» поймать Хому, ночующего в овечьем хлеву, приобретают иронически-сексуальную окраску («только нет, голубушка! устарела»).
Но эта эмоциональная окраска эпизода почти сразу смещается в другой план: философа пугает молчание старухи и необыкновенный блеск ее глаз. Страх переходит в ужас, когда под действием ее «сверкающих глаз» Брут не может больше двигаться и сам лишается голоса. Шевеление его губ «без звука» рождает ассоциации с предсмертным шептанием Андрием имени своей возлюбленной, а уподобление старухи кошке, вскочившей ему на спину, напоминает ключевой образ из «Старосветских помещиков».
Ко всему этому потоку ассоциаций и значений добавлен некий «простонародно-сказочный» колорит, проявившийся в уподоблении Хомы коню, погоняемому метлой, и в догадке изумленного бурсака: «Эге, да это ведьма».
Далее развитие ассоциаций, связанных с Андрием и его объяснением с панночкой в «мертвом городе», продолжено. Хома испытывает сходные противоречивые чувства: томительно-неприятные и одновременно сладкие.
Это чувство преобразует довольно обычный ночной пейзаж, который он видит[36]36
Г.А. Гуковский рассматривает образ Хомы как связующий между миром реальным и миром мистическим. Он считает, что Хома одновременно и «человек легенды» и пошлый человек (87, с. 187). Оба этих мира борются в Хоме.
[Закрыть]. На «леса, луга, небо, долины» как будто наброшен блестящий флер, похожий на прозрачную воду. Этот волшебный покров чем-то сродни «украшающим ассоциациям» с образами искусства и религии, что «проступили» в сцене свидания Андрия и красавицы-польки. Образ воды активно формирует главный оттенок эпизода, отмеченный Ю.М. Лотманом: он создает мир движущийся и преображенный (192, с. 280). А еще этот же образ – едва уловимое напоминание о канавке и протейном духе мужчины из пьесы «Женитьба».
Но у образа воды – преображающего флера, наброшенного на ночной пейзаж, – есть одно, чрезвычайно важное, значение. Прозрачная, как горный ключ, вода становится подобием зеркала, в котором ясно отражается сам Хома с сидящей на его спине старухой. Образ зеркала, отражающего одновременно и мужчину и женщину, становится одним из смысловых «ключей» ко всей сцене. Все, что открывается Хоме в видении, без сомнения, связано с ведьмой, ее потусторонним миром, в который она увлекла мужчину. Тот смотрит на преображенную природу как бы ее глазами[37]37
Отмечено И. А. Есауловым (118, с. 58).
[Закрыть].
Тем самым образам видения изначально приданы символические оттенки. Все они – некие составляющие женского мистического начала. И средоточие этой женской потусторонней сущности – русалка, ее красота, неуловимо связанная со знаками искусства («облачные перси, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью…»); ее «сверкающий смех» (как смех дочки ковенского воеводы – преображение образа слез панночки?); ее светлый и острый взгляд, уподобленный чарующему пению, проникающему в душу (как интонации «любовной песни» Андрия и его возлюбленной). Русалка – средоточие природно-пейзажных образов, их некая мистическая сущность. Она магнетически притягательная сила женского, телесно-физического и вместе с тем текуче-неуловимого, как вода.
Ее образ сродни музыке («ветер или музыка: звенит, звенит, и вьется…»), но и похож на удар кинжала в сердце («…вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью…», что напоминает об «укушении ядовитого гада» из предыдущей повести).
Значениями этого образа приоткрывается тайная цель «уловления» и «пленения» Хомы Брута ведьмой. Она хочет через образы сна-видения явить ему невыразимую иномирную сущность женского, способного «зачаровать», поглотить, как вода или взгляд красавицы. Помимо этого, лежащего на поверхности смысла, у данного эпизода есть и «подтекст», связанный с мужским гендером.
Ведь Хома видит в зеркале водной глади не только старуху, но и себя. А в образе русалки без труда угадывается то волнующее видение женщины, что являлось Андрию, поднимаясь как бы из глубины его (!) души[38]38
Вновь напомним о «водной» и протейной стихии души Подколесина.
[Закрыть].
В свете этих оттенков значений у эпизода появляется еще один слой смыслов: ведьма являет Хоме образ и его собственной души, того женского начала, что в ней таится. В этом случае образ русалки становится неким таинственным «портретом» персонажа-мужчины, глубинного строя его души, склонной к растворению в природе, веселой (смех), созерцательной, полной внутренней музыки…
Намек на такую соотнесенность символических значений образа русалки и Хомы Брута есть в его кратком портрете, данном в бытовом контексте и поэтому имеющем сильный «искажающий эффект». «Философ Хома Брут был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал крупного гороху, но совершенно с философическим равнодушием, – говоря, что чему быть, того не миновать» (1, II, с. 181).
В этой характеристике[39]39
Обзор точек зрения на образ Хомы Брута дан в книге И.А. Есаулова (118, с. 56–57).
[Закрыть] угадывается и веселость, и танцы, и созерцательный строй сознания. А чуть позже, когда Хома очутится в селении, где жила панночка, обнаружится и его тяга к природе, как и к некоему подобию «одурманивания» (водкой). «Эх, славное место! – сказал философ. – Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и крольшнепами! Впрочем, я думаю, и дроф немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество или, еще лучше, выкурить из них водку; потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится» (1, II, с. 195).
Слой значений, связанных с «опознанием» в видении мужского гендера, его тайной женской сущности, усилен мотивом утраты сердца: Хоме часто кажется, «как будто сердца вовсе не было у него…» (1, II, с. 187). Сердце в этом случае выглядит как некое «обиталище души». Оно отнято у персонажа и раскрылось в таинственной «панораме», явленной в видении. А еще Хома думает, не видит ли он сон, то есть то, что порождено его собственным подсознанием…
Поэтому у нарастающей эмоции «таинственно-страшного наслаждения», усиленной приближением русалки из глубины «моря» к водной поверхности, появляется важный символический оттенок: в двойственном состоянии смешано желание узнать сущность своей души, неудержимое влечение к ней и страх быть поглощенным (море) ее женским воплощением, исчезнуть как мужчина. Ведь русалка, ее притягательная сила, всегда таит угрозу оказаться в ее подводном мире, исчезнуть для живых, утонуть. А литературная ассоциация с незавершенной маленькой трагедией Пушкина «Русалка» только усиливает эти значения, ведь там дочь мельника стала «грозною русалкою». И мечтает о мести коварному возлюбленному.
Возможно, именно страх быть поглощенным, «утянутым на дно» тем «морем» женского, что открывает в себе мужчина, и порождает его агрессию. Она похожа на «барахтание» утопающего, хватающегося за любую «соломинку». В данном случае такой «соломинкой» становится случайно подхваченное полено, а также молитвы и заклинания (в одном ряду спасительного). Полено, очевидно, символизирует силу и агрессию мужского гендера, а молитва – его спасительную веру (мотив «Тараса Бульбы»). А вот заклятия уже явно устанавливают связь мужской души с миром колдовства, ведьмы, чар женщины.
В свете потоков значений, связанных с опознанием женского в глубинах мужского «я», убийство старухи-ведьмы, превращающейся в красавицу-панночку, тоже приобретает символическое значение: Брут пытается уничтожить женское начало своей души, мистическое средоточие своего сердца. Но то, что кажется ему злом и угрозой (ведьма, старуха), на самом деле является подлинной красотой его мужской сути. Она как бы «выныривает» (как русалка) из облика ведьмы, оборачиваясь не просто избитой прекрасной женщиной, не только обессилевшим в «схватке» с Хомой противником, но и средоточием света, золотого блеска, святости…
Все эти оттенки значения образа преображенной ведьмы, выныривающей из души Хомы Брута, ее женской прекрасной и изломанной им самим же сути, предстают в портрете умирающей панночки. «Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез.
Затрепетал, как древесный лист, Хома: жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им; он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное, новое чувство им овладело» (1, II, с. 187–188)[40]40
И.А. Есаулов данный фрагмент текста трактует как слияние во взгляде панночки дьявольского и божественного, того слияния, что увидит потом Хома и в очах Вия.
[Закрыть].
Бросается в глаза грамматическое оформление первой фразы этого фрагмента. Описание рассвета и золотого блеска Киевских церквей возникает после двоеточия, стоящего за словами «посмотрел ей в очи». Согласно русской грамматике двоеточие в этом случае равносильно слову «увидел». То есть это в глазах панночки Хома видит и загорающийся рассвет (природа), и золотой блеск куполов (образы искусства и религиозно-мистические, сопряженные как в сцене свидания панны и Андрия), и роскошь ее телесно-физической красоты (волосы, ресницы). Но руки ее раскинуты, а не заключают мужчину в объятия, как белые руки воеводиной дочки обнимали Андрия. А слезы ее – знак горя, что отвергнута она – суть души – своим обладателем…
Отсюда, очевидно, и «новое чувство» Хомы: странные «волнение и робость, неведомые ему самому», что овладели им при виде умирающей («жалость»). Это новые состояния мужчины, исторгнувшего из своей души женское начало, отрекшегося от прекраснейшей части себя самого, испугавшегося взглянуть в «глаза» собственному сердцу.
В свете этих оттенков значений у сравнения «затрепетал, как древесный лист, Хома» возникает едва уловимая ассоциация с повесившимся Иудой (трепет листьев осины от омерзения, когда на этом дереве повесился предатель). Соответственно у образа панночки возникают смысловые связи с образом Христа (раскинутые в стороны руки, стоны, возведенные очи – знаки распятия), исторгнутого из глубин души; с Тарасом Бульбой, изменившим «истинной вере» в любовь Бога к сыну ради ложной веры в «товарищество»…
В контекстах повести «Вий» этим «товариществом» становится мужской мир академии, бурсы. Именно туда отправляется Хома, только что лишившийся своего сокровенно-прекрасного, святого и драгоценного (золото церквей) женского начала.
Между «мистическими эпизодами» вновь располагается значительный фрагмент бытового плана. В потоках значений, возникающих от созерцания Хомой своей женской ипостаси, у этого «промежуточного» фрагмента появляются дополнительные оттенки. Он не только пронизан некоей «волей ведьмы», сковывающей свободу Хомы, превращающей его в пленника пособников панночки (отца, Явтуха и казаков). У него появляется и глубинный смысл «жизнеописания» скитающейся в «миру» души, отвергнутой своим «хозяином». Это некая сокровенная история испытаний жизнью, «зеркальная» поискам веры Тарасом Бульбой.
Жизнь, как уже не раз происходило в цикле, искажает, уродует сокровенную красоту «женского ядра» души. В рассказах дворни о ведьминских «проделках» панночки ее подлинные намерения и цели остаются тайной для непосвященных, выглядят то как непристойная игра, то как жуткое зверство.
Один из первых подобного рода эпизодов – рассказ о псаре Миките. Скачки панночки верхом на нем, предваренные просьбой положить на него ножку, оцениваются рассказчиком негативно: «вклепался», «обабился», «дурень», «как конь», «иссохнул весь как щепка»…
Мистического же плана смыслы передают в этом эпизоде некий поиск замены Хоме и намекают на ту угрозу, что все-таки была скрыта в образе русалки, ее мести обидчику: вместо псаря нашли золу и пустое ведро.
Второй эпизод – с загрызенным ребенком Шепчихи и ею самой – сближает образ панночки с финальными эпизодами в церкви («синяя, а глаза горели, как уголь»). Так возникает скрытая и едва угадываемая «история» (потенциальная сюжетная линия) о том, в кого преобразилась покинутая душа, не найдя замены хозяину. Она стала подобна бездомной собаке. Именно в этом облике она первоначально предстала несчастной Шепчихе.
Ее «голод» по плоти и крови достиг невиданных размеров, преобразился в некий инстинкт, уподобивший ее вампиру (пила кровь у младенца).
В свете этой потаенной истории постепенного преображения исторгнутой женской ипостаси мужской души образ церкви, в которую приводят Хому, вновь, как и в первом мистическом эпизоде, приобретает двойное «зеркальное» значение. Церковь одновременно и символ опустевшей и «заброшенной» души Хомы, и символ изуродованной «хождением по мукам» жизни женской сути его «мужской натуры».
Черный гроб посреди церкви – знак гибели женской ипостаси души Хомы Брута. Но остатки золотого сияния еще сохранились вокруг черного гроба (некая «дыра» души). Они угадываются в свете свечей, которые уже не в силах разогнать мрак в отдаленных углах церкви (в видении Хомы в женском мире сияло солнце).
Святое в этой душе, воплощенное в образе иконостаса, сильно обветшало, красота резьбы (образы искусства) «блестит» только «искрами» прежней позолоты. Местами золото уже почернело (преображенная, умершая красота?).
Описание церкви продолжено перед третьей ночью. У нее «ветхие деревянные своды, показавшие, как мало заботился владетель поместья о боге и о душе своей» (1, II, с. 216). Ветхость сводов создает впечатление и хрупкости души, ее готовности в любой момент обрушиться и одновременно гигантского временного «провала», пока женская ипостась души скиталась без Хомы, превращалась в подобие неподвижного «памятника»-надгробия самой себе (сходство с ветхой часовней на кладбище).
Сам же хозяин души, потеряв ее лучшую часть, превратился в «мелкого грешника»: его так и подмывает то табаку в церкви понюхать, то люльку выкурить.
Новая встреча Хомы с когда-то отвергнутой и «распятой» женской частью души полна глубинных смысловых оттенков. Философа поражает вновь не только ее «сверкающая красота», но, главное, то, что «в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо…» (1, II, с. 206). Тут же появляется признак присутствия жизни: покатившаяся слеза, напоминающая о боли и страдании во время ее скитаний по «мукам» жизни. Но слеза тут же превращается в каплю крови. Это намек на новый источник сохраненной красоты: панночка, как вампир, насосалась «крови» жизни погубленных ею без разбора невинных жертв ее «голода» и ярости.
Любопытно, что подобие «пробуждения» панночки во гробе происходит как отклик на зов внутреннего голоса Хомы Брута. Ни нюхание табаку, ни молитвы, ни пение «на разные голоса» не оживляют труп. Лишь несколько раз произнесенная на разные лады внутренним голосом фраза: «Ну, если подымется?..». Так сформирован «зеркальный мотив» голоса пустой души Хомы, который призывает, помимо своей воли, уже утраченную, погибшую, казалось бы, свою суть, средоточие. А поскольку у образа панночки в эпизоде ее убийства возник легкий оттенок соотнесенности с Христом, то ее «оживание» в гробу странным образом окрашивается значением воскрешения. Этот оттенок едва «педалирован» образом «расправленных рук» (подобие распятия).
Но в тех же руках, желающих «поймать кого-нибудь», отчетливо угадывается и образ вернувшейся с того света старухи с хутора. Так «зеркально» возвращается мотив «седлания», уловления мужчины в сети чар, чтобы снова показать ему его душу, душу, прожившую целую вечность (обветшавшая церковь) без своей женской ипостаси.
Первое, что видит Хома, – во что превратилась эта женская сущность его души. Ее дивная «русалочья» красота, серебряный звук ее голоса, похожего на колокольчики, смех, свет и золотой блеск ее очей – все это предстало в невероятном преображении. И преображение это продолжается все три ночи.
В первую ночь она «вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший… Она была страшна» (1, II, с. 208). Вместо смеха – стук зубов. Вместо прозрачных и пронзительно-влекущих очей – «мертвые глаза», не видящие ничего. Вместо дрожащих «персей», похожих на фарфор, – задрожавшее от бешенства лицо.
Во вторую ночь у образа панночки исчезает даже подобие женского обличья. Гоголь использует слово «труп» и говорит о нем только в мужском роде. У трупа опять мертвые, но теперь еще и «позеленевшие глаза», он опять кого-то ловит. В эту ночь он обрел еще и голос, похожий на ворчание и вопли убиваемой старухи. Страшные «всхлипы» и бормотание напоминают «клокотание кипящей смолы» (преображенный образ «моря» из видения?). Так она творит заклинания, вызывая на подмогу нечистую силу.
За этим традиционным для культуры «образом ведьмы» стоит теперь не только «адское воинство», которое ведет за собой панночка-труп, допустившая в своих скитаниях до себя нечистого. Еще одно из скрытых значений данного образа нечистой силы – это кровь жизни, которой напиталась женская сущность души, это вся ее боль, ярость, мстительная обида, а также пошлость, банальность, грубость жизни, в которую ее вверг Хома.
И все это теперь она стремится вместить в его душу, собрав свою «свиту» под сводами церкви – мужской души. Не случайно у философа опять сильно бьется сердце во время бурного натиска нечистой силы. Он как будто опять «скачет», оседланный ведьмой, и созерцает новую «панораму» своей души.
После этой ночи с Хомой тоже происходит видимое преображение. Он поседел, как бы стремительно постарев. И в этой безвременной старости угадывается наметившееся возвращение женской ипостаси в его душу.
Она как будто вместила в Хому те долгие годы скитаний по миру, когда была отвергнута и пила «кровь жизни».
Но ее наметившееся возвращение не может пока вытеснить из хозяина жажду свободы и веселость, свойственные его натуре. Сначала он предпринимает попытку побега, а когда его поймал Явтух, бесконечно долго отплясывает «тропака» посреди двора. Только музыкантов он не дождался, поэтому у его танца как бы нет «голоса» и, соответственно, искреннего веселья.