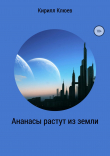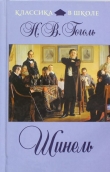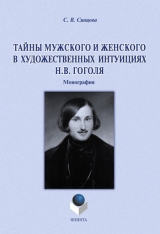
Текст книги "Тайны мужского и женского в художественных интуициях Н.В. Гоголя"
Автор книги: Светлана Синцова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Такая суть мужского гендера чем-то сродни греческому богу Протею: принимает любые земные обличья, но имеет божественную сущность. Связывает эти две его ипостаси один «мост» – свобода. И в этом своем качестве гендер никогда до конца не определим, не может быть уловлен «сетями разума», слов, земной жизни, ее ритуалами и будничностью. Его «женитьба на жизни» в этом смысле невозможна, даже с помощью «дьявольских» ухищрений. Все его возможные земные обличья, явленные ранее, не более чем иллюзия, кажимость, лики Протея, игра бликов на воде…
В свете этих философско-экзистенциальных и мифологическо-природных смыслов мотивы маски, и, особенно зеркала, которое то лицо «косяком» кажет, то приукрашивает, приобретают глубинное смысловое наполнение. Подколесин все время в кого-то (Кочкарева, Феклу, Агафью Тихоновну) или во что-то (образ приданого, описание приятелем прелестей быта семейной жизни и т. п.) смотрится, перенимая строй чувств, мыслей, состояний. Он производит впечатление податливого и мягкого, как глина, принимающая желаемую форму в чужих руках.
Но когда Кочкарев, расхваливая его Агафье Тихоновне, пытается назвать его самые важные качества, неким образом определить его сущность, то ничего, кроме слова «человек», он подобрать не может. В динамике предшествующих смысловых контекстов это производило впечатление пустоты персонажа, его обычности и невыразительности. В контексте же философско-экзистенциальных смыслов, связанных с изменчивостью, текучестью сути мужского гендера, та же попытка Кочкарева выглядит иначе: его земной ум, обычные слова, бытовые мерки не в состоянии определить, назвать, выразить нечто глубоко сокровенное, лишь угадываемое, но не сказуемое.
За текучестью и изменчивостью скрыта некая мистическая сущность гендера, воплощенная в ассоциациях с образом Адама. Но не совсем библейского. Это тоже Адам-беглец, делающий попытку ускользнуть от козней дьявола, а потом избежать и возмездия Бога (его «закона», который исполнил Кочкарев женившись). А еще это Адам, убегающий как от жизни, так и от смерти. Также это Адам-мост между жизнью и смертью, вечно ищущий «окно», проделывающий «дыры» в их сетях, разрушающий их «дом и флигели» и даже плюющий им в лицо (как чиновник назойливому просителю прибавки).
Эта гениальная интуиция (образная) мужского гендера спроецирована Гоголем и на женский. Сделано это с помощью мотива зеркала, но уже не «кривого» и не английского, а того чистого и ясного, что возник в беседе Агафьи Тихоновны и Подколесина о возможных радостях семейной жизни.
Появляющаяся на сцене сразу же после бегства Подколесина его невеста, как в зеркале, отражает его состояние: она хочет, чтобы все стало как прежде, хочет «выскочить» из сложившихся обстоятельств, сопряженных с женитьбой. «И сама не знаю, что со мной такое! Опять сделалось стыдно, и я вся дрожу. Ах! если бы его хоть на минуту на эту пору не было в комнате, если бы он за чем-нибудь вышел! (С робостью оглядывается.) Да где ж это он? Никого нет. Куда же он вышел? (Отворяет дверь в прихожую и говорит туда.)» (1, V, с. 59).
Как видно из цитаты, в душе Агафьи Тихоновны возникает то же сплетение мотивов, порождающее одно стремление – найти выход, способ бегства из ситуации. Аналогом окна в этом случае становится отворяемая дверь. Правда, она символизирует не только свободу от сетей жизни и обстоятельств, от страха и стыда. В дверь обращен вопрос: «Фекла, куда ушел Иван Кузьмич?». И этот вопрос многократно умножен другими персонажами: Феклой, Ариной Пантелеймоновной, Кочкаревым, Дуняшкой. Так Гоголь, по-видимому, пытался передать особые оттенки состояний женского гендера в ситуации потрясения и испытания: тоже стремящегося к свободе и покою (прежняя жизнь в девичестве как Эдем). Но это не свобода мужчины в его убежище. Женский гендер, ища свободы, все же обречен на искание ускользающего мужского. Дверь в этом случае – символ вечного вопрошания из мира горнего, где обитает суть Евы, в мир сущий. И в этом мире ее голос-вопрошание тоже дробится, как лики Адама-Протея. Но никогда не находит убегающего возлюбленного и возвращается в свою «девичью обитель», чтобы оттуда снова заслать Феклу на поиски такого «жениха», который соединит все изменчивые лики мужчины, и сквозь них проступит прекрасный и желанный образ Адама (складывание мозаичного портрета).
Но ни жизнь, ни свободолюбивый характер жениха никогда не позволят этого сделать. Поэтому Ева-Агафья Тихоновна обречена на вечное символическое стояние у отверстой двери, соединяющей, как мост Адама, мир горний и мир земной…
* * *
Важно подчеркнуть, что намеченная в достаточно общих пока чертах «концепция гендера» в гоголевской «Женитьбе» имеет принципиально незавершенный характер и оставлена автором в области едва намеченных и смутно угадываемых смыслов. Они с немалым усилием улавливаются научным сознанием и почти не поддаются отчетливому и до конца проясненному формулированию. Поэтому в их воссоздании приходится все время прибегать к сравнениям, уподоблениям, использовать язык и приемы описания, сходные с художественными. А саму «концепцию гендера» определять как художественную интуицию, то есть озарение, прозрение, инсайт, выраженный больше как «вектор намерений», чем как действительно «концепция».
Вместе с тем весь тот комплекс экзистенциально-мистической проблематики, что так последовательно и в то же время разнопланово проступил к финалу пьесы, можно рассматривать и как намеренное искание Гоголем приемов и способов выражения текуче-изменчивой сути гендеров наиболее адекватными средствами. Сохраняя глобальные смысловые обобщения, связанные с гендер-концептом, в сфере невыраженных смыслов (потенциальных, по терминологии Р. Ингардена), Гоголь тем самым опирался на их уникальное свойство – хаосоподобность, связанное с ней бесконечное становление, изменчивость, незавершенность, неопределенность и в то же время способность порождать разновозможные «проекты целого» (264). Поэтому, связав свои интуиции гендера со слоем недовоплощенных смыслов, едва намеченных динамических смысловых конструкций, Гоголь сумел построить свои образы мужского и женского как некий глобальный проект, сохраняющий разновозможное воссоздание в сознании, интуиции и воображении читателя (зрителя пьесы).
Такое проективно-возможное выражение позволило Гоголю не только наиболее адекватно запечатлеть сущность ускользающе-изменчивого представления о гендере, но и сохранить в процессе его выстраивания чрезвычайно гибкие, изменчивые связи, почти лишенные отчетливой структурированности, определенности.
Чтобы описать этот тип связей, придется прибегнуть к научному аппарату эстетики, поскольку в литературоведении пока нет соответствующих разработок.
Те способы выстраивания драматического действия, что были эмпирическим путем обнаружены и описаны в «Женитьбе», при первом приближении были определены в литературоведческой терминологии как «мотивы» (зеркала, приданого, маски, карт и т. п.). Возникновение таких мотивов имело явный оттенок случайности: они как бы вспыхивали в действии пьесы то в одном, то в другом месте, придавая событиям, поступкам и причинам поведения персонажей некую весьма неустойчивую «целостность», относительную смысловую связь. Все оттенки и нюансы таких смыслов, появляющиеся в зоне влияния подобного мотива, собирались им и зависели от него. При этом действие одних мотивов было длительным (зеркало, маска, карты), других кратким (приданое, плевки), а иных и совсем сиюминутным, мимолетным (купец, арендовавший огород, например). Зоны влияния мотивов могли перекрещиваться или даже накладываться друг на друга.
Для описания подобного типа связей Ж. Делезом и Ф. Гваттари было предложено такое понятие, как «ризома». Они предложили данный термин для описания случайных сращений-симбиозов, которые может образовывать постмодернистская культура. Термин, явно содержащий образный потенциал (переводится как «корневище»), обозначает некие разрастания связей хаотического типа, «прорастающие» из не совсем четко выраженного центра, способного смещаться (любая из «точек» может стать таким центром) (92).
Представляется, что такого типа связи, отрефлексированные эстетическим и культурологическим сознанием в постмодернистскую эпоху, могли de facto существовать и ранее в культуре. В данном случае необходимо напомнить об исследованиях, в которых констатируются хаотические связи в произведениях писателя (В. Набоков, С. Фуссо, В. Подорога, И. Ермаков). Очевидно, через образ хаоса эти ученые стремятся определить случайно-вероятностные связи, проявляющие себя на разных уровнях гоголевских творений (словесной ткани, жанровых конструкций, композиции).
Понятие ризомы позволяет описывать некие переходные образования между собственно хаосом и проектами его возможного упорядочивания (потенции «сцепления» смыслов, их относительного «ветвления»).
Гоголевская «Женитьба» с ее бесконечно сменяющимися и переплетающимися мотивами – наглядный тому пример. Поэтому ее можно рассматривать (особенно первое действие) как целую серию смысловых разрастаний ризомного типа. Прибегая к данному терминологическому аппарату, мы получаем возможность акцентировать случайный принцип возникновения этих связей и в то же время их нестойкую связь с неким угадываемым «истоком», формирующим то, что с помощью литературоведческой терминологии было определено как «мотив».
Последовательное выстраивание всей пьесы на основе многоцентровых ризомных разрастаний позволило Гоголю строить образ гендера именно как концепт, то есть сложное, многомерное представление, лишенное (принципиально) отчетливой структурированности, причинно-следственной и иерархической зависимости элементов. Появляясь, сменяя друг друга, наползая один на другой, значения и оттенки образов мужского и женского изначально обрели изменчивость, текучесть, потеряли отчетливые связи с половой принадлежностью персонажей (женские маски на мужчинах, раздробление в подобиях зеркал).
А когда гендер достаточно разросся в своих многочисленных значениях, Гоголь использовал новый прием. Этот прием тоже основывался на ризомном построении смыслов, но имел несколько другую цель: создать условия для обнаружения в гендере самых неожиданных, «окраинных» значений, до сих пор почти не связываемых с гендером. Для этого он стал последовательно проводить во втором действии «тактику наслоения» и случайных комбинаций ризомных образований. Это было не просто одновременное выстраивание «сквозь события» сразу нескольких сформированных ранее мотивов. Гоголь создает некое подобие их хаотического смешения-взаимодействия, имитируя с этой целью ситуацию, напоминающую тасование колоды карт[12]12
Этот образ можно интерпретировать как художественную рефлексию писателем собственного «конструктивного приема» (Ю. Тынянов) генерирования и выстраивания смыслов в пьесе.
[Закрыть].
Результатом применения такого художественного приема стало спонтанное выскакивание события в совершенно новое смысловое поле, не бывшее ранее. Так появилась история об оплеванном искателе прибавки к жалованью, так родилась пауза в монологе Жевакина, так с уст Кочкарева сорвалось ругательство с поминанием дьявола. Таким образом, наслоение «смысловых ризом» стало устойчивым источником для целой серии инсайтов у автора пьесы. И он также по принципу случайности использовал затем спонтанно возникающие мотивы, строя на их основе целые сцены, вплетая новые мотивы в уже сформированные ранее (беседа Агафьи Тихоновны и Подколесина о катаниях, цветах и гуляниях, например, а также ситуация оплевывания).
Так Гоголю удалось не только значительно раздвинуть границы представлений о гендере, раскрыв его почти предельные смысловые разрастания, но и достичь не менее важной цели: собрать все значения гендера в относительное единство. Это также было сделано на основе случайности, мозаичности, подобно странному портрету-«пасьянсу» идеального жениха Агафьи Тихоновны (коллективный облик мужского, символические оттенки приданого Агафьи Тихоновны как воплощение женского). Но как только некий абрис целого был намечен, своеобразный центр гендерных представлений был относительно определен, Гоголь тут же активно разрушает его (охаивание-облаивание Кочкаревым и невесты, и женихов, изгнание свахи).
Цель такого «деконструирования» едва определившегося гендер-концепта проясняется к финалу пьесы. Гоголь стремится проникнуть в самый «подвал» гендера, в его первоосновы. Более того, он ищет в этом «подвале» уже не просто некий банальный страх или стыд, но формирует целый ряд смысловых «окошек» – спонтанных выходов в какие-то совершенно новые, немыслимые ранее в культуре основания гендера. Результатом его усилий, в основе которых все также лежит «перетасовывание» ризом, становятся два метасмысловых ряда. Один мистико-религиозного свойства (Адам, Ева, змей, яблоко). Другой – «экзистенциального» (дух свободы мужского гендера, дух искания ускользающего мужского и страх его найти, утратив покой и обретя заботу – у женского).
Оба метасмысловых пласта возникают как самый яркий и в то же время самый непредсказуемый инсайт в их предшествующей череде всего второго действия. В результате Гоголю удается достичь невероятной масштабности символических и ассоциативных обобщений. Его представление о гендере обрело и безграничные религиозно-исторические горизонты, и явило свою немыслимую «экзистенциальную» подоплеку, и оказалось вписанным в ряды символических значений жизни и смерти, став «мостом», «дверью» между ними. При этом он сохранил самое главное свое свойство: остался изменчивотекучим, становящимся, вечно ускользающим, незавершенным и поэтому неопределимым для рассудка.
Не случайно в этой связи Гоголь как бы скрывает свое озарение от читателя-зрителя. Он покрывает весь финал, начиная с бегства Подколесина, флером почти пошлой и даже не смешной обыденности: Подколесин, неуклюже вываливающийся из окна; дура-невеста, оставшаяся с носом, подобно Жевакину; квохчущие тетка и сваха с Кочкаревым, разыскивающие жениха чуть не под стульями…
Это почти намеренное сохранение экзистенциально-мистических прозрений в ауре тайного, невыраженного, не явленного чужому взгляду, видимо, было важно для Гоголя. Гендер, включенный им в философско-мистические контексты, явивший свою протейную сущность, превратился для писателя в нечто сакральное, обрел неожиданный оттенок почти сказочного (слово из монолога Подколесина), экстатически-блаженного откровения, которое сродни восхождению в райские кущи, приобщению к Богу в его сотворении Адама и Евы…
Не случайно Гоголь неким образом «модифицирует» библейскую притчу, не доводя Адама до грехопадения, позволив ему выскочить в «окно». Так он избежал и преследований сатаны, и гнева Бога (сам ушел из рая, не изгнан, хоть и вкусил от плодов древа познания).
Эти авторские претензии на «переписывание» Библии, видимо, смущали глубоко верующего Гоголя. Но как писатель он, скорее всего, испытывал в моменты такого сотворчества Вечной книге необыкновенный подъем. Примерно такой, как переживает Подколесин, воображая себя государем, вкушающим блаженство почти мистического брака, сказочного наслаждения.
Но, осознав, на что он замахнулся, Гоголь как бы одернул себя и ускользнул от своих амбиций в «окошко» обыденности. А упустив это экстатическое состояние почти богоподобного творчества, уподобился Агафье Тихоновне, вечно вопрошающей у открытой двери: «Да где же это он?».
Естественно, это всего лишь догадки о причинах, скрыто управлявших и направлявших гений Гоголя. Важно то, что результат оказался чрезвычайно успешным и новаторским: экзистенциально-мистические оттенки гендер-концепта были сохранены в сфере потенциальных смыслов «Женитьбы». На «поверхности» осталась нелепо-комическая ситуация анекдота, пронизанная банальными психологическими мотивами мужского страха перед женитьбой и женского стыда. Сохраненный в ауре невыраженных до конца смыслов гендер, его ризомно-случайные связи, чреватые инсайтами, видимо, должны были стать источником для новых актов творческих озарений, новых восхождений к почти божественному экстазу, пережитому с такой силой в завершающей стадии создания «Женитьбы». Гоголь, по-видимому, почувствовал, что найденный им новый принцип генерирования смыслов на основе случайно-ризомных разрастаний может оказаться очень плодотворным для его будущего творчества.
Косвенным подтверждением использования такого случайновероятностного принципа организации художественно-смысловых связей в драматургии Гоголя может служить наблюдение Ю.В. Манна за так называемой «миражной интригой». Так Ап. Григорьев определил один из ключевых принципов выстраивания драматического действия в пьесах писателя-новатора. Не давая точного терминологического определения этому явлению, Ю.В. Манн описывает его как взаимодействие нескольких причин, психологических мотивировок. Сталкиваясь, противоборствуя, подталкивая одна другую, они выстраивают события по принципу спонтанности, случайности, что имитирует случайности самой жизни.
Описывая этот прием на примере «Женитьбы», автор «Поэтики Гоголя» констатирует столкновение разнонаправленных интересов персонажей. Это не только соперничество женихов, но и интересы самой невесты, а также вмешательство Кочкарева и Подколесина (204, с. 262). Все это образует сложную и разнонаправленную «интригу», у которой нет ни отчетливых истоков, ни мало-мальски предсказуемого протекания (отсюда, очевидно, и определение ее как «миражная»).
Исследователь убедительно обосновывает присутствие аналогичного принципа выстраивания действия и в других пьесах Гоголя, особое внимание уделив «Ревизору» и «Игрокам». Опираясь на эти наблюдения, можно утверждать, что случайно-вероятностные принципы (на уровне выстраивания интриги) Гоголь заложил в самое основание своей драматургии. Вышеизложенные наблюдения за организацией динамики мотивов в его «Женитьбе» – еще одно подтверждение этому выводу.
Глава 2. Мотив уловления женщиной свободолюбивого духа мужчины в цикле «Миргород»
«Миргород» написан почти сразу после «Женитьбы». Первый вариант пьесы появился в 1833 году («Женихи») и впоследствии неоднократно дорабатывался. Цензурное разрешение на издание «Миргорода» выдано в декабре 1934 года, а напечатан цикл в 1835. Сопоставление дат позволяет сделать вывод, что пьеса и цикл повестей создавались почти одновременно. Возможно, что созревание замысла одного из произведений влияло на воплощение замысла другого.
Подтверждением данного предположения является присутствие в «Миргороде» немалого количества перекличек с «Женитьбой», хотя подзаголовок цикла и отсылает читателя к «Вечерам на хуторе близ Диканьки». Отчасти это можно расценить как довольно удачную «рекламу» новому циклу, поскольку предыдущий имел немалый успех, а «Женитьба» не была опубликована. Судя по довольно многочисленным ассоциациям с «Женитьбой», цикл «Миргород» в первую очередь стал своеобразным продолжением раздумий писателя о сущностях мужского и женского, их взаимоотношениях, сходствах и различиях, невыразимых тайнах. В этом плане новый цикл повестей в своих глубинных смысловых образованиях более тесно связан с «Женитьбой», нежели с «Вечерами…».
Даже при самом поверхностном подходе переклички «Женитьбы» и «Миргорода» достаточно отчетливо прослеживаются. Можно указать в этой связи на образ окна, из которого выскочила кошечка Пульхерии Ивановны, предпочтя тем самым свободу любовного разгула с дикими котами сытому «раю» у своей хозяйки. Этот узнаваемый образно-тематический «ввод» в цикл (один из ключевых эпизодов первой повести, приведший к неожиданной смерти главной героини) сопряжен с не менее узнаваемым его образным завершением: Гоголь акцентирует для читателя образ дороги, который размыкает завершение цикла и вызывает ассоциации с бегством Подколесина и с возможными попытками Кочкарева вернуть его к невесте (иллюзия незавершенности пьесы). Кроме того, один из самых ярких интонационных образов «Женитьбы» – вопрошающий голос Агафьи Тихоновны, ищущей Подколесина, и многократно умноженный другими женскими персонажами, – получает в «Миргороде» сходное вариативное развитие: в зове Пульхерии Ивановны из загробного мира к Афанасию Ивановичу; в призыве панночки-ведьмы, пожелавшей, чтобы именно Хома Брут читал над ней три ночи; зове прекрасной полячки к Андрию, переданному пленной черкешенкой, похожей на тень из потустороннего мира.
Помимо подобных, хоть и весьма существенных, но внешних признаков сходства «Миргорода» и «Женитьбы», есть и более глубинные. Почти одновременное создание «Миргорода» и «Женитьбы» объясняется еще, возможно, и тем, что новые способы смысловой организации драматического произведения (связи ризомного типа) оказались совсем непростой задачей для начинающего драматурга. Почувствовать их рождение и воплотить в законченной пьесе ему сразу не удалось (варианты «Женихов»), а проблематика мужского и женского уже сформировалась и обещала весьма многое в художественном плане. Может быть, именно поэтому Гоголь попытался ее воплотить в уже неплохо освоенном и принесшем ему первый громкий успех жанре цикла повестей. Это позволяло ему подойти к гендерной проблематике с другой стороны, через прозу, присущие ей более привычные принципы смысловой организации целостности.
В этом плане циклическое единство четырех повестей можно рассматривать как некий художественный эксперимент воплощения гендерных проблем по принципу «дополнительности», описанному Н. Бором в отношении научных объектов. Согласно этому принципу в отношении любого объекта может быть использован принцип описания «от противного»: выбрана «система координат», диаметрально противоположная ранее использованной и, соответственно, язык описания. В результате могут быть получены прямо противоположные, но не исключающие друг друга научные «картины» исследуемого предмета. Они лишь «дополняют» одна другую, расширяя представление о природе изучаемого явления, о его двойственных сущностях.
Данная общенаучная теория является научно-теоретическим осмыслением одного из способов мышления. Возможно, что подобный «метод описания» свойственен не только научному мышлению, но отчасти характерен и для художественного, и был эмпирически освоен задолго до появления «принципа дополнительности» Н. Бора.
В таком ключе рассмотрение «Женитьбы» и «Миргорода» представляется оправданным по ряду даже чисто внешних «параметров». Во-первых, это произведения, принадлежащие к двум разным родам литературы, драматическому и прозаическому. Ясно, что способы и принципы видения явлений, раскрытия их внутренней сути в разных родах литературы весьма и весьма отличаются. Во-вторых, типы организации связей целостности совершенно различны в пьесе и цикле повестей. Первая предполагает активное «держание» связей внутренних, генерируемых чаще всего на основе конфликтов и их «ветвлений». Цикл, напротив, ориентирован на поиск связей «внешних», способных удерживать единство достаточно разнородных в тематическом, а иногда и в жанровом плане произведений (например, жанровых разновидностей повестей).
Имея в виду такую «дополнительную» жанрово-родовую природу пьесы и цикла повестей, можно предположить, что Н.В. Гоголь, испытав немалые трудности в выстраивании ризомно-спонтанного типа целостности в драматическом произведении, не сумев его сразу освоить и воплотить, обратился к связям более традиционным и хорошо ему знакомым. Цикл повестей позволял подойти к изменчивой и трудно уловимой тайне гендеров с «другого конца»: не из ее внутренних саморазрастаний, чреватых спонтанными переходами во все более глубинные и неожиданные смысловые образования, а через систему устоявшихся и освященных культурой представлений о мужском и женском, их взаимоотношениях. Отталкиваясь от этих устойчивых смысловых доминант, переосмысляя, варьируя их, даже разрушая и подменяя другими, можно было добиться примерно сходных художественных результатов: выявить в мужском и женском гендерах необычное, странное, «потайное», невыразимое словом, не контролируемое человеческим разумом и культурой.
Цикл, основанный, как правило, на вариативном развитии, углублении и «остранении» единой проблемно-тематической линии, предоставлял для этого особо благоприятные возможности[13]13
Наиболее полно проблему циклообразования в «Миргороде» рассматривает И. А. Есаулов (118), давая развернутый обзор литературоведческих концепций по данной проблеме. Среди этих концепций нет таких, что связывали бы циклообразование с женскими и мужскими персонажами, их отношениями, а также системно отслеживали бы внутритекстовые ассоциации в четырех повестях «Миргорода». Например, Ю.М. Лотман кладет в основу своих размышлений о единстве цикла образы пространства. Г. А. Гуковский пишет о разной степени самостоятельности повестей и парной оппозиционности (особенно во второй части). М. Б. Храпченко вообще отрицает глубинную смысловую связь между повестями «Миргорода» (311). И. А. Есаулов видит основой их связи «эстетическую идею». Т.Б. Гаджиева (не без влияния взглядов И.А. Есаулова) усматривает в цикле развитие «религиозной идеи», вернее, отступлений от нее (в отличие от «Вечеров…») (61). В.А. Зарецкий усматривает «лирический конфликт», основанный на «антитезе» «дерзких мечтаний» и «низменной буколической жизни» (124) и т. п.
[Закрыть]. Выбор цикла повестей был также продиктован, по-видимому, предчувствием Гоголя, что отношения мужского и женского чреваты чрезвычайно многообразными и сложными оттенками. Разные повести, варианты их тематических и проблемных «зон» позволяли подойти к гендерам с самых разных позиций. Но все возможное многообразие и пестроту их «драматических» столкновений и «масок» можно будет удерживать на основе единых циклообразующих связей, не заботясь о чрезвычайно зыбких и случайных сцеплениях смыслов, которые возникали в «Женитьбе» и порождали ощущение неопределенности смыслового целого, его «пестроту», неустойчивость, «текучесть» и незаконченность. Цикл, изначально предполагающий единство проблематики и присутствие «сквозных» смыслов, позволял преодолеть это смутное ощущение «ускользающего единства», которое могло возникнуть у Гоголя при создании «Женитьбы».
Но поскольку это был цикл, объединивший весьма разные по своим жанровым особенностям повести (бытовая, историческая, мистическая, юмористическая), он позволял Гоголю сохранить принцип «вариативного подхода» к гендерной проблематике. Кроме того, многочисленные трансформации мужского и женского, их «культурные проекции» теряли относительно жесткую связанность только с одним слоем тематизма, с одной ситуацией, одной системой персонажей и устойчивым «набором» конфликтных ситуаций. Свобода художественного исследования гендерных проблем возрастала, а также появлялась возможность обобщить спонтанно возникающие находки благодаря присутствию в цикле неких метасмысловых единств с их неизбежным обобщающим потенциалом, тяготеющим нередко к философическому размышлению писателя о рассматриваемой проблеме.
В свете таких исходных посылов и предположений цикл «Миргород» будет рассмотрен в данной главе как произведение, где получают развитие ключевые идеи и темы «Женитьбы», а также находки, связанные с художественной организацией смысловых связей пьесы.
В таком плане «Миргород» литературоведы не анализируют. Следуя указанию Гоголя, они пытаются обнаружить связи цикла с «Вечерами…».
Различны мнения ученых и о циклообразующих началах «Миргорода». Обзор такого рода концепций полно представлен в работе И.А. Есаулова «Спектр адекватности в истолковании литературного произведения» (118, с. 17–21), что избавляет от необходимости их подробно разбирать. В указанной книге последовательно упомянуты исследования Т. А. Грамзиной, Н.В. Драгомирецкой, В. А. Зарецкого, М.С. Гуса, Н.Л. Степанова, Т.Г. Морозовой, Г. Н. Поспелова, И.В. Карташовой, И.И. Агеевой, И.П. Золотусского и др. Справедливо критикуя их подходы к выявлению циклообразующих связей (небрежение композиционным выстраиванием, предлагаемым Гоголем, предвзятость исходных установок и др.), И.А. Есаулов особенно подчеркивает оригинальность и «адекватность» трактовок «Миргорода» Г.А. Гуковским, Ю.М. Лотманом, М.Н. Виролайнен. Первый видел в цикле ряд соединений и разобщений подлинных ценностей («нормы») и отклонений от них в реальной жизни (87). Второй предложил «пространственное решение» проблемы, доказав взаимодействие в повестях цикла замкнутого и открытого пространств (192) (концепция явно испытала влияние «схемы» Г.А. Гуковского). М.Н. Виролайнен подошла к решению проблемы через выявление словесно-стилевых особенностей «Миргорода» (53).
И.А. Есаулов также предложил свое видение единства четырех «типов целостности», представленных каждой повестью (идиллическая, героическая, трагическая, сатирическая). Он усмотрел в «эстетическом сюжете» цикла ««мифопоэтическую» модель деградирующего… в своем развитии мира» (118, с. 80). Деградация (от золотого века – к железному) объяснена с позиций христианских представлений об апостасии (отпадение от Бога через страсти и эгоизм). Такое привлечение к анализу художественного произведения религиозных контекстов представляется не совсем корректным.
Тематическое единство увидел в цикле Р. Пис (любовь, мужество, инертность) (340).
Убедительную точку зрения на последовательное развитие в «Миргороде» темы «войны мужского и женского» предложил Е.В. Синцов. Тщательный анализ повестей позволил ему обнаружить зарождение истоков этой «войны» в «Старосветских помещиках», ее вечный «исторический горизонт» в «Тарасе Бульбе», мистическое измерение в «Вие» и бытовое проявление в странной ссоре двух Иванов (265).
Предлагаемый далее анализ «Миргорода» развивает, уточняет и углубляет основные положения вышеизложенной концепции, нацелен на максимально полное и детальное воссоздание (описание) всего многообразия и сложности гоголевского видения отношений мужского и женского. Так, значительно расширен спектр выявленных ассоциаций с произведениями самого Гоголя (особенно с «Женитьбой»), Пушкина, библейскими образами и сюжетами. Обнаружено множество смысловых связей между разными повестями цикла. Выявлены дополнительные символические оттенки в повести «Вий», «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Иначе трактован ряд эпизодов, сюжетных ходов.
* * *
«Старосветские помещики»[14]14
Различные интерпретации повести см.: (81). Различные интерпретации повести и ее главных персонажей, их отношений с миром предложили В.Г. Белинский, Г. А. Гуковский, Ю.М. Лотман, М.Н. Виролайнен и др.
[Закрыть], первая повесть, открывающая цикл, может быть в целом осмыслена как попытка Гоголя подойти к гендерной проблематике совершенно с другой стороны, нежели в «Женитьбе». Если в финале пьесы приоткрывается свободолюбивая сущность мужского гендера, его неистребимая способность уйти от любых пут жизни и определений его изменчивых качеств, то в «Старосветских помещиках» мужчина предстает спутанным по рукам и ногам. Он уловлен в «сети» жизни, ее будней и мелочей не только старостью и силой привычки. Средоточием и главным источником его привязанности становится жена, Пульхерия Ивановна. Ее способы скрытого и ненавязчивого управления мужем стары как мир, просты и эффективны: забота и еда, получаемая от нее. Неразрывно соединенные, забота и еда превратили Афанасия Ивановича в довольно жалкое и в то же время вызывающее чувство умиления подобие старого ребенка[15]15
Эту особенность персонажа отметил И. А. Есаулов (118, с. 39).
[Закрыть]. «Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала:
– Чего вы стонете, Афанасий Иванович?
– Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит, – говорил Афанасий Иванович.
– А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?
– Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?
– Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами.