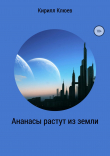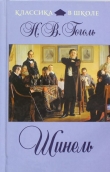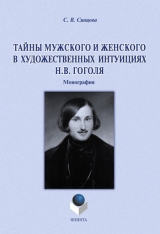
Текст книги "Тайны мужского и женского в художественных интуициях Н.В. Гоголя"
Автор книги: Светлана Синцова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Гоголь, создавая такой мужественно-воинственный характер главного персонажа, соотносит эти черты его личности с эпохой (XV век), украинской природой и «замашкой» русского духа. «Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виде грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле мирный славянский дух и завелось козачество – широкая, разгульная замашка русской природы…» (1, II, с. 46). «Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность.
Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был создан из бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава» (1, II, с. 48). Его неугомонный дух побуждает защищать православие, «предковский закон» и бороться с притеснениями арендаторов.
Дух мужественности, воплощенный в Тарасе Бульбе и его сыновьях, этих типичных для своего времени мужчин, находит наиболее полное и адекватное место для своего существования только в Сечи. Сечь – подобие окна для Подколесина, куда «выпрыгивает» неспокойный дух казачества, спасаясь от любых форм социального и культурного давления. Сюда убегали особо непокорные бурсаки, сюда уходили семейные казаки от жен и быта, сюда же попадали те, кто жаждал добиться «рыцарской чести»… «Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!» (1, II, с. 62).
Особенно ярко и неудержимо вольный казачий дух выражен в массовом танце, свидетелями которого становится Тарас с сыновьями. «…Нельзя было видеть без внутреннего движенья, как все отдирало танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет и который, по своим мощным изобретателям, назван козачком» (1, II, с. 63).
Здесь, в Сечи, нет изнуряющей зубрежки бурсы: «юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв…» (1, II, с. 50). Гульба, пиршество, не ограниченные ни временем, ни припасами, – главное занятие живущих в Сечи. «Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника» (1, II, с. 64–65). Все вмещала в себя «эта странная республика», бывшая «именно потребностью того века» (1, II, с. 65). Одного только не терпела Сечь – женщин. Даже в ее предместье «не смела показаться ни одна женщина» (1, II, с. 66).
Одна из причин, намечаемых Гоголем, в том, что Сечь превращалась для казаков, живущих в ней, в подобие матери. Именно в таком качестве они прощаются с ней, уходя на войну. А уважение к матери не допускает появления в «сыновьем доме» женщин – соперниц в привязанности и любви.
Но Гоголь указывает также и на некую историческую причину данного явления. В этом веке, в котором господствует воинственный и свободолюбивый дух мужчин, удел женщины незавиден. Она выглядит почти ненужным приложением к этому мужскому миру. «В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, – и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки, она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство» (1, II, с. 49–50).
Тарас ничтоже сумняшеся попирает даже ее материнское чувство, сравнивая ее с курицей, сидящей на яйцах, и забирает сыновей в Сечь. Но у матери обнаружилась и скрытая сила. Одна ее часть – в молитве, действенность которой признает даже Тарас: «молитва материнская и на воде и на земле спасает» (1, II, с. 51). А другая «составляющая» ее власти над мужчинами – преданная любовь, которая сродни одержимости. Особенно ярко эта сила «эмоционального захвата» представлена в трагической и очень яркой сцене расставания с уезжающими в Сечь детьми. Выражение материнского горя настолько потрясает, что молодые казаки «ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, с своей стороны, был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать» (1, II, с. 52).
Так через молитву и чувство женское начало принялось снова «улавливать» мужской гендер. Эту зависимость, как уже упоминалось, Тарас предусмотрительно подавляет. Но он не может контролировать влияние женщины на молодого мужчину, на его инстинкты. А это влияние уже началось, еще в бурсе. И исходит это влияние не столько извне, сколько изнутри. Оно связано с природой, особенностями психологии мужчины. Вот как описывает Гоголь первые влечения Андрия.
«Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его; он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную.
Перед ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастьем. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы» (1, II, с. 55–56).
Как ответ на это внутреннее влечение мужчины к пока неясному и сладострастному образу телесной красоты возникает описание первой встречи с юной еще полькой, дочерью ковенского воеводы. В противопоставление рыдающей матери она смеется. И смех ее – все тот же эмоциональный «захват», новое «уловление» в «сети» любви мужского гендера. «Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица?» (1, II, с. 56).
Начав со сходного и в то же время иного «захвата» мужчины, красавица-полька затем «прорывает» свои «подкопы» к душе Андрия. Подобием нор диких котов, что приманили кошечку Пульхерии Ивановны, становится во второй повести подземный ход, что ведет из осажденного города в стан запорожцев. С этим сильно трансформированным образом сопряжен другой, более узнаваемый – голос из потустороннего мира (зов Пульхерии Ивановны).
Этот голос принадлежит пленной татарке, служанке польской панны. «И странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставили бы скорее подумать, что это был призрак» (1, II, с. 89). Она не просто зовет Андрия, но «уловляет» его «на заботу» о еде («она другой день ничего не ела»), а потом на заботу о матери («у него также есть старая мать, – чтоб ради ее дал хлеба!»). Оба мотива явно перекликаются с первой повестью цикла. Но они дополнены новыми оттенками.
Во-первых, возникает легкий оттенок религиозного поклонения, связанный одновременно и с материнской молитвой, и ассоциацией с Марией из «Бахчисарайского фонтана», мелькнувшей в первой повести. Этот смысловой оттенок начинает формироваться уже в подземелье, где Андрий замечает «почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической Мадонны» (1, II, с. 95). Затем данный мотив усиливается при описании внутренности костела, куда вывел ход. Здесь Андрий опять слышит подобие небесного зова – возвышенные и драматичные звуки органа («громовые раскаты»).
Само пребывание в умирающем городе активизирует еще одну ассоциацию, родившуюся в «Старосветских помещиках», – с мифом об Орфее, спускающемся в ад. Описание города формирует данные смысловые оттенки. Это город-призрак, населенный либо мертвыми (тело женщины), либо бесноватыми от голода, либо полумертвыми подобиями статуй. Одновременно с ужасом смерти, которым наполнен город, подчеркнута его какая-то нездешняя красота, угадывающаяся в описании дома воеводы с явными признаками итальянской архитектуры, убранства дома (малиновый занавес, позолоченный карниз, живопись на стене). Так Гоголь едва намечает ассоциацию с иным миром, в котором оказался Андрий, страшным и прекрасным одновременно. Средоточием этого иного пространства, куда привел «лаз» («мост» между земным и небесным, миром земным и миром мертвых), становится панна.
Ее образ «фокусирует» все ранее возникшие мотивы, связанные с женским гендером. Это и подобие Богоматери, так как первое, что увидел Андрий, – лампада и свечи перед образом. Только затем проступил облик неподвижной женщины, похожей на статую. В нем – и подобие католическим статуям Девы Марии, и отдаленное напоминание Эвридики, поскольку у женщины была необычная поза: она застыла и окаменела «в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась» (1, II, с. 100–101). Ее портрет дополняет смысловые оттенки, связанные с совершенными творениями искусства: «…теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти» (1, II, с. 101). Она манит его слезами, следы которых еще не успели высохнуть на ее прекрасных глазах (подобие матери с ее слезами при прощании). Наконец, ее телесная красота превосходит даже грезы Андрия: описание линий груди, шеи, волос… Венчает этот портрет сильная бледность, которая придала красоте женщины «что-то стремительное, неотразимо победоносное». Андрий ощущает при виде «чудесной красы ее» «благоговейную боязнь». Слово «благоговеть» явно соотносимо с образом Девы Марии, но в сочетании с бледностью девушки сообщает ей и едва уловимый оттенок мертвеца, смерти. Она как ее воплощение, обладающее влекущей красотой и неотразимой силой притяжения.
В этом смысловом оттенке образ панны содержит намек на развитие мотива встречи Афанасия Ивановича с Пульхерией Ивановной в загробном мире, куда позвал голос. Правда, в предыдущей повести этот голос рождал инстинктивный страх, стремление убежать от тихого, но отчетливого зова. Теперь влекущая красота олицетворенной смерти, сливающаяся с отдаленным подобием Эвридики, становится неотразимо притягивающей, почти волшебной.
Но и панна, «подманившая» казака (как дикие коты кошечку Пульхерии Ивановны), тоже захвачена его красотой и «силой юношеского мужества» (мотив зеркала). Их эмоциональное и отчасти таинственное притяжение воплощено в нескольких паузах, когда говорят глаза и души, но не уста. Эти паузы – почти неузнаваемое преображение пауз из «Женитьбы», их некое «зеркальное отражение», поскольку паузы Подколесина и Агафьи Тихоновны в большей степени передают пустоту отношений, когда нечего сказать и слова для беседы с трудом подыскиваются.
В сцене встречи панны и Андрия у каждой паузы, помимо взрыва эмоций, есть еще и ряд дополнительных оттенков, передающих нюансы любовных отношений.
Так, в первой паузе, после «серебряных» звуков ее голоса, Андрий своего голоса лишается, переживая все несовершенство «козацкой натуры», все убожество воспитания в бурсе. Но уже во второй паузе, после взгляда, выразившего чувство благодарности панны, голос возвращается, готовы «излиться неукротимые потоки слов», но красавица отвлекается вопросами к татарке, отнесла ли та хлеб отцу и матери. Третья пауза, когда девушка откладывает хлеб, повинуясь заботе Андрия о ее жизни, дополнена «покорностью ребенка» (Афанасий Иванович).
Переполненность чувствами побуждает Андрия принести себя в некую жертву, превращает его в подобие слуги и одновременно рыцаря. Не случайно его обращение начинается словом «царица!» (Богоматерь, владычица земная, царица души, царица из волшебной сказки…).
То, что готов принести Андрий на «алтарь» возлюбленной, характеризует его собственные представления о том, за что можно любить мужчину. Первое, на что он готов, – отказаться от свободы, превратившись в подобие слуги. «Что тебе нужно? чего ты хочешь? прикажи мне! Задай мне службу саму невозможную, какая только есть на свете, – я побегу исполнять ее!» (1, II, с. 83).
Второй жертвой становится жизнь (опять ассоциации с «добровольной смертью» Афанасия Ивановича). Это усиливает связь образа панны со смертью, с потусторонним миром, в который теперь страстно стремится казак. «Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко… но не в силах сказать того!» (1, II, с. 103).
Далее он готов то ли жертвовать, то ли отчасти хвалиться богатством и оружием, отдавая все это на волю красавицы. Его самоуничижению нет предела, когда Андрий завершает свою речь утверждением, что «мы не годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе» (1, II, с. 103).
Пауза, возникающая после полного отречения от свободы (достигнутая цель Пульхерии Ивановны в отношении Афанасия Ивановича), наполнена особым драматизмом. Ее первая часть передает через позу женщины готовность принять жертву. Ее отверстые уста готовы как бы вкусить от того «хлеба», что подносит ей Андрий в своем душевном излиянии… Но миг такого единения, душевного слияния длится недолго. «И выдалось вперед все прекрасное лицо ее, отбросила она далеко назад досадные волосы, открыла уста и долго глядела с открытыми устами. Потом хотела что-то сказать и вдруг остановилась и вспомнила, что другим назначеньем ведется рыцарь, что отец, братья и вся отчизна его стоят позади его суровыми мстителями, что страшны облегшие город запорожцы, что лютой смерти обречены все они с своим городом… И глаза ее вдруг наполнились слезами…» (1, II, с. 104).
В конфликтном душевном движении красавицы-панны не только переживание разделенности с возлюбленным обстоятельствами, принадлежностью к враждующим лагерям.
Есть в этом душевном колебании и пророческо-мистический оттенок: женщина угадывает, что за принесенную ей в жертву мужскую свободу ей будут беспощадно мстить «отец, братья и вся отчизна»… Эта месть мужского гендера сообщает образу города символическое значение: замкнутого и осажденного, обреченного на смерть женского мирка, посмевшего сопротивляться могучей силе и власти огромного мужского мира. Чувство обреченности, кратковременности обретения власти над мужчиной уподоблено «укушению ядовитого гада». Данное сравнение привносит в образ панны оттенок сходства с Клеопатрой, рождая, в первую очередь, ассоциации с «Египетскими ночами» А.С. Пушкина, с финальным молчанием великой царицы, взирающей на смельчака, готового жизнью жертвовать за ночь ее любви[22]22
Это произведение А.С. Пушкина появилось в том же году, когда был опубликован цикл «Миргород» (1835).
[Закрыть].
«Укушение ядовитого гада» превращает панну-Клеопатру в подобие недвижного тела: ее рука, сжимаемые Андрием, бесчувственна, сама женщина неподвижна – грусть «сокрушила» ее. В ассоциативном ряде с мифом об Орфее этот образ выглядит как окончательная потеря Эвридики, ее неизбежный переход в мир Аида, неразрывное единение со смертью, неотвратимая потеря возлюбленного.
Голос панны звучит теперь тихой свирелью, напоминающей шелест тростника, – еще одна ассоциация с античным мифом о Пане и Сиринге, которую почти настиг бог, но утратил в последний миг (превратилась в тростник). В результате голосом красавицы говорит как бы сама природа, с которой сливается совершенная музыка искусства. А еще в ее интонациях слышатся отголоски плача по усопшей – по самой панночке и ее любви. Есть в нем что-то от молитвы (обращение к Богородице). Главное «признание» ее тихой речи – жалоба, что любовь овладела ею на пороге смерти, а речи Андрия «разодрали на части» ее сердце. «…Мало всего этого: нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидать и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части мое сердце, чтобы горькая моя участь была еще горше, чтобы еще жальче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя…» (1, II, с. 105).
В ключевом мотиве «речитатива» панночки смутно угадывается ассоциация с «Каменным гостем» А.С. Пушкина: любовью на пороге смерти, когда гибель «стоит за дверью на часах». Так Гоголь усиливает скрытые значения интонаций в речах девушки и Андрия: в них звучит музыка любви, которая важнее слов, сообщает всему эпизоду подобие оперного фрагмента…
К этим «театральным ассоциациям» присоединяется поток значений из «Ромео и Джульетты». «Если же выйдет уже так и ничем – ни силой, ни молитвой, ни мужеством – нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе; и прежде я умру, умру перед тобой, у твоих прекрасных коленей, и разве уже мертвого меня разлучат с тобою» (1, II, с. 106). Так неотесанный Андрий, вдохновленный любовью, постигает совершенство искусства выражения своих чувств, которых у него не было ранее.
То первоначальное исчезновение голоса, стеснение в груди приобретает теперь символический оттенок: у него была отнята присущая ему от природы грубая казацкая речь, «бурсачья»; вместо нее он обрел подобие серебряного голоса панны, смог выразить возвышенную музыку любви[23]23
Музыкальность прозы Гоголя констатировалась не раз в литературоведческих исследованиях. Наиболее репрезентативна в данном плане работа Н.Н. Брагиной «Поэтика Н.В. Гоголя в свете музыкальных аналогий», где выявлены различные аспекты феномена «музыкальности», в том числе и ритмоинтонационная выразительность повествовательной манеры. Сама исследовательница сосредотачивается на выявлении симфонических аналогий в цикле «Миргород».
[Закрыть] и чувств, связанных с неземными мирами смерти, Богоматери, пения ангельских голосов в звуках органа… Это момент приобщения к возвышенному, таинственному и маняще-прекрасному позволяет теперь Андрию сделать собственный и вполне свободный выбор: предпочесть мир женский миру мужскому; с миром панны он чувствует духовную связь, а не связь по рождению или долгу. «…Знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы – враги тебе.
«А что мне отец, товарищи и отчизна!» – сказал Андрий… «Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из козаков вырвет ее оттуда! И все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!» (1, II, с. 106)[24]24
И. А. Есаулов усматривает в данной сцене, особенно в подмене любви к женщине любовью к Отчизне, сохранение Гоголем на образе Андрия печати героического (118).
[Закрыть].
Подобное соединение мужского и женского в некоем ином измерении (Адам и Ева в раю? Орфей и Эвридика в Аиде?) обретает в реальном мире оттенок чуда: гибель женского (символ города) не только отсрочена, но и появилась надежда на спасение. Сразу вслед за объятием и поцелуем панночки и Андрия вбегает татарка с вестью о том, что «наши» вошли в город, пленив часть запорожцев. С этого момента начинается стремительное ослабление позиций мужского гендера. Но все дальнейшие события – лишь преломление в жизни того иномирного слияния, что произошло в эпизоде объяснения Андрия и его возлюбленной. Они, переживая невероятные чувства в объятиях друг друга, не слышат криков татарки, не понимают ее слов, настолько они погрузились в иные пространства существования. Так же, как не «понимает» тайной сути произошедшего события и автор-повествователь, который оценивает поступок Андрия с позиций земной морали и мужского гендера. «И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви божьей! Украйне не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее» (1, II, с. 107).
Преображение Андрия, приобщение его к красоте и возвышенности иного мира, связанного с женским гендером, отмечено с помощью некоего «золотого сияния»[25]25
Этот дар – преображение женского наряда, в который облачила шаловливая панна неуклюжего бурсака (как Омфала – Геракла, считает Н.В. Вулих).
[Закрыть]. О новом обличье казака рассказывает Янкель, побывавший в осажденном городе. «Теперь он такой важный рыцарь… Далибуг, я не узнал! И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото. Так, как солнце взглянет весною, и когда в огороде всякая пташка пищит и поет и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте» (1, II, с. 111–112). В смысловых оттенках сцены любовно-мистического слияния гендеров золото на Андрие предстает знаком его причастности к миру, где царит красота, искусство, дух поклонения женщине, равной царице или Деве Марии. Ее сияние, роскошь убора теперь стали украшением и приобщенного «рыцаря».
Но жизнь в лице Янкеля и Тараса набрасывает на эти высокие значения свои банальные, искажающие представления. Их символическим выражением становятся попытки Янкеля передать «в лице своем красоту», как будто он изображает дочку воеводы. Объясняет он поступок Андрия тем, что тот влюбился, а это превращает мужчину в подобие подошвы, намокшей в воде и поэтому податливой (перекличка с «бабьим башмаком» – Подколесиным). Правда, в глазах Тараса предательство сына имеет легкий религиозномистический оттенок: «…собственный сын его предал веру и душу» (1, II, с. 114). Не случайно в ответ на переданные слова Андрия об отречении (в устах Янкеля) Тарас кричит «Иуда!». Так возникают новые ассоциации библейско-евангельского плана, накладывая на образ Тараса оттенки Христа, на Андрия – Иуды, а на панну – сатаны, которому можно продать душу.
Подобные оттенки усиливаются в эпизоде последней встречи Тараса с Андрием. Подчеркнута не только преображенная красота «витязя» с дорогим шарфом, повязанным на руке. Тарасу видится некая скрытая сила, управляющая его сыном: «атукнул на него опытный охотник – и он понесся…» (1, II, с. 142). Эта скрытая сила, движущая ослепленным Андрием, сродни одержимости, источником которой становится все тот же образ чарующей женской красоты (кудри, грудь, снежные шея и плечи). Ничего не видя перед собой, кроме этого образа, запечатленного в его душе, он крушит «своих» (Иуда в глазах Тараса). При этом в нем сохраняется оттенок детскости (сравнение с отрезвляющим действием появившегося учителя; слезает с коня покорно, как ребенок).
Но такое относительное отрезвление и возвращение в реальный мир иллюзорно. Печать сильной бледности на лице Андрия – еще одно свидетельство его нерушимой связи с иным, женским миром (бледность красавицы в сцене объяснения). Почти неуловимым отголоском этой связи становится тихое произнесение имени прекрасной полячки.
В этом шепоте угадывается отголосок того неземного любовного напева, что соединил их, тот шелестящий голос, что предвещал разлуку. Для Тараса же все это – признаки измены: «…но это не было имя отчизны, или матери, или братьев…».
Сам же эпизод смерти Андрия привносит в произведение оттенки еще одной библейской истории: принесение Авраамом в жертву своего сына Исаака. «Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова» (1, II, с. 144).
Но, согласно Библии, жертвоприношение сына было прервано, Авраам лишь явил Богу свою готовность расстаться с самым дорогим. Поэтому Тарас расподоблен Аврааму. Он служит не Богу, не горнему миру, уничтожая «чудную красоту» своего преображенного сына (портрет мертвого Андрия)[26]26
Эти новые оттенки сцены убийства обнаруживаются только в потоках гендерных смыслов и ассоциаций. Обычно литературоведы видят в убийстве Андрия наказание за предательство (А.И. Карпенко, например), традиционную для эпической традиции схватку отца с сыном (И. А. Есаулов).
[Закрыть]. Его «идол» – товарищество. Именно ему сообщает герой повести значение святости: «Нет уз святее товарищества!».
В знаменитой речи, обращенной перед битвой к оставшимся запорожцам, смутно угадываются переклички образа Тараса с Моисеем, укрепляющим дух иудеев, потерявших веру в обретение земли обетованной. «Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша…», – начинает он свою речь. Но Тарас – это Моисей в зеркальном отражении. Тот стремится сохранить веру иудеев в Бога, пытается заставить их разбить идолов, к которым они в отчаянии обращались. Тарас же пытается внушить веру в подобие идола[27]27
Как правило, литературоведы видят в речи Тараса лишь силу духа, патриотизм, мужество. Скрытые оттенки этой речи не анализируются, как если бы это было не художественное произведение, а чистая «риторика», в которой основные идеи выражены явно, лежат только на поверхности.
[Закрыть]. Таковым и становится «товарищество» – некое подобие новой веры, рожденной вольным духом Сечи, ставшей смыслом существования мужского гендера. Товарищество в этом значении сродни духовному братству. Сечь обретает значение мистического религиозного ордена, поклоняющегося собственному героизму, стойкости и свободолюбию. А в свете потока ассоциаций со «Старосветскими помещиками» Сечь еще и символ «захваченности» мужчины-ребенка материнским началом, символ нежелания покидать ее «плодородное чрево»[28]28
С. Эйзенштейну удобнее всего было бы строить свою концепцию о комплексе влечения к матери у Гоголя на разборе образа Сечи.
[Закрыть].
«Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек.
Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному по многу пропадать на чужбине; видишь – и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, – видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, – любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а… Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у него, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь… Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!» (1, II, с. 133–144).
Оттенки греха перед Богом, нарушения заповедей Моисея, запечатленных им на скрижалях, придают поражению запорожцев в битве с поляками скрытый мистический смысл: они наказаны за отступничество от истинной веры, руками поляков Бог и Моисей рушат их «идолов», наказывают их смертью, пленом, поражением.
Начало этой череде «возмездий за отступничество» положила гибель от пушечного ядра половины Незамайковского куреня. Косвенное указание на их коллективный «грех» – горе оставленных матерей и жен. «Не по одному козаку взрыдает старая мать… Не одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет, сердечная, выбегать всякий день на базар, …распознавая…, нет ли между их одного, милейшего из всех» (1, II, с. 136).
Героически погибающий Мосий Шило, как выясняется в некоем подобии «вставной новеллы» о его жизни, в свое время, хоть и притворно, но «истоптал ногами святой закон», издевался над невольниками, подвержен пьянству, уличен в воровстве… Степан Гузка «поплатился» за то, что уподобился в бою татарину или турку (поймал полковника арканом и убил пикой вместо схватки лицом к лицу). Доблестный Балабан в морском походе против турков очень похож на удачливого разбойника и грабителя… И уж почти святотатством выглядит история случайной смерти Кукубенко (сравнение с разбитым сосудом с вином). Его душу, как излагает автор-повествователь, зараженный пафосом воспевания битвы, Христос посадит одесную как нового святого только за то, что тот «не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, хранил и сберегал мою церковь» (1, II, с. 141).
Кульминацией казацкого греха, «платы» за него становится сыноубийство Тараса. То, что кажется продиктованным местью за отступничество от «товарищества», высшая сила карает стремительным поражением («беда, атаман!..») и пленением Остапа.
Так Гоголь в сцене битвы создает двойной поток смыслов. Голос автора-повествователя имитирует интонации бандуристов, живописующих подвиги запорожцев[29]29
Именно эти значения акцентируются в литературоведческих исследованиях. Так, Г.А. Гуковский считал, что в повести Гоголь создал некий коллективно-мозаичный образ казачества, прекрасных черт его характера (87). Н.В. Вулих усматривает в батальных сценах даже признаки влияния гомеровского эпоса (60, с. 145–149).
[Закрыть]. А поток библейских ассоциаций намекает на скрытое присутствие «ереси», смертных грехов[30]30
Из всех литературоведов, изучавших «Тараса Бульбу», только Т.Б. Гаджиева увидела сходный смысл в образах запорожцев. Она утверждает, что Гоголь продемонстрировал их отступление от христианских заповедей, показав жестокость и жажду кровопролития в батальных сценах (61).
[Закрыть] и воздаяния за них.
Именно эти смысловые оттенки объясняют причины стремительного разрушения мужского гендера. Ему нечего противопоставить красоте, искусству, приобщенности к божеству (Дева Мария) женского мира. Отпадение Андрия (через свободный выбор!) обнажает не только грубость и жестокость мужского братства Сечи. В реальном мире святости и красоте противостоит земная, греховная (идолопоклонническая) вера в «товарищество».
Такая «червоточина» мужского гендера начинает стремительно разрушать его изнутри. Не столь могучим и несокрушимым оказывается Тарас.
В битве пострадало не только его тело (весь изрублен), не только понизился его статус (на него, раненного, «…закричал Товкач сердито, как нянька… кричит неугомонному повесе ребенку») (1, II, с. 146). Страдает отцовская душа, «обняло горе старую голову».
Спасает его от неминуемой смерти только «товарищество» в лице Товкача да еврейка-знахарка. Нестойкой оказалась и исповедываемая «вера».
«Оглянулся он теперь вокруг себя: все новое на Сечи, все перемерли старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство.
…И уже давно поросла травою когда-то кипевшая козацкая сила» (1, II, с. 148).
Осталось только сожаление – сродни размышлению хозяина о том, что «лучше б и не было того пира» (то есть разгула, удали, битв, жертв), и «неугасимая горесть» из-за Остапа («Сын мой! Остап мой!»).
Чадолюбие – вот что остается пока истинным стержнем, дающим силы и желание жить мужскому гендеру в лице Тараса. Но эта страсть-одержимость сродни женской (уподобление матери, няньке). Поэтому разрушение образа свободолюбивого гендера, основанного на вере в товарищество, продолжено.
Первым шагом в этом направлении становится обращение за помощью к Янкелю. Сам Тарас мотивирует это тем, что «не горазд на выдумки», в отличие от «жидов». Но сама ситуация поездки в Варшаву под «прикрытием» Янкеля выглядит зеркальным отражением бегства с Товкачом из-под Дубны. Теперь «верным товарищем» Тараса становится еврей, помощь которого куплена за пять тысяч червонцев[31]31
Роль образов Янкеля и Мардохая в сопоставлении с Тарасом и Остапом раскрывает В.В. Федоров (303, с. 133). Он называет двух евреев «меркантильными существами», способными превратить героическое начало повествования в прозаическое. Образы ляхов, напротив, героизированы, что оттеняет сходные качества центральных персонажей.
[Закрыть].
Жалкой пародией на Сечь предстает и описание еврейского сообщества в Варшаве: такое же дружное, говорливое, решающее все важные вопросы на некоем подобии «рады». С ними Тарас тоже готов поделить поровну все, что ни добудет на войне. Поэтому варшавские евреи приобретают смысловой оттенок новых «товарищей» Тараса. Наконец, его знакомят с Мардохаем, этим Соломоном еврейского мирка. Портрет Мардохая – яркая и очевидная пародия на Тараса. «На лице Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна» (1, II, с. 156).