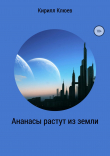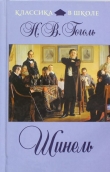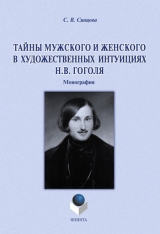
Текст книги "Тайны мужского и женского в художественных интуициях Н.В. Гоголя"
Автор книги: Светлана Синцова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Пожалуй, разве так только, попробовать, – говорил Афанасий Иванович.
Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку; после чего он обыкновенно говорил:
– Теперь так как будто сделалось легче» (1, II, с. 23–24).
«Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе…
После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне:
– А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?
– Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?
– Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, – отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.
За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду» (1, II, с. 21).
«Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил:
– Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?
– Чего же бы такого? – говорила Пульхерия Ивановна, – разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?
– И то добре, – отвечал Афанасий Иванович.
– Или, может быть, вы съели бы киселику?
– И то хорошо, – отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо» (1, II, с. 22–23).
Еда становится в повести не только способом незаметного подчинения Афанасия Ивановича. С помощью еды «приманиваются» и удерживаются гости. Одна из скрытых причин их радушнейшего привечания, кормления, уговаривания заночевать опять-таки связана, по-видимому, с Афанасием Ивановичем. Смутно осознавая, что мужу может быть скучно за бесконечной едой и разговорами о соусах и масле в пригоревшую кашу, Пульхерия Ивановна с помощью гостей создает для супруга подобие развлечений. Ведь Афанасий Иванович, как отмечается в самом начале повести, по-детски любопытен и поэтому любит разговаривать с приезжающими к нему. «Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою» (1, II, с. 16).
В бедной впечатлениями жизни разговор с гостем становится единственной отдушиной, своеобразным окном в широкий внешний мир, который влечет Афанасия Ивановича. Но эта тяга удовлетворяется пока только в разговоре. «Я вижу как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашнею своей улыбкой и слушает со вниманием и даже наслаждением гостя! Часто речь заходила и об политике.
Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта, или просто рассказывал о предстоящей войне…» (1, II, с. 25).
Для привлечения и удерживания гостей Пульхерия Ивановна не ограничивается только многочисленными кушаньями и закусками. В ее «арсенале» есть также бесчисленные настойки и наливки, о которых она подробно и со знанием дела рассказывает приезжающим. Сильное действие этих напитков уже опробовано на кучере, вечно перегонявшем водку на разные травы и косточки. Он не просто становится пьян, но и «болтает вздор», похожий, наверное, на разговоры гостей с Афанасием Ивановичем. Но для посетителей старосветских помещиков эта подлинная сила и цель использования наливок (развлечение Афанасия Ивановича «вздором») сокрыта Пульхерией Ивановной рассказами о целительной силе всех бесчисленных разновидностей горячительных напитков («аптека»).
В свете едва намеченного мотива (скрытого, возможного) удержания («уловления») Афанасия Ивановича с помощью еды, заботы и незатейливых развлечений (гости) обретает особую значимость описание того, как Пульхерия Ивановна ведет хозяйство. «…Все бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас…» (1, II, с. 19).
Поскольку еда и наливки непосредственно связаны с Афанасием Ивановичем, его аппетитом и детским любопытством, другие статьи хозяйства помещицу почти не интересуют: ни хлебопашество, ни состояние лесов, то есть все, что «вне двора» (1, II, с. 20–21). Афанасий Иванович только делает вид, что следит за косарями и жнецами, а приказчик уже давно догадался, что расспросы о хозяйстве дальше разговоров не идут (1, II, с. 21). Но поддержанию неспешного, сытого, размеренного течения жизни помещиков способствует природа. Ее поражающие плодородные силы (описание обильнейших урожаев) выглядят своеобразными «пособниками» Пульхерии Ивановны.
С их помощью она не только умудряется поддерживать хозяйство, течение быта, но и обеспечивает Афанасия Ивановича невероятным разнообразием еды и удовольствий от разговоров с гостями. Девки в этом контексте приобретают сходное значение: они продолжение Пульхерии Ивановны, ее руки, заботы и хлопоты, позволяющие перерабатывать, запасать, хранить и готовить еду.
Все эти немногочисленные, но очень органично увязанные контексты, сосредоточенные вокруг Пульхерии Ивановны, естественно и полно соотносимы с гендерными представлениями о роли женщины как хранительницы домашнего очага, рачительной и заботливой хозяйки, умело использующей дары природы для осуществления своего предназначения. Даже отношение к Афанасию Ивановичу как к ребенку отчасти продолжает эту череду оттенков значений, поскольку у супругов нет детей, и всю нерастраченную материнскую заботу Пульхерия Ивановна обращает на несколько ребячливого по натуре супруга.
В этом плане своеобразным венцом исполнения своей «женской миссии» предстает последняя забота об оставляемом Афанасии Ивановиче. «Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я (тяжелый вздох прервал на минуту речь ее): я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами.
При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно.
– Смотри мне, Явдоха, – говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, – когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит. Чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз. Явдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и бог наградит тебя…
Бедная старушка! она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным» (1, II, с. 31–32).
Замыкает все перечисленные ранее разрастания гендерных значений, связанных с Пульхерией Ивановной и ее отношениями с Афанасием Ивановичем, мифологическая ассоциация с Филемоном и Бавкидой. «Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их» (1, II, с. 15). С этой ассоциацией связан не только «буколический» оттенок бытописания, идиллический хронотоп (семейная, дружеская жизнь в пространствах природы, в гармонии с ней)[16]16
Эту жанрово-смысловую особенность отмечают все исследователи повести.
[Закрыть], но и появление смыслового оттенка вечности описанного варианта отношений мужского и женского. Введя эти знаки культуры в самом начале истории, автор-повествователь намекнул и на хорошо узнаваемую историю о том, как «они жили долго и счастливо и умерли в один день», и на ее связь с мифологическими временами, неким «золотым веком» человечества.
Но именно с этим потоком ассоциаций связано ощущение самой значительной «бреши» в гендерных конструкциях повести «Старосветские помещики». Речь идет о финале истории о Филемоне и Бавкиде. Согласно мифу боги послали в награду двум супругам не только смерть в один день, но и возможность остаться вместе и после смерти в образе двух деревьев, выросших из одного корня. Как и в случае с библейским мифом об Адаме и Еве в «Женитьбе», Гоголь прибегает к значительной трансформации «первоисточника» и в «Старосветских помещиках». Воссоединение старичков в загробном мире не произошло в один день, оно отсрочено на несколько лет, проведенных безутешным Афанасием Ивановичем без своей половины. И причина такого «переиначивания» мифологической первоосновы – вмешательство случайностей жизни. Любопытно, что почти все эти случайности отмечены ассоциациями с образами «Женитьбы» и несут некий единый разрушительный «заряд».
Поначалу эта «дисгармония образов», соотносимых с «Женитьбой», едва заметна и покрывается единым «буколическим» тоном повествования. К примеру, это знаменитое описание поющих дверей в доме старичков. Деталь, явно приобретающая некий оттенок слишком яркой и развернутой «краски» в описании жизненного пространства семейной пары, привлекает внимание и может быть осмыслена как едва уловимая ассоциация с финальным интонационным образом «эха», возникшего от вопроса Агафьи Тихоновны, спрашивающей, где Иван Кузьмич. Вопрос этот, многократно умноженный другими персонажами, включившимися в поиски, представлен в образе поющих дверей в весьма преображенном виде: сохраняется только подобие его интонационной оболочки, к которой добавлена легкая негативная эмоция: «…Та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец слышалось: «батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю» (1, II, с. 18).
В цитате довольно отчетливо угадывается некое подобие подчеркнутого эмоционального конфликта, возникающего благодаря слову «очень», включенному в разные контексты: «многим очень не нравится, но я его очень люблю». Так автору-повествователю удается быстро погасить едва наметившийся неприятный эмоциональный оттенок, связанный с «голосом» дверей.
Но смысловое значение образа распахнутой двери, ведущей в другой мир, в мир души и личных воспоминаний автора, сохраняется: «…и если мне случится иногда здесь услышать скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой… и боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!» (1, II, с. 18).
Еще один весьма яркий звуковой образ, отдаленно соотносимый с «Женитьбой», – выезд Пульхерии Ивановны на ревизию своих лесов. Звуки «поющего экипажа» чем-то напоминают не совсем слаженный оркестр, который мог сопровождать екатерингофское гуляние, о котором беседовали Агафья Тихоновна и Подколесин, а затем последний подсчитывал дни, оставшиеся до этого события. Сходным образом и Пульхерия Ивановна подсчитывала уже ставшие редкими дубки в своих рощах. А ее дрожки с огромными кожаными фартуками наполняли воздух «странными звуками, так что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан…» (1, II, с. 20). И в этом случае «преображенная ассоциация» с «Женитьбой» сопровождается неприятным открытием, что дубки «так-таки совсем пропали».
Сей урон нанесли хозяйству старичков приказчик и войт, о злоупотреблениях которых автор-повествователь довольно подробно пишет. От них он переходит к рассказу о «страшных хищениях» дворовых, ключницы, свиней, кучеров и лакеев, гостей. Так приоткрывается еще одна «дверь»: в мир жадности, воровства, грозящих разорением и голодом. Эта едва намеченная и «покрытая» опять-таки авторским голосом опасность осуществляется в финале, в описании, как разорил имение наследник старичков.
Так постепенно начинает формироваться мотив угрозы краха, разрушения идиллического мирка. И связан данный мотив с образами мужчин: приказчика, войта, наследника. Но не только с ними. Главным источником подобной угрозы, как ни странно, становится Афанасий Иванович. Этот безобидный старичок, забывший, казалось бы, о своей довольно бурной молодости (был секунд-майором, увез Пульхерию Ивановну от родственников), время от времени любит довольно странно «пошутить». И «шутки» его недвусмысленно связаны с угрозой уничтожения идиллического пространства или с покиданием его ради войны.
«Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхериею Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем.
– А что, Пульхерия Ивановна, – говорил он, – если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?
– Вот это боже сохрани! – говорила Пульхерия Ивановна, крестясь.
– Ну, да положим, что дом наш сгорел, куда бы мы перешли тогда?
– Бог знает что вы говорите, Афанасий Иванович! как можно, чтобы дом мог сгореть: бог этого не попустит.
– Ну, а если бы сгорел?
– Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница.
– А если бы и кухня сгорела?
– Вот еще! бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом и кухня сгорели! Ну, тогда в кладовую, покамест выстроился бы новый дом.
– А если бы и кладовая сгорела?
– Бог знает что вы говорите! я и слушать вас не хочу! Грех это говорить, и бог наказывает за такие речи.
Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхериею Ивановною, улыбался, сидя на своем стуле» (1, II, с. 24).
«…И тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну:
– Я сам думаю пойти на войну; почему ж я не могу идти на войну?
– Вот уже и пошел! – прерывала Пульхерия Ивановна. – Вы не верьте ему, – говорила она, обращаясь к гостю. – Где уже ему, старому, идти на войну! Его первый солдат и застрелит! Ей-богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и застрелит.
– Что ж, – говорил Афанасий Иванович, – и я его застрелю.
– Вот слушайте только, что он говорит! – подхватывала Пульхерия Ивановна, – куда ему идти на войну! И пистоли его давно уже заржавели и лежат в коморе. Если б вы их видели: там такие, что, прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом. И руки себе поотобъет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется!
– Что ж, – говорил Афанасий Иванович, – я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или козацкую пику.
– Это все выдумки. Так вот вдруг придет в голову, и начнет рассказывать, – подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. – Я и знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот эдакое он всегда говорит, иной раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет.
Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле» (1, II, с. 25–26).
Отголоски молодости, войны, отваги в этих «шутках» (особенно во второй) тоже отдаленно связаны со случайным персонажем из беседы Агафьи Тихоновны и Подколесина. В их неспешном разговоре о катании на лодке, цветах, гуляниях вдруг неожиданно возникает образ бесстрашного русского человека, «щекатура», работающего высоко над землей и ничего не боящегося…
В контексте «Старосветских помещиков» оттенки бесстрашия, дерзких картин воображаемого разрушения уже выглядят явным диссонансом идиллическим картинам мелкопоместного быта. Хотя бы потому, что действительно отчасти пугают Пульхерию Ивановну («да и страшно станет», «грех это говорить»). Так Гоголь, создавая образ Афанасия Ивановича, формирует смысловой оттенок угрозы, исходящей от него. Опутанный, казалось бы, сетями быта, «прирученный» с помощью еды и заботы, зависящий от Пульхерии Ивановны, как дитя от матери, он, между тем, сохранил в душе своей «уголок» свободолюбия – главного качества мужского гендера, оттененное в финале «Женитьбы».
Именно этот мотив пронизывает его «шутки»: утрату спокойной обители и принятие решений, где жить дальше, а также неукротимое желание пойти на войну вопреки угрозам и уговорам жены.
Именно этот мотив свободолюбия, способности порвать «привязанность», презрев сытую жизнь, заботу, зависимость, развивается в одном из ключевых эпизодов, приведших к гибели и разрушению того насквозь женского духа, что царил в идиллическом и буколическом существовании старосветских помещиков. Это эпизод с бегством кошечки, «печальное событие, изменившее навсегда жизнь этого мирного уголка» (1, II, с. 27). Именно возвращение и новое бегство кошечки, как считает Г.А. Гуковский, делит повесть на две части: развернутую экспозицию и сюжетно-событийную.
Пульхерия Ивановна «нельзя сказать, чтобы… слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкла ее всегда видеть» (1, II, с. 28). И вдруг это «тихое творение», следуя инстинктам, оказалось в компании лесных котов, прорывших дыру-лаз под амбаром и сманивших кошечку в мрачный лес, «как отряд солдат подманивает глупую крестьянку». Возвращение «худой, тощей» беглянки через три дня сопровождается кормлением, подзыванием. Но попытка погладить ее приводит к стремительному бегству в окошко…
Эта явная ассоциация с бегством Подколесина формирует ироническую ноту в авторском рассказе. Но, на первый взгляд, выглядит несколько странной, так как соотнесена с «особой», принадлежащей женскому мирку и противопоставленной пристрастиям к собакам Афанасия Ивановича. В этом плане поведение кошки отдаленно напоминает опрометчивые поступки дворовых девок, с беременностями которых Пульхерия Ивановна научилась мириться.
Но именно бегство не слишком-то и любимой кошечки почему-то производит на нее совершенно исключительное впечатление. Она убеждена, что «это смерть моя приходила за мною!» (1, II, с. 30). Читателю остается лишь догадываться о причинах столь странного умозаключения. И одна из основных «подсказок» Гоголя – это постепенно зреющая угроза разрушения того мирка, что позволял Пульхерии Ивановне удерживать Афанасия Ивановича, «опутывать» и ограничивать свободолюбие его натуры. История с кошечкой показала хозяйке, что ни привязанность, ни сытая и обильная еда, ни ласка (материнская) не способны противостоять инстинкту. Что рано или поздно некие «коты» (возможно, гости, приходящие из большого и чуждого мира – «леса») пророют свои «лазы» (разговоры, вызывающие любопытство Афанасия Ивановича) и «подманят» наивного, как дитя, ее мужа. И тогда ее мир рухнет в одночасье, породив «грусть», «скуку», неизбывную тоску оставленной матери-жены (поведение перед смертью).
Поэтому в твердой решимости Пульхерии Ивановны умереть смутно угадывается некий последний расчет, как удержать Афанасия Ивановича возле себя, привязать его окончательно. Роль таких пут должна сыграть не только посмертная печаль, но то постоянное ощущение отсутствия Пульхерии Ивановны, о котором будут напоминать сотни мелочей, которыми она ранее незаметно окружала беспечного мужа. Теперь эти мелочи, связанные с нею, не дадут угаснуть воспоминаниям Афанасия Ивановича о потерянной жене, будут постоянно «взывать» к его печали. Так Пульхерия Ивановна нашла свои «подземные ходы» к «амбарам и кладовым» свободы Афанасия Ивановича и, уподобившись кошечке, «выскочила в окно» другого мира.
В результате образ кошечки выступил в функции «двойного зеркала», отразившего одновременно и инстинкт свободолюбия мужского гендера, и способ его уловления женским. Данный прием опять-таки заставляет вспомнить о сходной роли символического образа приданого Агафьи Тихоновны и устойчивом мотиве зеркальных отражений в «Женитьбе».
Бессознательный расчет Пульхерии Ивановны принес свои плоды. Она не только завещала сшить из ее атласного платья халат для приема гостей (мотив маски?), готовить любимые блюда для Афанасия Ивановича, подавать ему всегда чистое белье и платье. Смысловая инерция ее образа и в этом случае скрывает тайные и почти иррациональные намерения. На поверхности лежит все та же забота о муже-ребенке («…чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия»). Но на деле она достигает тайно желаемого[17]17
У. И.А. Есаулова иная точка зрения. Он считает, что Явдоха нарушила завет Пульхерии Ивановны, положив тем самым начало процессам апостасии в повестях цикла (118).
[Закрыть]. Автор-повествователь рассказывает вначале о разительном контрасте «бесчувственных слез» при погребении Пульхерии Ивановны и горьком потоке слез при виде вынесенного стула умершей после ее похорон. Его недоумение и явная неспособность внятно объяснить причины горя старика возрастают после истории о молодом человеке, потерявшем возлюбленную. Неистовое горе юноши, покушавшегося на свою жизнь, все же угасло. Через год после последней попытки прервать свои мучения он женат и внешне спокоен[18]18
Ю.М. Манн через этот эпизод пытается определить главный принцип сюжетного выстраивания повести. По его мнению, она «строится на многократном эффекте неожиданности, нарушении «правил»: страстно влюбленный юноша не должен был забыть умершую подругу, но забыл, Афанасий Иванович – напротив, должен был забыть, но не смог (204, с. 165).
[Закрыть].
А вот Афанасий Иванович и через пять лет ежеминутно страдает от отсутствия супруги[19]19
Г. А. Гуковский последовательно доказывает, что двух старичков связывало настоящее глубокое чувство любви, а не просто привязанности или привычки (87). М.М. Пришвин в своем впечатлении о повести, напротив, высказывает мысль, что источником подлинной любви-привязанности является именно привычка (250, с. 235–236). А.М. Ремизов усмотрел в привязанности старичков абсолютную «любовь человека к человеку», любовь, соотносимую с пребыванием души в раю (254, с. 534–536).
[Закрыть]. Каждая мелочь, неудобство, плохой уход – все буквально вопиет о ней (нож без черенка, не столь искусно приготовленные кушанья, нерасторопный мальчик, заставляющий ждать смены блюд, мнишки со сметаною). Особый эмоциональный всплеск связан именно с любимым блюдом «покойницы». Она как будто оказалась в этот момент третьей за столом (возвращение «кошечки»?) и вызвала слезы, подобные ручью или фонтану.
Этот образ фонтана, источающего слезы, вызывает достаточно отчетливую ассоциацию с «Бахчисарайским фонтаном» Пушкина, побуждая видеть в Пульхерии Ивановне возвышенный образ безвременно умершей Марии, а в Афанасии Ивановиче – скорбящего хана Гирея, утратившего идеально-возвышенное воплощение любви…
Благодаря ассоциации с героями пушкинской поэмы Гоголь активизирует мотивы зеркала и маски, пришедшие в данном случае из «Женитьбы». Зеркальность в том, что уподобление Марии активизирует смыслы «убегания из плена», придает образу Пульхерии Ивановны оттенки обретенной свободы. В этом она уподобляется поведению мужского гендера, как бы берет на себя его роль. В свою очередь, мужчина облекается в подобие женской маски. И это не только халат, перешитый из платья. Это, в первую очередь, та «тина мелочей», в которую он не просто погружен, а продолжает сам ткать вокруг себя. Причем эта «сеть», наконец, уловила и его сознание, внимание, чего при жизни Пульхерии Ивановны не было. Раньше он слушал гостя и входил во все обстоятельства его рассказа. Теперь не то: «…он слушал с тою же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не бродили, но исчезали» (1, II, с. 35).
После столь продолжительного испытания привязанностью, превратившейся в подобие страстного влечения к потерянной возлюбленной (Гирей – Мария, молодой человек – его «ангел»), ставшей почти «инстинктом» Афанасия Ивановича, зов Пульхерии Ивановны из потустороннего мира выглядит решающим в разрушении земной идиллии и довершении божьего промысла в мире небесном. Этот призыв, звучащий довольно буднично («Афанасий Иванович!»), напоминает не только голос Агафьи Тихоновны в открытую дверь. Он еще и связывает, подобно мосту, земное и небесное, символизирует окончательное «порабощение» Афанасия Ивановича. В потоке предшествующих ассоциаций он напоминает подзывание собаки, соотнесенной с мужским гендером: «Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он наконец произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня!» (1, II, с. 37).
В описании смерти Афанасия Ивановича без труда угадываются уже упомянутые мотивы зеркала и маски, поскольку он умирает так же, как его жена. «Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял как свечка и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны», – вот все, что произнес он перед своей кончиною» (1, II, с. 37).
В результате отсроченная развязка мифологических ассоциаций, наконец, состоялась: Филемон воссоединился со своей Бавкидой, два «ствола» проросли из одного «корня», но не земного, а небесного, загробно-мистического. Этому воссоединению предшествовало испытание утратой возлюбленной и искания ее в глубинах «ада»-жизни (миф об Орфее и Эвридике угадывается при описании мук молодого человека, утратившего возлюбленную).
Так Гоголь наметил один из путей примирения мужского и женского, их обретения друг другом. Женское начало отбросило попытки уловить свободолюбие мужского в «сеть мелочей» заботы и еды. Оно само должно уподобиться мужскому (приняв смелое решение, разрушив привычное течение жизни неожиданным поступком, каким стала смерть Пульхерии Ивановны) и «выскочить в окно» другого мира. Только в этом случае на женский голос из отверстой «двери» иного мира откликнется мужской. Он сам в этом случае, добровольно, откажется от своей свободы, уподобится женскому гендеру, перестанет лелеять надежду, что его Эвридика может быть возвращена благодаря его отваге и усилиям, и обретет в ином мире единение с утраченным.
Плата за это воссоединение, за этот вновь обретаемый Эдем[20]20
Ассоциации с райским садом, возникающие в повести, наиболее глубоко прочувствовал
А.М. Ремизов. Любовь главных персонажей повести в контексте данной ассоциации выглядит в интерпретации Ремизова как вечное и абсолютное чувство, связывавшее Адама и Еву (254, с. 534–536). Он также усматривает «библейское» в «завещательном последнем слове Пульхерии Ивановны» (254, с. 535).
[Закрыть] (вариации Адама и Евы) – почти добровольный отказ от главного качества мужского гендера – свободы, ее почти инстинктивного искания. А вот женский гендер, одевая личину мужского, только усиливается в своей «уловляющей функции». Ведь он обретает в этом случае могучего союзника – смерть (кошечку?). И отчасти в этом случае женский гендер оказывается сам союзником Бога, возвращающего с помощью уловки Евы убежавшего от наказания Адама, вкусившего с древа познания, но ускользнувшего от грехопадения и божьей кары в «окно» земного мира (поток ассоциаций с библейскими реминисценциями «Женитьбы»).
* * *
Вторая повесть цикла «Миргород»[21]21
Различные трактовки повести разбираются И.А. Есауловым в указ. кн. (Гл. 3). Свою концепцию «героической повести» он строит на анализе совпадения – несовпадения «субстанционального единства героя» и его социально-исторической «роли».
[Закрыть], «Тарас Бульба», явно создана Гоголем на основе принципа зеркальности по отношению к предыдущей. Ее «симметрия» к «Старосветским помещикам» отчетливо просматривается в стремлении автора создать в самом начале новой повести «мир мужской», но построив его с теми же акцентами и нюансами, что и «мир женский» в предыдущем повествовании.
Поэтому экспозиция «Тараса Бульбы» основана на резком разрыве связей главных персонажей-мужчин (Тарас и его сыновья) с бытом и матерью. В свете смысловых связей первой повести цикла – это два главных источника «уловления» мужского гендера, способов его «привязывания» к женскому. Тарас не дает детям и суток побыть дома, так как это чревато возобновлением нежно-родственных чувств к матери через ее заботу и еду из ее рук.
«…Дитя молодое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет их биться!»
«…Не слушай, сынку, матери: она – баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба – чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба! А видите вот эту саблю? вот ваша матерь!..»
«…И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них!» (1, II, с. 42–43).
Обращает на себя внимание отчетливое эмоционально-смысловое противостояние повторяющихся слов в цитируемом отрывке. «Нежба» в устах Тараса звучит нарочито грубовато, предполагает выстраивание «мужских» коннотатов. «Не удастся» в репликах матери звучит как причитание, оплакивание тех возможностей, которые изначально предполагались в связи с приездом сыновей.
Тарас, предваряя опасность «уловления» своих сыновей в «сети» еды, горячительных напитков, в которые попал Афанасий Иванович, требует, чтобы не было «пампушек, медовиков, маковников и других пундиков; тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела как бешеная» (1, II, с. 43).
Помимо связей с домом, матерью (еда и забота), Бульба столь же резко рвет связи детей с бурсой, учебой в ней. «Это все дрянь, чем набивают головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и философия – все это ка зна що, я плевать на все это!» (1, II, с. 43).
Причина такого небрежения образованием приоткрывается в начале второй главы, где дается развернутое описание бурсы. И дело не только в оторванности схоластических наук от жизни и ее насущных потребностей. Более глубокая и важная причина в том, что в бурсе царит дух дисциплины, жесткого и даже жестокого подчинения молодых мужчин требованиям и уставу. Во-первых, обучение в Киевской академии диктовалось «необходимостью дать воспитание своим детям» (1, II, с. 53). «Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались…» (1, II, с. 53). «Шлифовка» заключалась в порке за леность и нежелание учиться (Остап). Бурса обуздывала такой инстинкт, как голод, связанное с ним воровство. Ее главное оружие были все те же лоза и плети. В этих условиях могли развиться такие качества мужчины, как стойкость, прямодушие, доброта (Остап), но и изворотливость, скрытность (Андрий).
Сковывающие силы дома и бурсы – вот что презирает Тарас Бульба. И причина этого презрения – в его характере, независимом, воинственном, свободолюбивом и упрямом. «Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу поеду! – И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. – Завтра же едем! Зачем откладывать! Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти горшки? – Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки» (1, II, с. 45–46).