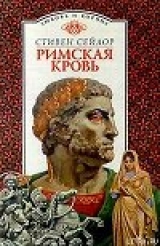
Текст книги "Римская кровь"
Автор книги: Стивен Сейлор
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Цицерон поморщился.
– Гортензий предупреждал, что ты будешь говорить о политике.
– Только потому, что политика – это воздух, которым мы дышим. Я делаю вдох, и что другое может из меня выйти? Возможно, в других городах все обстоит по-другому, только не в нашей республике и не в наше время. Хочешь – называй это политикой, хочешь – действительностью. Банды существуют по одной-единственной причине. Никто не способен от них избавиться. Все их боятся. Человек, склонный к убийству, найдет, как их использовать. Он только последует примеру удачливого политика.
– Ты имеешь в виду…
– Я не имею в виду никакого конкретного политика. Они все пользуются бандами или пытаются ими воспользоваться.
– Но ты имеешь в виду Суллу.
Цицерон произнес это имя первым, к моему удивлению. Это поразило меня. В какой-то момент разговор вышел из-под контроля, быстро приобретая черты заговора.
– Да, – согласился я. – Если ты настаиваешь, Суллу. – Я отвел глаза, посмотрел на желтую занавеску и обнаружил, что пристально всматриваюсь в прозрачную ткань, словно в смутных очертаниях за нею были различимы картины старого кошмара. – Ты был в Риме, когда начались проскрипции?
Цицерон кивнул.
– Я тоже. Тогда ты знаешь, на что это было похоже. Каждый день на Форуме вывешивали новый список проскрибированных. Кто же всегда оказывался первым у этих списков? Нет, не те, чьи имена могли в них попасть: ведь они тряслись от страха дома или благоразумно прятались за городом. Первыми всегда были шайки и их главари, потому что Сулле было все равно, кто уничтожит его врагов – настоящих или воображаемых, лишь бы они были уничтожены. Приходишь с головой проскрибированного, переброшенной через плечо, даешь расписку и получаешь взамен мешок серебра. Чтобы заполучить голову, не останавливайся ни перед чем. Взломай дверь в доме гражданина. Избей его детей, изнасилуй жену, но не трогай его драгоценностей, потому что как только его голова отделится от тела, имущество проскрибированного римлянина становится собственностью Суллы.
– Не совсем так…
– Конечно, я выразился не точно. Я хотел сказать, что, после того как враг государства обезглавлен, его состояние конфискуется и переходит в собственность государства; другими словами, оно будет продано с аукциона друзьям Суллы в первый же подходящий день и по смехотворным ценам.
При этих словах побледнел даже Цицерон. Он превосходно скрывал свою взволнованность, но я заметил, что на мгновение его глаза забегали из стороны в сторону, словно он опасался соглядатаев, прятавшихся среди свитков.
– Ты человек твердых убеждений, Гордиан. Жара развязала тебе язык. Но как это все связано с нашим делом?
Я не мог удержаться от смеха.
– А о чем идет речь? Кажется, я совсем забыл об этом.
– Как устроить убийство, – парировал Цицерон с выражением наставника риторики, который пытается вернуть непослушного ученика к обсуждению предписанной темы. – Убийство по чисто личным мотивам.
– Что ж, тогда я только пытаюсь показать, как просто в наши дни подыскать добровольного убийцу. И не только в Субуре. Посмотри на угол любой улицы, хотя бы даже твоей. Готов поспорить, что стоит мне выйти за дверь и разок пройтись по кварталу, как я вернусь с новонайденным другом, который с удовольствием прирежет моего разгульного, распутного, гипотетического отца.
– Ты заходишь слишком далеко. Если бы ты получил риторическую подготовку, то знал бы, что свои пределы имеет даже гипербола.
– Я не преувеличиваю. Банды вконец осмелели. В этом повинен Сулла и больше никто. Он сделал их своими личными крысоловами. Он и никто другой выпустил эту свору жадных волков на улицы Рима. Пока в прошлом году проскрипции не были официально приостановлены, банды имели почти неограниченное право охотиться и убивать. Вот они приносят голову невинного, голову человека, которого нет в списке. Ну и что? Несчастный случай. Внеси его имя в список проскрибированных. Задним числом покойник становится врагом государства. Его семья лишится наследства, дети будут разорены, обречены на нищету и станут свежим кормом для банд, но какое это имеет значение? Кроме того, это значит, что какой-нибудь из друзей Суллы приобретет новый дом в городе.
Цицерон смотрел на меня, словно человек, измученный зубной болью. Он поднял руку, чтобы остановить меня. Я тоже поднял руку в знак того, чтобы он меня не перебивал.
– Постой: я только подхожу к самому главному. Видишь ли, во время проскрипций пострадали не только богатые и могущественные. Стоит открыть ящик Пандоры, и его уже не закроешь. Преступление входит в привычку. Немыслимое становится общим местом. Отсюда, где ты живешь, этого не увидеть. Твоя улица слишком узка, слишком тиха. Сквозь ее мостовую не прорастает сорняк. О, вне всяких сомнений, в худшие времена нескольких твоих соседей вытащили посреди ночи из дому и… А может быть, с твоей крыши виден Форум, и в ясный день ты пересчитывал появившиеся на пиках новые головы.
Но я знаю иной Рим, Цицерон, тот Рим, который оставлен потомкам Суллой. Говорят, что он скоро уйдет на покой, оставив после себя новую конституцию, которая усилит высшие классы и поставит народ на место. Что же это за место, как не тот опутанный преступлениями Рим, завещанный нам Суллой? Мой Рим, Цицерон. Рим, который плодится во мраке, оживает ночью, дышит воздухом порока, не приукрашенного ни политикой, ни богатством. В конце концов, ты ведь позвал меня именно для этого, не так ли? Для того, чтобы я взял тебя в этот мир или сошел в него сам и принес тебе то, что ты ищешь. Вот то, что я могу тебе предложить, если ты ищешь правды.
Вернулся Тирон, принесший серебряный поднос с тремя чашами, круглой буханкой хлеба, сушеными яблоками и белым сыром. Его присутствие немедленно отрезвило меня. Мы не были более двумя мужчинами, которые с глазу на глаз говорят о политике, но были двумя гражданами и рабом или двумя мужчинами и ребенком, принимая во внимание невинность Тирона. Я никогда не стал бы говорить с таким безрассудством, если бы он не вышел из комнаты. Я и так боялся, что сказал лишнее.
Глава пятая
Тирон поставил поднос на низкий столик между нами. Цицерон посмотрел на еду без всякого интереса.
– Зачем столько, Тирон?
– Уже почти полдень, господин. Гордиан, наверно, проголодался.
– Что ж, очень хорошо. Мы должны показать ему наше гостеприимство. – Он уставился на поднос, но, казалось, не видел его. Потом он легонько потер виски, словно я до отказа забил его голову мятежными мыслями.
После прогулки меня не оставляло чувство голода. От разговора пересохло во рту. Разгоряченный, я испытывал сильную жажду. Тем не менее я терпеливо ждал, пока Цицерон приступит к трапезе (пусть в политике я придерживаюсь крайних мнений, мои манеры безупречны), как вдруг Тирон заставил меня вздрогнуть: решительно наклонившись над подносом, он отломил себе кусок хлеба и потянулся за чашей.
В такие мгновения узнаешь, сколь глубоко укоренились в душе условности. Вопреки тому, что жизнь научила меня видеть всю нелепость рабства и неисповедимость рока, вопреки тому, что с первого мига нашей встречи я старался обращаться с Тироном как с человеком, я испустил тихий вздох при виде того, как раб первым берет пищу со стола, когда его хозяин и не думает приступать к еде.
Они заметили мое замешательство. Озадаченный Тирон поднял на меня глаза, а Цицерон улыбнулся.
– Гордиан поражен. Он не привык к нашим порядкам, Тирон, и к твоим манерам. Не беспокойся, Гордиан. Тирон знает, что я никогда не ем в полдень. Обычно он начинает, не дожидаясь меня. Пожалуйста, поешь и ты. Сыр очень хорош – его прислала аж из самой арпинской сыроварни моя заботливая бабушка. Что до меня, то я пригублю вина. Самую капельку; оказавшись в такую жару в желудке, оно, похоже, там и прокиснет. Разве я один страдаю этим недугом? В разгар лета я не ем вовсе и подолгу пощусь. К тому же, пока твой рот будет набит едой, а не разговорами о государственной измене, у меня, быть может, появится шанс немного рассказать о том, зачем я тебя позвал.
Цицерон сделал глоток и слегка поморщился, точно вино прокисло, едва коснувшись его губ.
– Мы только что отклонились от нашей темы в сторону, ты не находишь? Как ты думаешь, Тирон, что сказал бы на это Диодот? Зачем я платил этому старому греку все эти годы, если даже не могу поддерживать чинную беседу у себя в доме? Бесчинная речь не только непристойна; в неподходящее время и в неподходящем месте она может оказаться смертельной.
– Я так и не уразумел, о чем же мы говорим, уважаемый Цицерон. Кажется, я припоминаю: мы замышляли убить чьего-то отца. Моего отца или, может быть, отца Тирона? Нет, они и так уже мертвы. Возможно, речь шла о твоем?
Цицерон даже не улыбнулся.
– Я предложил обсудить гипотетический случай, Гордиан, просто для того, чтобы ты высказался о некоторых обстоятельствах – способах, осуществимости, вероятности – непридуманного и жуткого преступления. Преступления, которое уже совершилось. Трагизм ситуации состоит в том, что один старый землевладелец из Америи…
– Весьма напоминающий описанного тобою старика?
– Его точная копия. Как я уже сказал, некий землевладелец из Америи был убит на улицах Рима в сентябрьские Иды, в ночь полнолуния, – почти восемь месяцев тому назад. Его имя ты, похоже, уже знаешь: Секст Росций. Итак, ровно через восемь дней – в Иды мая – сын Секста Росция предстанет перед судом; он обвиняется в том, что подготовил убийство своего отца. Я буду его защищать.
– Боюсь, что с таким защитником не будет нужды в обвинителе.
– О чем ты?
– Если судить по твоим словам, кажется очевидным, что ты убежден в виновности сына.
– Глупости! Разве я клонил к этому? Думаю, я вправе гордиться. Я просто пытался изобразить дело так, как его, возможно, подадут обвинители.
– Ты хочешь сказать, что уверен в невиновности этого Секста Росция?
– Конечно! Иначе зачем бы я стал защищать его от столь неслыханных обвинений?
– Цицерон, мне достаточно хорошо известны адвокаты и ораторы, и я знаю, что им не обязательно верить в то, что они собираются доказывать. И им совсем не обязательно верить в невиновность человека, чтобы его защищать.
Сидевший напротив Тирон метнул на меня сердитый взгляд:
– Вы не имеете права, – сказал он с отчаянием, и голос его неожиданно пресекся, – Марк Туллий Цицерон – человек самых высоких убеждений, безупречной честности, человек, который говорит то, во что верит, и верит во все, что говорит; возможно, в наши дни такие люди – редкость, но все равно…
– Прекрати! – Голос Цицерона звучал мощно, но в нем почти не было гнева. Он поднял руку в запрещающем жесте ораторов и, казалось, едва удерживался от смеха. – Прости молодому Тирону, – продолжил он с оттенком доверительности, наклонившись ко мне. – Он преданный слуга, и я благодарен ему за это. Таких сегодня днем с огнем не сыщешь.
Он бросил на Тирона взгляд, выражающий чистую привязанность – открытую, искреннюю, нескрываемую. Тирон неожиданно счел за благо отвести глаза в сторону и рассматривать стол, поднос с едой, едва колыхающуюся занавеску.
– Но, пожалуй, он иной раз чересчур предан. Что ты думаешь, Гордиан? А что думаешь ты, Тирон: не выставить ли нам такое положение перед Диодотом, когда он за нами пришлет, и не посмотреть ли, как поступит с ним учитель риторики? Прекрасная тема для спора: возможно ли, чтобы раб был чересчур предан своему господину. Другими словами, слишком восторжен в своей привязанности, слишком ревностен в защите своего хозяина.
Цицерон мельком взглянул на поднос и, потянувшись за кусочком сушеного яблока, взял его большим и указательным пальцами и стал внимательно рассматривать, словно бы взвешивая, вынесет ли его хрупкая конституция даже такой крошечный кусочек в разгар полдневного зноя. Образовалась пауза, лишь птичьи трели доносились из атрия. Объятая тишиной комната, казалось, вновь задышала, вернее, попыталась задышать, тщетно силясь уловить слабое дуновение и терпя неудачу; занавеска то подавалась немного вперед, то назад, то снова вперед, но этого было недостаточно, чтобы порыв воздуха проник внутрь или вышел наружу, как будто ветерок был теплой и осязаемой субстанцией, пойманной в западню парчовой каймой занавески. Цицерон нахмурился и снова положил яблоко на поднос.
Внезапно занавеска издала громкий хлопок. Поток горячего воздуха закружился вдоль стен и вокруг моих ног. Комната наконец разразилась потаенным вздохом.
– Ты спрашиваешь, верю ли я в то, что Секст Росций невиновен в гибели своего отца? – Цицерон распрямил пальцы и прижал их кончиками друг к другу. – Я отвечаю: да. Когда ты с ним встретишься, ты тоже уверишься в его невиновности.
Похоже, мы могли, наконец, всерьез заняться делом. Мне надоело обмениваться колкостями в кабинете Цицерона, надоела желтая занавеска и удушливая жара.
– Как именно убили старика? Дубинки, ножи, камни? Сколько было нападавших? Их видели? Можно ли их опознать? Где находился сын в момент убийства и как он узнал о смерти отца? У кого еще были причины убить старика? Что сказано в завещании? Кто выступает обвинителем сына и почему? – Я сделал паузу, но только затем, чтобы хлебнуть вина. – И скажи мне еще…
– Гордиан, – рассмеялся Цицерон, – если бы я все это знал, то разве понадобились бы мне твои услуги?
– Но кое-что ты должен знать.
– Больше, чем кое-что, но все равно недостаточно. Очень хорошо, что я могу ответить на последний твой вопрос. Обвинение предъявлено истцом Гаем Эруцием. Я вижу, ты слышал о нем, или у тебя во рту вино превратилось в уксус?
– Мало сказать, слышал, – ответил я. – Время от времени я работал на него, но только чтобы не умереть с голоду. Эруций родился рабом на Сицилии; сейчас это – вольноотпущенник, который имеет в Риме самую сомнительную юридическую практику. Он выступает в суде не ради почестей, а ради денег. Если бы ему заплатили золотом, он стал бы защищать человека, изнасиловавшего его собственную мать, а затем, будь это выгодно, привлек бы к суду старуху по обвинению в клевете. Есть какие-нибудь догадки по поводу того, кто нанял его взять это дело?
– Нет, но когда ты встретишь Секста Росция…
– Ты не перестаешь повторять, что я вот-вот с кем-нибудь встречусь – сначала с Цецилией Метеллой, теперь с Секстом Росцием. Они что, скоро будут здесь?
– Будет лучше, если мы сами нанесем им визит.
– Что вселяет в тебя уверенность, что я соглашусь? Я пришел сюда потому, что, как мне показалось, ты можешь предложить мне работу, но до сих пор я даже не понял, что тебе нужно. К тому же ты ничего не сказал об оплате.
– Мне известны твои обычные гонорары, по крайней мере со слов Гортензия. Полагаю, уж он-то о них осведомлен.
Я кивнул.
– Что до работы, то мне нужно следующее: я хочу доказательств невиновности Секста Росция в убийстве своего отца. Более того, я хочу найти настоящих убийц. Мало и этого: я хочу знать, кто нанял убийц и почему. И все это за восемь дней, пока не наступили Иды.
– Ты говоришь так, словно я уже взялся за это дело. Может быть, оно меня не интересует, Цицерон.
Он покачал головой и сжал губы в едкой усмешке.
– Ты не единственный, Гордиан, кто может составить представление о характере другого человека еще до встречи с ним. Мне известны кое-какие твои обстоятельства. Мне известны три факта, и любой из них способен побудить тебя взяться за это дело. Во-первых, тебе нужны деньги. Если человек с твоими средствами живет на Эсквилине, это значит, что денег ему всегда не хватает. Я прав?
Я пожал плечами.
– Во-вторых, Гортензий говорил мне, что ты любишь тайну. Вернее, ненавидишь тайну. Ты принадлежишь к тому типу людей, которые не выносят неизвестности, которые считают своей обязанностью отделить истину от лжи, извлечь порядок из хаоса. Кто убил старика Росция, Гордиан? Ты уже на крючке, как рыба, проглотившая наживку. Не спорь.
– Допустим
– В-третьих, ты человек, любящий справедливость.
– Об этом тебе тоже поведал Гортензий? Он вряд ли встречал справедливого человека с тех самых пор.
– Никто мне этого не говорил. К такому выводу я пришел самостоятельно в последние полчаса. Никто не станет излагать свои мысли столь же откровенно, как ты, не любя справедливости. Тебе предоставляется возможность увидеть, как свершается правосудие, – подался вперед Цицерон. – Сможешь ли ты безучастно смотреть на то, как казнят невинного? Итак, ты берешься за это дело или нет?
– Берусь.
Цицерон хлопнул в ладоши и вскочил на ноги.
– Хорошо. Очень хорошо! Мы сейчас же отправляемся к Цецилии.
– Сейчас? В такое пекло? День в самом разгаре.
– Нельзя терять времени. Если ты плохо переносишь жару, я вызову носилки. Но нет, это займет слишком много времени. Здесь недалеко. Тирон, принеси нам две широкополых шляпы.
Тирон посмотрел на хозяина умоляющим взглядом.
– Ладно, принеси три шляпы.
Глава шестая
– Что заставляет тебя думать, что она вообще будет бодрствовать в этот час?
Форум был пуст. Блестел нагретый булыжник. Вокруг не было ни души, не считая нашей троицы, воровато кравшейся по плитам мостовой. Я ускорил шаг. Тонкие подошвы моих башмаков не спасали от жара раскаленных камней. Я заметил, что оба моих спутника носят более дорогую обувь с толстыми кожаными подошвами, лучше защищающими стопы.
– Цецилия будет бодрствовать, – уверил меня Цицерон. – Она страдает неизлечимой бессонницей: насколько я могу судить, она вообще никогда не спит.
Мы достигли начала Священной дороги. Сердце мое упало, стоило мне вглядеться в крутую, узкую улицу, что вела к пышным виллам на вершине Палатинского холма. В мире были только солнце и камень, и ни клочка тени. В зыбком горячем воздухе вершина холма казалась размытой и смутной, очень и очень далекой.
Мы начали восхождение. Впереди шел Тирон – подъем давался ему без усилий. Было что-то странное в его готовности пойти с нами, нечто большее, чем простое любопытство или желание сопровождать своего хозяина. Я слишком страдал от жары, чтобы ломать голову еще и над этим.
– Я должен попросить тебя об одной вещи, Гордиан, – Цицерон начинал проявлять первые признаки усталости, но продолжал говорить, преодолевая их, как истинный стоик. – Я оценил откровенность, с которой ты высказывал свои убеждения в моем кабинете. Никто не вправе упрекнуть тебя в нечестности. Но придержи язык в доме Цецилии. Ее семья – давние родичи Суллы: его четвертой женой была покойная Метелла.
– Ты имеешь в виду дочь Делматика? Ту, с которой Сулла развелся, когда она лежала на смертном одре?
– Именно. Метеллы не были довольны разводом, несмотря на извинения Суллы.
– Авгуры изучили сосуд с овечьими внутренностями и сказали ему, что болезнь жены осквернит его дом.
– Так говорит Сулла. Саму Цецилию твои слова, по всей вероятности, не оскорбят, но этого не скажешь наверняка. Она старая женщина без мужа и детей. У нее странные привычки: так случается с женщинами, которые слишком долго предоставлены самим себе, у которых нет ни мужа, ни семьи, а потому они и не могут заняться чем-нибудь здравым. Она страстно увлекается любым восточным суеверием, какое появляется и входит в моду в Риме: чем более оно чужеземное и диковинное, тем лучше. Она почти не обращает внимания на дела земные.
Но похоже, в этом доме найдется человек с более чутким слухом и острым зрением. Я думаю о моем добром юном друге Марке Мессале: за его рыжие волосы мы прозвали его Руфом. Он не чужой в доме Цецилии Метеллы; она знала его еще ребенком и относится к нему как к племяннику. Славный молодой человек – впрочем, он совсем еще мальчик, ему только шестнадцать. Руф довольно часто захаживает ко мне на собрания, лекции и по другим поводам, и он уже весьма искушен в юридических тонкостях. Он очень хотел бы помочь в деле Секста Росция.
– Но?
– Но его родственные связи делают его опасным.
Он двоюродный брат Гортензия: когда Гортензий отказался от дела, то он послал ко мне именно Руфа с просьбой взять его на себя. Что еще важнее, старшая сестра юноши – это та самая юная Валерия, которая недавно стала шестой женой Суллы. Бедный Руф не особенно любит своего новоявленного шурина, но этот брак поставил его в неуклюжее положение. Я просил бы тебя воздержаться от критики нашего уважаемого диктатора в его присутствии.
– Конечно, Цицерон. – Выходя этим утром из дома, я совсем не ожидал, что буду вращаться среди высшей знати, к которой принадлежали Метеллы и Мессалы. Я окинул взглядом свою одежду – простую тогу гражданина поверх скромной туники. Единственным пурпурным пятном на моей тоге был след от вина возле самой кромки. По словам Бетесды, она потратила немало часов на безуспешные попытки его удалить.
Когда мы достигли вершины, даже Тирон выглядел утомленным. Его черные кудри прилипли ко лбу, лицо раскраснелось от усталости, или, скорее, от возбуждения. Я еще раз подивился той охоте, с какой он стремился попасть в дом Цецилии Метеллы.
– Вот он, – пропыхтел Цицерон и смолк, чтобы перевести дыхание. Перед нами высился длинный, покрытый розовой штукатуркой дом, который был окружен древними дубами. Вход был осенен портиком; по его краям стояли двое солдат в шлемах, в полном боевом снаряжении с мечами на ремнях и копьями в кулаках. Седеющие ветераны Суллы, подумал я и вздрогнул.
– Стража, – сказал Цицерон, делая неопределенный жест рукой, пока мы поднимались по ступенькам. – Не обращай внимания. Они, должно быть, умирают от жары во всей этой коже. Тирон!
Тирон, увлеченно разглядывавший амуницию стражников, проскочил перед хозяином, чтобы постучать в тяжелую дубовую дверь. Прошло немало времени, пока мы стояли, затаив дыхание и сняв шляпы, под покровом тенистого портика.
Неслышно повернувшись на петлях, дверь открылась внутрь. На нас повеяло приветливой прохладой и запахом ладана.
Тирон и раб-привратник обменялись обычными любезностями («Мой господин пришел повидать твою госпожу»), затем мы еще немного подождали, пока из прихожей не вышел раб, чтобы препроводить нас в дом. Он взял у нас шляпы и ушел звать другого раба, который объявит хозяйке о нашем приходе. Я посмотрел через плечо на привратника, который сидел на скамейке рядом со входом, занятый каким-то рукодельем; его ноги были прикованы к стене цепью достаточно длинной, чтобы он мог подходить к двери.
Вошел раб, который должен был проводить нас к госпоже; он был явно разочарован, найдя в прихожей Цицерона, а не какого-нибудь униженного клиента, из которого он мог бы выжать несколько динариев, прежде чем позволить ему пройти дальше в дом. По незначительным признакам – высокому голосу, видимой припухлости груди – я понял, что перед нами евнух. Если на Востоке они – незаменимая и древняя часть общественной ткани, то в Риме кастраты – редкость, и на них взирают с нескрываемым отвращением. Цицерон говорил, что Цецилия – адепт восточных культов, но держать евнуха в своем доме – вот уж воистину диковинная жеманность.
Мы последовали за ним через атрий и поднялись по мраморным ступеням. Раб отогнул занавеску, и вслед за Цицероном я очутился в комнате, которая была бы вполне уместна в дорогом александрийском борделе.
Казалось, мы вступили в высокий, переполненный декорациями шатер, обитый ворсом, заваленный подушками, весь увешанный коврами и портьерами. Медные светильники свисали со стоявших по углам жаровен, источая тонкие струйки дыма. Именно отсюда запах ладана разносился по всему дому. Я с трудом мог дышать. Здесь сжигались самые разные пряности без разбора – без учета их свойств и необходимых пропорций. От грубой смеси запахов фимиама и сандалового дерева кружилась голова. Ни одна египетская домохозяйка не совершила бы такой глупости.
– Госпожа! Достопочтенный Марк Туллий Цицерон, адвокат, – высоким голосом прошептал евнух и быстро удалился.
Хозяйка возлежала в дальнем конце комнаты среди наваленных на пол подушек. Ей прислуживали две коленопреклоненные рабыни. Рабыни были одетыми на египетский лад смуглянками в прозрачных платьях и с густым слоем краски на лицах. Над ними, занимая господствующее положение в комнате, возвышался предмет, перед которым простерлась ниц Цецилия.
Я никогда не видел ничего похожего. Вне всяких сомнений, то была статуя одной из восточных богинь земли – Кибелы, Астарты или Исиды, хотя никогда прежде я не видел такого ее воплощения. Высота ее достигала восьми футов[1]1
Один фут равен 0,304 м. – Прим. ред.
[Закрыть], так что головой она почти задевала потолок. У нее было суровое, почти мужское лицо; ее венец был сплетен из змей. С первого взгляда я решил, что продолговатые предметы, украшающие ее торс, – это груди, дюжины и дюжины грудей. Присмотревшись пристальнее к тому, как сгруппированы эти округлости, я понял, что это не что иное, как яички. В одной руке богиня держала косу, лезвие которой было выкрашено в ярко-красный цвет.
– Что? – раздался приглушенный голос среди подушек. Цецилия задвигалась. Невольницы взяли ее под руки и помогли ей подняться. Она окинула взглядом комнату и со смятением заметила нас.
– Нет, нет, – завизжала она. – Болван евнух! Вон, вон из комнаты, Цицерон! Вы не должны были входить, вы должны были ждать по ту сторону занавески. Как мог он так глупо ошибиться? Мужчины не допускаются в святилище Богини. Ох, это случилось опять. Что ж, по справедливости, вас следовало бы наказать – принести в жертву или, на худой конец, высечь, но, боюсь, об этом не может быть и речи. Конечно, одного из вас можно было бы высечь за остальных, но я даже не заикаюсь об этом, я знаю, как тебе дорог молодой Тирон. Может быть, этот, второй раб… – Она осеклась, заметив у меня на пальце железное кольцо – примету гражданина. Узнав во мне свободного, она разочарованно всплеснула руками. Ее ногти были необычайно длинны и по-египетски выкрашены хной. – Ох! Думаю, это означает, что мне придется высечь вместо вас одну из несчастных невольниц, как я сделала в тот раз, когда евнух допустил ту же дурацкую оплошность с Руфом. Ох, они такие неженки. Богиня будет очень разгневана!..
– Я не понимаю, как мог он совершить одну и ту же ошибку дважды. Ты думаешь, он делает это намеренно? – Мы оказались в гостиной Цецилии – высоком, длинном зале со световыми люками в потолке и открытыми дверьми в противоположных концах, сквозь которые проникал свежий ветерок. Стены были украшены фресками, изображавшими сад: зеленая трава, деревья, павлины и цветы на стенах, голубое небо над ними. Пол был выложен зеленой плиткой, потолок задрапирован голубой тканью.
– Не нужно, не отвечай. Я знаю, что ты скажешь, Цицерон. Но Ахавзар слишком ценен, чтобы от него избавиться, и слишком изнежен, чтобы его наказывать. Если бы он только не был таким легкомысленным.
Мы сидели вчетвером вокруг серебряного столика, уставленного гранатами и холодной водой: Цицерон, я, Цецилия и молодой Руф, который прибыл раньше нас, но был достаточно умен, чтобы не входить в святилище Метеллы, предпочитая дожидаться в саду. Тирон стоял чуть позади хозяина.
Метелла была крупной, румяной женщиной. Несмотря на возраст, она выглядела весьма крепкой. Каков бы ни был первоначальный цвет ее волос, сейчас они были огненно-рыжими, а под слоем хны, вероятно, седыми. Она носила высокую прическу, завязанную конусообразным узлом, который был закреплен с помощью длинной серебряной булавки. Ее заостренный конец выглядывал наружу; булавочную головку украшал сердолик. Хозяйка носила пышную, дорогую столу и множество драгоценностей. Лицо ее было густо накрашено и нарумянено. Волосы и одежда отдавали густым запахом ладана. В одной руке она держала веер и энергично размахивала им в воздухе, как будто пытаясь распространить свой запах по всей комнате.
Руф тоже был рыжеволос; у юноши были карие глаза, румяные щеки и веснушчатый нос. Как и говорил Цицерон, он был очень молод. Действительно, ему было не больше шестнадцати, потому что он носил одежду, какую носят все дети – как девочки, так и мальчики: белую шерстяную тогу с длинными рукавами, защищающими от похотливых взоров. Через несколько месяцев он наденет мужскую тогу, но сейчас с точки зрения права он все еще остается ребенком. Было очевидно, что он боготворит Цицерона, и не менее очевидно, что Цицерону это нравится.
Оба аристократа не проявляли ни малейших признаков беспокойства, принимая меня за своим столом. Разумеется, они искали моей помощи, чтобы решить проблему, в которой ни он, ни она не имели никакого опыта. Они были со мной почтительны: так с каменщиком обращается сенатор, в чьей спальне вот-вот обрушится потолок. Тирона они не замечали.
Цицерон прокашлялся.
– Цецилия, день очень жаркий. Если мы уже обсудили наше злосчастное вторжение в твое святилище, то не перейти ли нам к более земным материям?
– Конечно, Цицерон. Вы пришли по делу бедняги Секста-младшего.
– Да. Гордиан может оказаться полезным в распутывании всех обстоятельств, пока я готовлю защиту.
– Защиту. О, да. Ох. Я полагаю, они все еще там, эти ужасные стражи. Вы должны были их заметить.
– Боюсь, что да.
– Такая досада. В тот день, когда они появились, я откровенно им заявила, что с этим не примирюсь. Конечно, ничего хорошего это не принесло. Приказ суда, сказали они. Если Секст Росций остановится здесь, он должен находиться под домашним арестом, с воинами у всех дверей, стерегущими его днем и ночью. «Арест? – спросила я. – Как если бы он находился в тюрьме, словно военнопленный или беглый раб? Я знаю законы очень хорошо, и нет такого закона, который позволяет вам удерживать римского гражданина в его собственном доме или в доме его покровительницы. Всегда поступают так: гражданин, которому предъявлено обвинение, всегда может избрать бегство, если он не желает предстать перед судом и добровольно отказывается от своего имущества».
Тогда они послали за судейским чиновником, который объяснил все очень складно – более складно не смог бы говорить даже ты, Цицерон. «Вы правы, – сказал он. – Но к определенным делам это не относится. К определенным уголовным делам». Что он подразумевает под этим, допытываюсь я. «Уголовные, – говорит он, – это дела, которые могут закончиться усекновением головы или отсечением других жизненно важных органов, в результате чего наступает смерть».
Цецилия Метелла откинулась на спинке стула и принялась помахивать веером. Ее глаза сузились и затуманились. Руф наклонился вперед и нежно положил ладонь ей на локоть.
– Только тогда я поняла, как все это ужасно. Бедный молодой Секст, единственный оставшийся в живых сын моего дорогого друга; сын, потерявший отца, может теперь потерять и голову. Хуже того, эта мелкая сошка, этот тип, этот судейский принялся подробно излагать, что означает слово уголовный для уличенного в отцеубийстве. О! Я никогда бы не поверила в это, если бы ты сам, Цицерон, не подтвердил все это слово в слово. Это слишком ужасно. У меня для этого просто нет слов!








