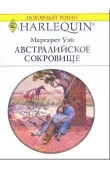Текст книги "Явилось в полночь море"
Автор книги: Стив Эриксон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
И потому в ту ночь, когда они выехали в пустыню, она сразу догадалась, что у него на уме. К этому времени ночь и день ничего для него не значили, он спал лишь урывками и когда попало. В ту ночь они три часа ехали по пустыне на северо-восток от Лос-Анджелеса, в небе бушевал звездный пожар. Кристин всю дорогу было не по себе, она устала, но тревога и холод не давали ей уснуть, а Жилец все посматривал на нее, как будто пытался решить, что же все-таки с ней сделать, словно сомневался (как и она), какое желание, или откровение, или безумие правит данным моментом. Они ехали по направлению к Сан-Бернардино, потом миновали ущелье Кейджон-пасс, пролетая в темноте по пустынному шоссе, пока в кассетнике играли «индастриал» и Лист. Где-то в унылом запустении между Барстоу и Лас-Вегасом Жилец наконец съехал на обочину. Он заглушил двигатель, но оставил зажигание и включил погромче музыку, которая стала звучать особенно похабно, и он хотел, чтобы ее было слышно, когда он вылезет из машины. Выйдя из машины, он обошел ее, чтобы открыть дверь Кристин.
– Выходи.
– Что мы будем делать? – спросила она.
– Выходи давай.
– Нет.
– Никаких «нет», – прорычал Жилец, – только «да».
– Нет, – сказала Кристин.
Она сидела на заднем сиденье и смотрела на него, понимая, что он собирается сделать, точно зная, что он задумал.
– Я прекрасно знаю, что ты задумал, – сказала она. – Ты хочешь выволочь меня в пустыню и прислонить к кактусу, а сам отправишься обратно в Лос-Анджелес посмотреть на свой долбаный Календарь. А потом, как тебе почему-то кажется – поскольку крыша у тебя окончательно поехала, – тебе почему-то кажется, что ты вернешься сюда через семь-восемь часов и снова меня заберешь. Зато ты совсем не понимаешь, – потому что окончательно свихнулся, — ты совсем не понимаешь, – что через семь-восемь часов я тут сдохну. Я сдохну, потому что замерзну до смерти, или приедет банда каких-нибудь байкеров и меня изнасилуют и убьют, или какой-нибудь дикий зверь меня сожрет, или… Или, может быть, я не сдохну; может быть, я всего лишь переживу несколько очень неприятных часов. Нет. Я больше не работаю. Пенсию мне можешь не начислять. «Ты свободна разорвать соглашение и уйти в любой момент» – в объявлении так и написано. Вот он, этот момент.
– Никаких «нет». – Его сипение перешло в жалкий вой. – Только «да».
Жилец заковылял в пустыню, прокладывая извилистый путь среди колючек по часовой стрелке. Кристин поняла, что его снова одолевает головная боль. Он сильнее и сильнее сжимал руками виски, его голубые глаза едва не вылезали из орбит. Сминая колючий кустарник, он сжимал руками голову, словно еле удерживал ее, чтобы она не развалилась.
– Хронология хаоса! – хрипло выкрикивал Жилец в ночную пустыню. – Анархия эпохи!
– О господи, – пробормотала Кристин и нагнулась, чтобы прикрыть и запереть свою дверь, хотя ей было не очень ясно, до кого тут сильнее не доходит, до него или до нее самой.
Пересев за руль, она закрыла дверь со стороны водителя, заперла и ее тоже и надавила на газ. Так как Кристин никогда раньше не водила машину, ей пришлось потратить время на то, чтобы понять, как работает коробка передач; пока она этим занималась, Жилец наконец сообразил, что происходит, и стал ломиться в правую дверь. Насколько у нее получилось, Кристин разобралась в том, как работает нейтраль, задний и передний ход. Ей удалось найти нужную передачу, она надавила на газ, и машина дернулась вперед; так она протащилась пару миль, пока Кристин не пришло в голову, что если так пойдет и дальше, то она притащится в Лас-Вегас совершенно голая. Ей неоткуда было знать, что это единственный город в Америке, за исключением Нового Орлеана, которому ее появление в таком виде пришлось бы только по душе, и она развернулась и поехала назад. Подъехав к Жильцу, который кружил на месте посреди темного шоссе, разговаривая сам с собой, словно уход Кристин лишь на время отвлек его от собственной одержимости, она затормозила и остановилась. Они посмотрели друг на друга через ветровое стекло, и Жилец наконец подошел. Ей потребовалась минута, чтобы понять, как опустить правое стекло.
– Поехали? – спросила Кристин.
– Подвинься, ты не умеешь вести машину.
– Я веду, ты едешь, – ответила она.
– Ты не умеешь, – спокойно настаивал он. – Подвинься. Я не оставлю тебя в пустыне. Мы поедем обратно в Лос-Анджелес.
Она увидела, что ему видно, как она смотрит на него.
– Уж что-что, – заметил Жилец, – а обманывать я тебя, кажется, еще не обманывал.
– Еще нет, – признала Кристин и подвинулась на соседнее сиденье.
Он сел в машину, и они поехали домой.
Теперь, когда начиналась головная боль, он лежал в темноте своей спальни и давал Кристин часами гладить себя по голове.
Однажды ночью, когда он пришел к ней, она схватила его обеими руками за волосы, и даже в темноте спальни он увидел, как она смотрит ему прямо в его голубые глаза.
– Что ты делаешь? – в тревоге просипел Жилец.
– Хочу, чтобы ты смотрел на меня, – ответила она, – Хочу, чтоб ты смотрел мне в глаза, когда ты меня имеешь, хочу, чтоб ты видел меня в это время.
Он закричал и попытался вырваться. Он попытался на четвереньках уползти в дальний конец кровати, но Кристин продолжала держаться за его волосы. Когда Жилец попытался встать, то потянул за собой и ее, так крепко вцепилась она в его волосы; все это время она решительно смотрела ему в глаза.
– Что ты делаешь? – повторял он.
– Тебе не кажется, что пришло время? – сказала она. – Тебе не кажется, что пришло время взглянуть мне в глаза?
– О чем ты? – задыхаясь, твердил он.
Они не устояли на ногах и в падении перекатились в темный угол.
– Пришло время взглянуть мне в глаза, – ответила Кристин, но думала она другое: пришло время мне взглянуть в глаза тебе. Пришло время мне взбунтоваться. Пришло время столкнуть твое ах-какое-высокоинтеллектуальное чувство хаоса в истинный хаос сердца и чувств. Ее уже не особенно волновало, вышвырнет ли он ее за это из своей жизни; она уже почти решила, что пришло время и для этого. Они никогда не понимали друг друга. Если бы она поняла его, то узнала бы, что уже почти год, с тех пор как исчезла его жена с их ребенком в чреве, он все безнадежней плутал в обители своей памяти. А если бы он понял ее, то узнал бы, что, когда они встретились, она была сновидевственницей, и потому не удивился бы, проснувшись утром вскоре после этого и обнаружив, что она тоже исчезла.
Допустим, я чудовище. Допустим, я никогда не был способен на любовь. Допустим, в глубокой яме моей души, за пределами того, во что я верю – или пытаюсь убедить себя, что верю, – все всегда вращалось вокруг понятий подчинения и власти, и поэтому в своих чувствах к девчонке, которую я привел домой, я был верен себе – такому, какой я есть на самом деле, поскольку чувства эти были низкими и ненасытными.
Допустим, я никогда не верил ни в кого и ни во что, кроме себя самого. Допустим, моя душа была так убога, что я никогда не верил ни во что, кроме своих животных потребностей, так как из всего, что я чувствовал, лишь они мне не поддавались. Это если предположить, что я вообще верил, что во мне есть душа, которая могла бы дойти до убожества. Допустим, с первого мгновения моей жизни я думал лишь о себе и ни о чем больше, включая апокалипсис и хаос. Допустим, что даже апокалипсис и хаос были причудливыми образами моей психики и вероломного сознания – если предположить, что я вообще обладал какой-то верой, которую можно было бы ломать… Допустим, я воплощенное неверие, замерший в воздухе прыжок веры, в который ринулась современная эпоха, и копаюсь во всех этих апокалипсисах и хаосах только потому, что каким-то осколком своего сознания, завалявшимся среди обломков чести, альтруизма, убеждений, сострадания и крошек морального тщеславия, я поистине верил, что бездна первозданного хаоса была всего лишь игрушкой, которой забавлялось мое воображение, а сам я был волен ломать и крушить игрушки, как мне вздумается.
Откуда ты это знаешь, спросила девчонка, обнаружив в нижней комнате Календарь и услышав мой рассказ про истинное тысячелетие современной души, и я ответил ей: я там был.
Мне было одиннадцать лет. Мой отец, полупризнанный американский поэт с традиционной львиной гривой, был романтическим и совершенно, невероятно самовлюбленным человеком. Когда из-за своей политической деятельности ему стало неудобно оставаться в Штатах, отец увез нас в Париж. Он таскал нас с мамой с одного форума на другой, от одного подиума к другому, от одной восторженной овации к другой, из Бостона в Сан-Франциско, пока одергивание со стороны государства вкупе с угрозами и анонимными звонками не оставили ему иного выбора, как отправиться в изгнание. Изгнанием он больше упивался, чем тяготился… Мама, наполовину француженка, наполовину русская еврейка, всегда решительно жертвовавшая собой и безмолвно переносившая страдания, уехала в Америку студенткой после того, как ее семьи коснулась двойная тень Второй мировой войны, в одно и то же время угрожая истреблением и расползаясь слухами о сотрудничестве с врагом. То, что для моего отца было чужбиной, она решительно называла домом. Снова оказавшись в Париже, мама решила покончить либо со страданием, либо с безмолвием, если не удастся покончить сразу и с тем, и с другим.
Я спал в нашей квартире на углу рю Данте и рю Сен-Жак, на левом берегу Сены, неподалеку от Нотр-Дам, и вдруг проснулся от звука, ничего подобного которому никогда не слышал. Люди всегда говорят, что этот звук напоминает хлопок в карбюраторе автомобиля, но, услышав, все признают, что есть разница. Много лет спустя я так и не знаю, чей это был пистолет – папин или мамин, или он принадлежал мертвой девушке в их постели. Эта загадка – из разряда малых. Как и многому другому, этому не нашлось объяснения. Но когда выстрел разбудил меня, я, даже будучи одиннадцатилетним мальчишкой, понял, что что-то не так, и прямо в нижнем белье побежал из своей комнаты в спальню родителей. Мама сжала меня в объятиях, и я не спросил, что случилось… за одиннадцать лет своей жизни я успел возненавидеть все, что могло бы смутить мои чувства. Я хотел только, чтобы она сказала мне, что все в порядке, что я могу дальше спать, что это просто какой-то звук с улицы.
И тут раздался звук с улицы.
Это была ночь на 7 мая 1968 года, или, точнее, три часа две минуты утра 7 мая. Разбудивший меня выстрел разбудил и современную эпоху. Прокатившись эхом по рю Сен-Жак до бульвара Сен-Жермен и университета в нескольких кварталах дальше, где несколько тысяч студентов захватили власть, выгнали взашей профессоров, украсили красными и черными полотнищами статуи Гюго и Пастера, подняли транспаранты с надписями «ЗАПРЕТ ЗАПРЕТАМ» и «ПОД БУЛЫЖНИКАМИ – ПЛЯЖ» и стали ждать, в то время как многотысячные, как казалось, отряды полицейских окружили университет и тоже стали ждать. Кто знает, за что они все приняли тот пистолетный выстрел. Годы спустя во всем, написанном об этих событиях, нет ни одного упоминания о том, что у кого-либо из студентов было огнестрельное оружие, а полиция предпочитала дубинки, если уж не танки… Неужели полицейские подумали, что выстрелил кто-то из студентов? Неужели студенты подумали, что выстрелил какой-то полицейский? Возможно, они приняли этот звук за удар дубинки по чьему-то телу. Возможно, все это не имеет никакого значения. Возможно, ранним утром имел значение лишь громкий хлопок, а не его источник, и этот звук расколол ожидающих на две части – и среди расколовшихся больше не могло быть выжидающих. Полицейские ринулись в атаку.
Наверху, в темном коридоре нашей квартиры, мама, в полуистерике, удерживала меня в своих объятиях, и до меня доносился запах порохового дыма через дверь их спальни, приоткрытой ровно настолько, чтобы в свете ночника было видно, как мой отец стоит, схватившись за голову. Виднелась безжизненная женская рука. На улице начался бедлам. Вырвавшись от мамы, я бросился вниз по лестнице, мама – следом за мной, а на темных рю Данте и рю Сен-Жак люди бегали и вопили, выламывали из мостовой камни и, не целясь, кидали их, переворачивали и поджигали автомобили. Полицейские молотили дубинками по чему придется. Они хлынули на тротуары, выкорчевывали каштаны. Повсюду блестело битое стекло. По сточным канавам катились канистры со слезоточивым газом. В воздухе висели дым и копоть, а вдали слышались скандирующие голоса, и я не мог разобрать слов – Metro boulot dodo, — пока не прочел это позже в газетах.
Это означало примерно следующее: метро, работа, сон — горькое упрощение всего, чем стала современная жизнь. В этот момент смысл современной эпохи размотался, как клубок. Все годы, ведущие к этому моменту, бунт следовал некой неопровержимой моральной логике, он был орудием морально обоснованных стремлений, что бы вы не думали об этих стремлениях. В минуты, предшествующие двум минутам четвертого 7 мая, студенты захватили Сорбонну вследствие несправедливостей, которые после трех минут четвертого утратили значение… К четырем минутам четвертого бунт утратил всю рациональную основу и стал просто выражением духовного хаоса, где не применимы никакие политические методы. К семи минутам четвертого я бежал в нижнем белье по улице, вместе со всеми освободившись от всякого морального содержания, а время взрывалось в смысловом вакууме. В восемь минут четвертого я обернулся и увидел, что мама стоит в дверях нашего многоквартирного дома. Она не бежала за мной, а лишь смотрела, словно фиксируя меня в памяти так крепко, насколько позволял момент. А потом просто вышла из дверей в толпу столь же спокойно, сколь безумно все вокруг куда-то неслись…
Я остановился и позвал: мама! – и шагнул к ней, но тут кто-то сшиб меня с ног. Когда я поднялся, ее уже не было.
Вот я плачу на улице. Меня окружает звук, и это не просто коллективный голос бунта – это коллективный голос эпохи, переходящий в грохот, какого я не услышу снова еще много лет… И чем громче он гремел, тем громче я пытался звать маму, пока не завизжал так, что сорвал голос. Только через семь лет я обрету его снова.
Хронология хаоса! Анархия эпохи! Невозможно, чтобы все произошло в одну лишь ту ночь, она только казалась одной ночью. Должно быть, прошли ночи и ночи, недели ночей… Мое последнее четкое воспоминание – как я стою, глядя на маму среди бушующей толпы, потом возвращаюсь к дверям нашего дома на рю Данте и жду ее возвращения, откуда-то зная, что она не вернется. А наверх подниматься я не собирался, опять туда, где пистолет на полу, дым в прихожей и отец в спальне, и поэтому пошел по бульвару Сен-Жермен в направлении того самого кафе, где много лет спустя встречусь с Энджи, а в другой стороне я видел в свете фонарей, как ехали танки и эшелонами наступали полицейские. Ночью в своих черных касках они казались безголовыми – тысячи полицейских без голов стучали дубинками, а их каски гремели под черным градом отскакивавших болтов и гаек, которые пригоршнями бросали студенты. Я шагал, скрывшись за горизонтом хаоса. Я прошел невредимый, если не считать, что промок до нитки из-за того, что на улицах прорывало водопроводные трубы и парижане с верхних этажей ведрами лили из окон воду на студентов, то ли чтобы затушить, то ли чтобы разжечь их ярость, – я не понял и не думаю, что они сами знали. Студенты-медики в забрызганных кровью белых халатах бегали взад-вперед и кричали, приказывая всем успокоиться, но успокаиваться никто не желал – этот потрясающий, абсолютный развал слишком воодушевлял, и теперь все жили только этим воодушевлением.
Все пропитал запах дыма, дымилось воодушевление, с одного конца города до другого… Но я не находил этот запах таким же неодолимым, как запах дыма у нас в прихожей в тот последний день. То был запах грядущих лет. Убийство, которое в иное время послужило бы поводом для одного из самых сенсационных судебных процессов, по чистой случайности совпало с самыми анархическими днями Франции, считая с 1871 года, если не с последних лет восемнадцатого века, и потому все последующие недели Франция провела, разгребая обломки, и едва заметила этот процесс. Мертвая девушка в постели моих родителей была студенткой из Сорбонны, где изучала литературу. За несколько часов до убийства она участвовала в протестах, и, может, ей было суждено пасть от рук разъяренных полицейских и умереть во имя анархии, а не во имя похоти. До того я однажды видел ее живую, когда был с родителями в «Дё Маго». Она сидела через два стола от нас, я до сих пор помню ее рыжие волосы, веснушки и улыбку. То, как пистолет лежал в спальне на полу рядом с рукой девушки, указывало на вероятность самоубийства – как, возможно, и было задумано. Это заключение полиция отвергла, и моего отца обвинили в убийстве второй степени. На суде, а потом в тюрьме он хранил каменное и нехарактерное для него молчание. Принуждаемый личным кодексом чести, который был, по сути, порожден нарциссизмом, но при случае проявлялся в героической форме, романтик в нем мог, я считаю, взять на себя вину мамы, которая застала девушку у него в постели и убила ее. Только много лет спустя мне пришло в голову: не исключено, что это, наоборот, мама, которой обрыдло безмолвное страдание, почувствовав себя освобожденной в парижском сумбурном флирте, могла затащить девушку к себе в постель, а мой самовлюбленный отец оказался слишком гордым, чтобы объяснять это кому-либо, а тем более полиции и газетчикам, которые все равно бы его не оправдали.
Как бы то ни было, мама сгинула. В Апокалиптическую Эру! В Тайное Тысячелетие! В последующие пару месяцев, когда страна скатывалась под откос, ближайшим выходом из Франции была Бельгия, и сначала надо было добраться туда – скорей всего, пешком: ведь машины не ездили, так как не было бензина, поезда не ходили, так как была забастовка, самолеты не летали, им было запрещено подниматься в воздух… Я больше никогда не видел ни мать, ни отца. Какое-то время перебивался по знакомым в Париже, потом меня отправили назад в Нью-Йорк, а оттуда в Новую Англию, чтобы перебиваться по знакомым там. До отъезда из Европы я не виделся с отцом в тюрьме и не общался с ним после, пока не пришла весть о его смерти – тогда мне было шестнадцать, меня отправили в коммуну в сельской части штата Нью-Йорк, и отсутствие голоса показалось мне очень кстати… Получив письмо, я прочел его один раз и поспешил в город, чтобы успеть в кино. Меня не тронула упущенная возможность примирения – допустим, что я никогда бы в нее не поверил. Допустим, я не видел, с чем примиряться. Допустим, я чудовище.
Несколько лет спустя, женившись на Энджи, в тот день, когда мы переехали в дом в Голливуд-Хиллз, я наткнулся на коробку с письмами. Перебирая их, я нашел пустой конверт; адрес был написан женским почерком, который я тут же узнал, хотя и не видел его с одиннадцатилетнего возраста. Я все хлопал глазами, глядя на конверт, будто что-то у меня в голове должно было щелкнуть и все объяснить. Я не помнил, как получал это письмо. Хотя конверт был сверху разорван, я не помнил, что читал его. В панике я обыскал коробку, понимая, что письмо, должно быть, выпало, но его там не было. Я обыскал другие коробки и долго стоял среди пустой квартиры, зная, что письмо где-то здесь, ускользнуло в какую-нибудь щель, и что если я сейчас уйду, то уже никогда не найду его.
В конце концов мне, конечно, пришлось уйти. Остался пустой конверт с выцветшей и потемневшей маркой, дата стерлась навсегда, а пунктом отправления значился крохотный французский городок, о котором я никогда не слышал, – Сюр-ле-Бато, согласно атласу, примерно в двенадцати километрах от побережья Бретани.
Ах, прошу прощения. Неужели я говорил слишком громко? Повысил голос? Взял неподобающий тон? Вышел за рамки той роли в жизни, которую мне назначил хаос, когда обязал говорить лишь шепотом? Я бы так и жил, тише воды, ниже травы, если бы не выловил Дженнину книжку, томик Горького, из канавы на Сентрал-Парк-Вест в тот весенний день… Какого? 1975 года? Мне было девятнадцать. Восемнадцать. Даже не помню, что я делал в городе, но я был там, и когда она выронила эту книжку, а я поднял, Дженна одарила меня самой лучезарной улыбкой, какая мне от нее доставалась. Дженна была записной сталинисткой – это была экзотическая и нелепая птица даже для того зоопарка, каким можно считать семидесятые… Теперь, конечно, когда я вообще о ней думаю, а такое случается нечасто, я понимаю (диалектический материализм есть диалектический материализм), что Дженна никогда бы мне не отдалась, мои шансы в этом отношении равнялись нулю. Но я не знал этого. Я был исторически наивен, как она бы первая сказала вам, мне или кому-либо еще.
Она только что вернулась с учебы по обмену в Мадриде, откуда путем каких-то махинаций, слишком таинственных, чтобы разглашать их неисправимо буржуазному американскому юноше – сыну поэта, не меньше: представителю богемы, — ездила на две недели в Москву в рамках какой-то программы «по укреплению дружбы», и это навсегда открыло ей глаза… Ладно, в общем, той весной в Нью-Йорке я немножко приклеился к Дженне. Провожал ее на тайные совещания и секретные встречи с тем или иным товарищем, на явку к тому или иному функционеру, где она проводила ночь, пока я стоял на тротуаре, меряя взглядом фасад и гадая, за каким она сейчас окном…
Преследователь – это просто особенно преданный романтик, верно? На следующее утро я все еще дожидался ее, прикорнув у дерева. В каком-то смысле Дженна вернула мне голос, через семь лет после того, как его заглушила революция анархического толка, которую дисциплинированные сталинисты презирали. Дженна вернула мне голос, хотя и в форме шепота и бормотания. Я просиживал ночи, переписывая для нее ее речи. То ли язык ее убеждений не воздавал должного самим убеждениям, то ли и вовсе ускользал от нее… Я не верил ни единому слову. Я не верил ни слову из того, что писал и что говорил. Я не верил ни слову из того, что шептал и сипел. Я верил в то, как хочу ее, а когда осознал, что хочу ее так, что готов просипеть ради нее почти любой бред, то понял, что пора сматываться, и оставалось лишь надеяться, что мой голос не покинет меня, а отправится вместе со мной.
Сматываться обратно в Европу, а куда еще. В Амстердам, где я поселился в квартале красных фонарей над булочной, перестроенной под ночной клуб, где стелилась привычная дымка гашиша и имелась собственная певичка, которая каждую ночь пела нагишом, а между грудей ее была намалевана линия пунктиром, как разметка на шоссе. Через месяц я получил от Дженны открытку, где между делом сообщалось, что через две недели она будет в Мадриде. Моей первой инстинктивной мыслью, мелькнувшей так быстро, что я еле ее отметил, было – не ездить туда вообще. Следующей же – немедленно выписаться из гостиницы и бежать на вокзал, где я купил билет на ближайший поезд. Почему-то я предположил, что жизнь потеплеет по мере моего приближения к югу… Меня немного удивило, что чем ближе я подъезжал к Испании, тем холодней становилось в поезде, и когда среди ночи я пересек границу, меня охватила такая лихорадка, что было уже не до Дженны. В купе второго класса кроме меня ехал один испанский бизнесмен, который, судя по его виду, должен был бы ехать в купе получше, и за всю поездку мы не обменялись и парой слов, пока не пересекли границу с Испанией, где испанские солдаты проверили мою сумку и нашли сверток старых статей и фотографий из газет. В частности, журнальную обложку за май 1968 года, где на парижской улице картинно взрывался автомобиль. «Вы революционер?» – очень спокойно поинтересовался пограничник. Уже снова сев в поезд, я спросил бизнесмена, что происходит: тут всегда так – пограничники, солдаты? – но он ничего не сказал, а только взглянул на меня и опять уткнулся в газету – все ту же, что читал в течение последних двенадцати часов, – а потом, не поднимая глаз от газеты, словно не обращаясь ни к кому, ответил: «Генерал умирает».
Генерал все умирал и умирал, без конца умирал, дни и ночи, недели и месяцы, и когда я приехал в Мадрид, повсюду были полицейские, ружья и законы военного времени, а все остальное спряталось за закрытыми окнами и запертыми дверями. На улицах никого не было, никого не было в барах, tascas[33]33
Закусочных (исп. ).
[Закрыть] и кафе, даже знаменитые городские фонтаны словно замерзли. Так что Дженна приехала именно в такой Мадрид вовсе не случайно, а наверняка по приказу какого-нибудь шепелявого аппаратчика, дабы подготовить и засвидетельствовать восстановление Испании, выскользнувшей из рук ее товарищей тридцать шесть лет назад. То, что это ее же сталинисты и всадили нож в спину Республики, когда над головой летали гитлеровские «Штуки», было одной из тех самых исторических неувязок, из-за которых история время от времени осознанно и полностью переписывалась. В Мадриде Дженна оказалась в своей стихии. «Анархисты, – учила она меня, – это просто вывернувшиеся наизнанку буржуи», – но насколько я мог судить, в анархическом воздухе Испании она расцвела. Во всяком случае, он заставил ее рдеть чувственным сиянием, ее красные губы стали пышнее и слаще от паранойи.
В Амстердаме я отпустил бороду… Дженна была не в восторге. Борода не показалось ей радикальным или угрожающим атрибутом на манер восхитительных кубинцев, а просто недисциплинированной прихотью на манер отвратительных хиппи, отбросов капитализма, – сойдя с самолета, первым делом она сказала: «Зачем ты отрастил эту жуткую бороду?» Она была в лихо надетом набекрень беретике, украшенном красной пятиконечной звездочкой, и ее большие карие глаза, ее влажные губы, блестевшие наравне с золотыми сережками, выглядывающими из-под рыжеватых волос, ее тело – все это заставляло меня содрогаться в дичайших, бессмысленнейших внутренних переворотах, опровергая всю «научность» ее идеологических установок. На родине, в Штатах, Партии редко попадались такие роскошные рекруты. В действительности на родине в последние годы Партии вообще редко попадался кто-нибудь младше семидесяти, так что коммунисты специально готовили ее с тем расчетом, чтобы привлечь в свои ряды новых рекрутов, особенно молодых людей, хотя любой, кто не ленился поразмыслить, находил очевидное врожденное противоречие в такой рекламе: «Товарищи! Вступайте в ряды! Вот с какой сладкой девочкой вам довелось бы спать при социализме, если бы социализм так же прогнил, пришел в упадок и развратился, как капитализм!» Впрочем, если он так же прогнил, пришел в упадок и развратился, как капитализм, Партия могла позволить себе расщедриться с телом Дженны, поскольку та уже отдала ей свое сердце – орган более мягкий, сентиментальный и податливый, с меньшим функциональным значением, чем плечи, спина, руки или ноги, но определенно более нужный, чем мозг, который, если начинает действовать самостоятельно, может доставить хлопоты. С Дженной, однако, таких проблем не было. Партия не могла желать большей уступчивости – Дженна делала все необходимые диалектические кульбиты с предельной ловкостью, даже с апломбом: ГУЛАГ – миф, репрессии – обман, вторжение в другие страны – дело, касающееся только товарищей, а не Запада, нацистско-советский пакт 1939 года – беспочвенная выдумка буржуазной прессы.
Кроме партийной политики, другим первостепенным предметом разговоров с Дженной был ее отец, которого она ненавидела и о котором я слышал постоянно чуть ли не с первого момента, как познакомился с ней. И в нью-йоркских кафе, и в мадридских она сидела, уставившись в фотографию отца, которую всегда носила с собой, и брызгала слюной.
– Мы ни капли не похожи, – говорила она.
Конечно же, они были похожи, как две капли воды. Еще она носила в бумажнике мятую фотографию матери, с которой поддерживала хорошие отношения и не имела ни малейшего сходства. Кроме того, у нее был брат, или сводный брат, хотя с какой стороны, мне так и не стало ясно, и я не уверен, что Дженна сама знала, кто чей отец, кто чья мать, и эта путаница ее ужасала. То, что Дженна состояла в Партии, держалось в секрете, который члены ее семьи хранили друг от друга, взаимно изображая незнание, за исключением отца, от которого это действительно скрывали. Мысль о том, что отец узнает правду, казалась Дженне совершенно невыносимой, убийственной.
Чего можно было ожидать от отцов в эти дни, в эту эпоху? Тогда я не мог понять, кого Дженне подменял Маркс, отца или любовника, хотя сейчас ответ очевиден. Ночь за ночью мы втроем спали в одной постели, хотя я то и дело просыпался на полу – Карл ворочался во сне. Туда и сюда по Гран-Виа, с одного конца Сан-Плазы до другого, от Мадрида Габсбургов до Мадрида Бурбонов, от Прадо до Толедо, до Монастыря Босых Монахинь, от мавританских теней до белых голубей, растворявшихся в пене фонтанов, день за днем я таскался за Дженной и маячившим рядом с ней Карлом, печально дожидаясь в черных сводчатых проходах, пока они заходили к друзьям, посещали собрания, кроили историю.
– Ты так хорошо ведешь себя со мной, – усмехалась Дженна.
– Да, – соглашался я.
– Ты такой чуткий, да? Такой заботливый. Но одного ты не понимаешь – что историю совсем не заботит, какой ты заботливый и чуткий. Истории нет дела до того, чего ты от меня хочешь, чего тебе от меня надо.
– Мне плевать на историю.
– Именно, – ответила она. – Вот такой ты ограниченный. Такой ущербный. Ты не видишь всей картины. А вот в Советском Союзе все видят всю картину.
– Здесь не Советский Союз.
– Пока что нет, – согласилась она. – Ты доехал до самого Мадрида, только чтобы увидеть меня, да? До самого Мадрида. Ты доехал до самого Мадрида, просто чтобы увидеть меня, – и это несправедливо. У меня много работы. Я являюсь частью чего-то большего, чем я сама, чем ты, чем мы, – вот этого ты и не понимаешь.
Тем временем старый испанский генерал продолжал умирать. К этому времени он довел это занятие до искусства, и спешить стало незачем. Умер! – просачивался на улицы слух, а потом: э-э-э, вообще-то нет, он вовсе не умер. Через пару дней: ура! Теперь и вправду умер! И сразу же, через несколько минут: ну, на самом деле, почти что умер. Пока Испания становилась страной призраков, по остальной Европе катилась волна беспорядков и демонстраций. Одну такую демонстрацию я видел сам из поезда, выезжая из Бордо, – тысячи участников марша заполнили бульвары, над их головами развевались все новые и новые красные знамена, и все скандировали: Фран! Ко! У! Бий! Ца! — снова и снова… На первый взгляд, в этом было рациональное зерно. Пятерых баскских сепаратистов действительно приговорили к удушению гарротой за якобы совершенное ими убийство нескольких испанских полицейских. Но, конечно же, беспорядки начались совсем не из-за того.