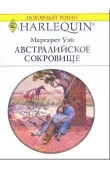Текст книги "Явилось в полночь море"
Автор книги: Стив Эриксон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Она терпеливо прошла за мной по узкому залу до конца, до самого дальнего угла, где обнаружила меня в первом сне – когда я собирался прибить к стене свое сердце, – и я указал ей на вторую минуту третьего часа седьмого дня пятого месяца шестьдесят восьмого года прошлого века. Вот когда это все началось, объяснил я, и она сказала: «Что – это?» Видимо, она заметила панику на моем лице, потому что тут же поспешила ободрить меня: Ах, да, конечно, папа, я поняла. Апокалипсис, сказал я. Апокаляпсус, ответила она и рассмеялась. Она пошутила. Как всегда по утрам, я проснулся в сомнениях и безверии. Как всегда по вечерам, я вернулся к ее необъяснимой мудрости. В темноте спальни, прежде чем уснуть, я лежал в страхе смерти, как лежал уже много ночей. Я думал о том, как смысл моей жизни иссяк вместе с деньгами, и приказывал сердцу перестать биться во сне…
Это не казалось таким уж эгоизмом. В конце концов, существовал страховой полис на 400 000 долларов, деньги, с которыми Энджи и Саки могли прожить дольше, чем с моим страхом и отвращением к себе. Но потом я засыпал и видел ее и, по мере того как нарастало движение в животе Энджи, чувствовал зарождение веры, которую не мог назвать, веры, ограничивающейся тем простым фактом, что наконец в моей жизни есть что-то еще кроме меня самого, что в моей жизни есть нечто более ценное, чем я сам, что солнечная система моей жизни приобрела еще одно солнце.
Через тридцать восемь недель после того, как она впервые приснилась мне, она подошла вплотную и потрясла меня за плечо. Я спал в своей постели и проснулся оттого, что она дотронулась до меня, но теперь она была старухой. Ярко-голубые глаза на ее старом, азиатском лице были мокрыми, и она грустно улыбнулась мне.
– Прощай, – сказала она.
– Прощай? – встревоженно переспросил я.
– Прощай, – снова прошептала она и закрыла глаза, и из них полились слезы.
Я даже не догадывался, что она имеет в виду, но крикнул: «Подожди!» – прежде чем она растаяла, крикнул так громко, что проснулся. Очнувшись от кошмара, я сел и обхватил голову руками, ожидая, что Энджи протянет руку и коснется меня. Но она не сделала этого, потому что ее не было.
Я лежал в кровати и ждал, когда она вернется из уборной, но она не вернулась. Я спустился по лестнице, ожидая увидеть, что она сидит у окна и пьет чай, но ее не было и там. Я начал волноваться, что она отошла ночью и вдруг где-то упала от начавшихся схваток, но нигде не было ее следов. Я ожидал, что она вернется с утренней прогулки, но она не появлялась. Я искал признаки преступления – царапины от ногтей на стене, взломанный дверной замок, зловещие пятна крови, – но ничего не нашел. Я искал знаки, что она собрала вещи и ушла, – например, пропал чемодан, нет одежды и косметики, детские вещи забраны из детской, – но все было на месте. Я заметил, что машина по-прежнему стоит у входа, а ключи лежат на книжной полке, где мы держали их. Я нашел ее маленького плюшевого мишку, все так же сидящего на пианино, где она всегда его держала, – самый наглядный знак из всех, только вот знак чего? Она не вернулась к полудню, и я пошел по окрестностям искать ее. Она не вернулась и к шести часам, и я объездил в ее поисках все холмы. Она не вернулась к вечеру, и я обзвонил полицию и окрестные больницы. Она не вернулась на следующее утро, и я объездил весь город. Я заглянул на пляж, проехал по долинам, я съездил в Парк Черных Часов. Я вернулся домой в надежде, что она таинственным образом окажется на месте, как будто никуда и не пропадала, – за пианино, наигрывая ноктюрн Шопена или мелодию из Джерома Керна [48]48
Джером Керн (1885–1945) – популярный американский композитор, за 1905–1945 гг. сочинил почти 700 песен для 117 мюзиклов и кинофильмов. Самая известная постановка – «Плавучий театр» («Show Boat», 1927), самая известная песня оттуда – «Old Man River», железно ассоциирующаяся с Полем Робсоном.
[Закрыть], с неприступным видом, говорящим, что последние двадцать четыре часа были еще одной тайной ее жизни, которая останется тайной, о которой не следует задавать вопросы, – но дом был все так же пуст. Я прождал ее весь следующий день, и еще день, и еще… Я ездил по пустыне, ездил к морю, ездил в Мексику. Я ездил в Мохаве, ездил в Лас-Вегас. Ездил в Моньюмент-Вэлли. Я проехал от Санта-Фе до континентального раздела, я проехал от Скалистых гор до спящих канадских вулканов. Я предположил, что, подобно моей маме, ее унес апокалипсис, которым, как я высокомерно считал, я мог управлять. Я проехал по всем координатам моего Апокалиптического Календаря, от одной даты до другой, от одного пульсирующего источника анархии до всех аванпостов хаоса в пределах досягаемости, объездил в ее поисках всю страну. Я проехал от бездумных свалок ядовитых отходов до гиблых мест бессмысленных авиакатастроф, до конспиративных очагов бессмысленного терроризма. Я проехал от яростных мормонских столиц до полузаброшенных калифорнийских чайнатаунов.
За карточным столом в Рино Жилец услышал, как какой-то парень сказал, что будто бы видел хорошенькую азиаточку, шедшую с ребенком среди двух тысяч других женщин и детей по пустыне Невада, пока все они не скрылись в горах.
Жилец догнал мигрантов у озера Тахо. Кружа вокруг них по часовой стрелке в своей машине, а затем остановившись в нескольких милях дальше по берегу озера, он побрел им навстречу, а потом затесался среди них. Он заглядывал в лицо каждой женщине и прислушивался к голосу каждого плачущего младенца. Все женщины, кого он спрашивал, только качали головой. После часа поисков его окружило полдюжины мужчин в белых одеждах, которые, не сказав ни слова и не отвечая на вопросы, отвели его обратно к его машине. Прежде чем покинуть Тахо, Жилец купил в спортивном магазине бинокль и проследовал за исходом на своей машине, наблюдая в бинокль с прилегающей гряды, как они спустились с хребта Сьерра-Невада в дельту реки, где долина была наполовину полем, а наполовину болотом. Несколько часов он изучал с гряды в бинокль лица женщин, разыскивая ее, а священнослужители в белых одеяниях наблюдали за ним. Синее зимнее солнце блестело на его старой серебристой машине. После того как он три дня вглядывался в одни и те же лица, он сдался.
Спустя пару дней, услышав о китаянке, которую глаза западного человека приняли за японку, Жилец на речном пароме добрался до острова в дельте, где провел ночь в маленьком городе-призраке. В баре на главной улице, где он поел, кроме него был лишь владелец бара; в гостинице напротив бара Жилец, похоже, был также единственным постояльцем. В ту ночь голые ветви деревьев за окном царапали лунный свет над головой, темнота звенела жужжанием комаров, и ему приснилось, что Энджи вернулась к нему, беззвучно двигаясь по улице мимо домов к гостинице, через старинное фойе, отделанное деревом, по лестнице наверх в его комнату – «сделать еще одну дочку», сказала она. Еще одну? – спросил он. Сквозь тени в комнате она скользнула к его боку, сбросила одежду и гладила себя, пока не почувствовала, что внутри все стало горячо и влажно, и тогда, сев на него верхом, она ввела его внутрь. Ей не терпелось увидеть в уме вспышку его сна, и она двигалась на нем все быстрее и быстрее, пока он не пошевелился, сонный, и в смятении потерял эрекцию, не достигнув оргазма, и проснулся, наполовину в отчаянии и наполовину обезумев от надежды, и увидел на себе незнакомую девушку. Энджи? – пробормотал он, и она исчезла.
Допустим, она узнала. После семнадцати лет со мной, после девяти лет замужества, с нашим первым и единственным ребенком в чреве, однажды утром она проснулась, посмотрела на меня, спящего рядом в постели, и увидела чудовище. Возможно, она никогда раньше его не видела и потому должна так же отвечать за свою слепоту, как я за свою чудовищность. Возможно, она видела это чудовище мельком и отворачивалась и потому должна отвечать за свой отказ видеть его. Но в первом случае – чем она провинилась, кроме своей наивности? А во втором – чем она провинилась, кроме того, что не усомнилась во мне? Вот-вот готовая даровать жизнь нашему ребенку, она больше не могла позволить себе наивности, не могла отказаться от сомнений. Допустим, в то последнее утро она проснулась, посмотрела на спящего рядом отца своего ребенка и, ужаснувшись при виде чудовища, ушла… Или так: ее унес апокалипсис, которым я забавлялся. Приняв форму незнакомца или похитителя, хаос, как вор, ворвался в наш дом, прошел на второй этаж, зажал ей рот, когда она проснулась, выволок из постели, поднял по лестнице и вывел через парадную дверь. В любом случае, она исчезла с лица земли – такова цена, заплаченная за мое романтическое заигрывание с апокалипсисом. Все это время я был настолько тщеславен, что считал хаос своей игрушкой. Все это время я был игрушкой хаоса.
В первый день нового года Жилец вернулся домой. Он заехал в Парк Черных Часов и купил там участок и капсулу. Целый час он стоял, глядя на могилу, и вернулся к ней на следующий день и потом еще на следующий день. Каждый день в одно и то же время он возвращался навестить могилу.
Он дал в газете объявление, которое через полторы недели прочтет Кристин. Объявление было одновременно и вымыслом, и исповедью. Оно было исповедью, потому что в нем откровенно говорилось о том, чего он действительно хотел в тот момент, и было вымыслом, потому что на деле он не ожидал, что кто-нибудь откликнется, и, скорей всего, вообще не поместил бы его в газете, если бы думал, что кто-то откликнется. Он рассчитывал, что объявление будет своего рода эротическим вирусом, запущенным в этот мир, – просто посмотреть, кто его подхватит; в лучшем – или худшем – случае Жилец ожидал, что женщины будут читать объявление и отшатываться в ужасе, а потом, возможно, иммунная система не защитит их от плотских желаний и отдаст на волю неодолимой заразы вируса, и они будут нервничать днем и не спать ночью. Он поместил объявление в газету не просто так, а как ответ на объявления некоторых застенчивых женщин, втайне стремящихся, чтобы кто-то «поставил их на место» или «лишил стыда», и в то же время вдобавок спас их жизни. Не тех, что подписываются «Горячая Штучка» или «Потаскушка», а тех, кто писал – «Мечтательница» или «Аметистовая». В черновом варианте объявление Жильца гласило, в частности: Меня больше интересует выражение твоих глаз, чем совершенство твоего тела. Единственное, чего я хочу от тебя, кроме того, чтобы ты была доступна, когда мне угодно и как мне угодно, – это чтобы ты была верна себе. Дописав эти две фразы, он не просто зачеркнул их, а исполосовал ручкой, словно ножом. Он не мог знать, что из всего написанного именно эти строчки лучше всего описывали девушку, которая откликнулась.
Те полторы недели Жилец каждую ночь проводил около пляжа в стрип-барах и борделях Багдадвиля. Одержимый единственной мыслью, он выискивал самых печальных девушек. Если девица на сцене или у его стола дарила ему одну из своих наклеенных улыбок, он тут же уходил. Он не собирался кого-либо спасать, не собирался даровать кому-либо Поцелуй Хаоса. Постоянно мучимый неотвязной и все усиливающейся головной болью, он назначал себе все большие дозы фиоринала и водки. Подцепляя в барах пухлых женщин лет сорока и увозя их в пустыню, куда через пару месяцев отвезет Кристин, он вытаскивал их на капот машины и с кратким безрадостным оживлением овладевал ими там, так что их груди тыкались в мохавскую пыль на хромированной поверхности. Потом он подкидывал их в аэропорт по пути в Лас-Вегас, ночевал в гостинице один и на следующий день возвращался обратно.
Три ночи он вообще не вылезал из Багдадвиля, спал в машине и фактически жил в борделе под названием «Ангельские глазки», где каждые несколько часов заходил в комнату № 7. За входной дверью борделя сидел турок и по итальянскому телеканалу смотрел футбол. Рядом сидел здоровенный светловолосый немец, охранник и вышибала. Турок приветствовал Жильца с холодным и любезным интересом в глазах, как барыга приветствует клиента, который явно и быстро садится на иглу. «А, джентльмен к ангелу № 7!» – улыбался он и вел Жильца по лестнице, потом через зал, а потом по Г-образному коридору за угол, в комнату № 7, где молоденькая девушка, не старше шестнадцати, белокурая, длинноногая и с маленькой грудью, была подвешена за руки на веревке к вбитому в потолок крюку, голая и с завязанными глазами. Другим концом веревка была прикреплена к стене, так что девушку можно было опустить, чтобы она встала на ноги, и даже ниже, чтобы встала на колени. На стене позади нее, рядом с яркой лампочкой без абажура, виднелась надпись черным маркером, какую мог бы сделать отец на двери дочкиной спальни: МОЖЕШЬ ВСТАВИТЬ В ЛЮБУЮ ДЫРКУ. ХОЧУ ШТОБЫ ТЫ КОНЧИЛ. Девушка всегда была одна и та же, когда бы Жилец ни зашел в комнату № 7, в какой бы час дня или ночи, и из-за повязки у нее на глазах было бы трудно понять, спит она или нет, жива или мертва, если бы не легкое сопротивление ее тела, когда он проникал в нее. Она никогда не издавала ни звука, никогда не реагировала на открытие или закрытие двери, никогда не шевелилась, когда он был в ней, и только ее тело слегка напрягалось. Когда он был в ней, в момент оргазма, в его голове среди обжигающей головной боли распахивался какой-то свет, в который он едва ли не падал, как будто это был Момент, проход в его воспоминания, куда он мог еще чуть-чуть – и ступить. Только много позже до него дошло, что этот свет светил не для него, а для девушки. Конечно, ему хотелось стереть память о жене и дочери. Конечно, ему хотелось стереть вокруг себя пейзаж своей жизни, и воспоминания о прекратившихся снах, и старый, как время, страх смерти. Он не придавал ни малейшего значения унижению, не питал ни малейшего интереса к тому, что чувствует подвешенная на крюке голая белокурая девушка, и чувствует ли что-либо вообще. Девушка на крюке никак не реагировала на его присутствие или на его белый стон, звучавший внутри нее. Она была его любимицей. Порой, проникая в нее, он не сомневался, что ее любит.
Он не возвращается в комнату № 7 пару месяцев, пока от него не уходит Кристин. В то утро он спит допоздна и просыпается от особенно злостного удара грома, а проснувшись, сразу понимает, что Кристин стала еще одной исчезнувшей женщиной в его жизни. Ее нет в его постели, где она спала. Когда он встает и идет в ее комнату, ее нет и там.
Он стоит в дверях ее комнаты и смотрит на ее пустую постель, и ему даже на мгновение не приходит в голову, что она могла пойти прогуляться или что она наверху заваривает чай. Ему прекрасно знакома подобная аура отсутствия. Это женское отсутствие, отсутствие той, которая стала настолько важна для него, что он не может владеть собой, не может управлять собой. В последние недели Кристин перестала быть устройством для его чувственного удовлетворения, а стала чем-то большим, недостающим кусочком его Апокалиптического Календаря, при помощи которого, верилось ему, он сможет разрешить неувязки на территории настоящего времени и таким образом выследить мать своего ребенка. Теперь новая беглянка блуждает где-то по городу с отметиной водоворота Апокалиптической Эры на голом теле, высвобождая задержавшиеся катаклизмы, подобно тому, как аномальное явление сводит с ума все приборы и компасы.
Он лишь надеется, что, так же как во время первой встречи, ей будет некуда идти и она вернется.
Но она не возвращается, и Жилец просто сидит в своем доме и смотрит, как холмы погружаются в сумерки. Он ждет весь следующий день. Утром третьего дня он едет в Парк Черных Часов навестить могилу капсулы времени, которую похоронил по возвращении в Лос-Анджелес. Всю дорогу он не спускает глаз с улиц, высматривая, не ловит ли она машину, не скучает ли на остановке в ожидании автобуса. Добравшись до Парка, он вылезает из машины и идет по кладбищенским холмикам, мимо других могил к своей.
За сотню футов он уже видит, что случилось. За сотню футов он уже видит грубо разрытую землю. Могила раскопана. Капсулу вырыли и забрали. Дыра пуста, если не считать явного отпечатка руки в грязи. Трава по пути от ямы измята, будто совсем недавно оттуда что-то выволокли, – впрочем, Жилец не может догадаться, что именно, поскольку его капсула не была особенно большой и тяжелой. Ошеломленный, он просто стоит и смотрит на яму, где раньше была капсула, и чувствует себя глубоко потрясенным, до самого основания. Это из ряда надругательств, которых ждешь всю жизнь, не сознавая, что ждешь его.
Стоя на холмике под дождем, который, впрочем, каплет уже вполсилы, он не сомневается, кто забрал капсулу. Чего он не может взять в толк – это когда у нее впервые возникла мысль украсть ее, повиновалась ли она внезапному импульсу или загодя планировала этот мстительный акт вандализма: когда что-то похищается не потому, что представляет хотя бы мало-мальскую ценность для похитителя, а потому, что оно представляет ценность для жертвы. Все, что он знает, глядя на эту рану в земле с изумлением одновременно неверящим и мудрым, это то, что больше нет никакого смысла ждать ее возвращения, больше нет никакого смысла ждать ничьего возвращения. И, глядя на разрытую могилу, он понимает: если суждено было в его жизни случиться Моменту, который стал бы проходом через воспоминания, то он является не светом, а черной зияющей ямой.
Жилец едет назад, домой, и заходит в комнату на нижнем этаже, где полчаса стоит, глядя на Календарь, составлявший главный труд его жизни за последние двадцать лет.
Теперь он не может найти в нем никакого смысла. Как бы детально и тщательно он ни изучал его теперь, ни одна из хронологических линий не осталась такой, как он запомнил или как чертил, и ни одна из дат не соответствует чему-либо значительному. Не апокалипсис, а апокаляпсус, как засмеялась дочка во сне. А он-то принял это за шутку.
Он снова поднимается по лестнице, ложится на кровать и засыпает, а когда просыпается, смотрит на постель рядом с собой – не вернулся ли кто-нибудь? Но постель все так же пуста, и он встает, поднимается по лестнице, садится в машину и снова едет в город. День уже идет к вечеру. Жилец едва успевает в банк, чтобы закрыть счет, а потом едет в магазин одежды на Мелроуз-авеню и покупает два голубых хлопчатых платья – одно темное, другое светлое, – он полагает, они могли бы пойти к цвету глаз одной девушки, если бы он имел хоть какое-то представление, какого цвета ее глаза. Конечно, он не совсем уверен в размере. Молодая продавщица смотрит на него и в конце концов спрашивает: «Для вашей жены? Для подруги?» – а потом, в надежде, что вопрос не оскорбит его: «Для дочери?» Да, для моей дочери, соглашается он. Она помогает ему подобрать белье. Он спрашивает, какой размер женских туфель считается средним, и она отвечает: седьмой, – и он выбирает пару босоножек шестого размера. Он едет на рынок и покупает еды на две недели, грузит мешки с провизией в багажник и едет по бульвару Сансет на запад.
У Парка Черных Часов он сворачивает на Беверли-Глен под навес деревьев, чьи кроны имеют уже почти весенний вид. Потом едет по Пико в Багдадвиль. Небо над ним синеет все глубже, совершенно очистившись от жестокой грозы, разбудившей его утром два дня назад. Лос-Анджелес, через который он едет, буднично предвкушает апокалипсис, как другие города буднично предвкушают наступление ночи. Никто не является жителем Лос-Анджелеса, в Лос-Анджелесе каждый – обитатель своих снов, а у кого нет снов, тот кочевник. Постепенно спустилась ночь. Жилец паркует машину на другой стороне улицы от «Ангельских глазок» и ждет. Он слышит, как скулят собаки, что бегают по улицам дикими стаями, и то и дело в тенях мелькают фигуры североафриканских девушек для удовольствия, совершенно голых, если не считать высоких каблуков, драгоценностей и черных бурнусов; девушки на ломаном магрибском лопочут что-то прохожим мужчинам. Даже ночью над скрипучими пальмами висит белый илистый свет, словно фильтр.
Жилец сидит в машине почти сорок минут, прежде чем к борделю подходит мужчина. Он несколько раз проходит туда-сюда и то и дело украдкой оглядывается через плечо, в попытках собраться с духом и войти. Жилец вылезает из машины и неторопливо пересекает улицу. Когда он заговаривает с мужчиной, тот вздрагивает: ему кажется, что это полицейский.
Я не полицейский, говорит Жилец. Я хочу попросить вас об одном одолжении.
Парень все оглядывается через плечо. Вы не полицейский?
Жилец вытаскивает бумажник и дает мужчине сто долларов. Я сейчас войду, говорит он, указывая на входную дверь, и хочу, чтобы через десять минут зашли вы и попросили комнату номер восемь. Если номер восемь занят, попросите номер шесть.
Тот ждет, когда Жилец договорит. Вы даете мне сто долларов, чтобы снять комнату?
Комнату шесть или восемь.
Мужчина на мгновение задумывается. Вы не полицейский.
Нет.
Откуда вы знаете, что я не смоюсь с деньгами, когда вы туда зайдете?
Ну, конечно же, я не могу этого знать, отвечает Жилец. Перед тем как войти в бордель, он придумывает объяснение и оборачивается к мужчине: это прыжок веры, объясняет он. Внутри все тот же турок, что был здесь два месяца назад, смутно припоминает его. Тот же здоровенный светловолосый немец-вышибала сидит у самой двери и клюет носом перед телевизором. А, говорит турок, медленно припоминая Жильца, джентльмен к ангелу…
Номер семь.
Турок кивает, прищурив глаза: что-то вас давно не было. Все сегодня, кажется, подозревают его, или это просто воображение Жильца? Подозрительность турка сменяется лживой сердечностью. Ну, раз так, улыбается он и провожает Жильца по лестнице, через коридор, за угол в другой коридор, идущий мимо комнаты № 7, прежде чем исчезнуть в темноте. У комнаты № 7 турок останавливается и отпирает дверь, Жилец дает ему сто долларов и заходит внутрь. Та же голая белокурая девушка висит на том же самом крюке, что и два месяца назад. В свете лампочки, что пылает на стене у нее за спиной, трудно сказать наверняка, но ее бледность кажется более серой, и тело словно еще бессильнее, чем раньше, обвисло на крюке. Она похудела, и во влажном свете Жилец мог бы пересчитать ее ребра. У нее по-прежнему завязаны глаза, и из уголка ее полубессознательно приоткрытых губ течет слюна.
Жилец с облегчением замечает, что при его входе девушка слегка поднимает голову, словно пытаясь обрести какое-то подобие сознания. Он ослабляет прикрепленную к стене веревку, опускает девушку на колени, а потом на пол, куда она бессильно валится. Он снимает повязку с ее глаз. Девушка в полуобмороке, и ее веки слабо дрожат. Он снимает с себя пальто и набрасывает ей на плечи, приподнимает и поддерживает ее, а потом с некоторым усилием открывает дверь. Он несет ее не в направлении лестницы, а в темноту в конце коридора, где опускает и прислоняет к стене.
Из комнаты № 7 ее еле видно в темном конце коридора, только если присмотреться – едва различимая фигура на темном полу у стены. Из двери комнаты № 6, боится Жилец, девушку почти наверняка заметят. Но из двери комнаты № 8, может быть, и нет. Он идет обратно в комнату № 7, закрывает дверь, выкручивает лампочку, чтобы не было света, и в кромешной темноте ждет.
Проходит пять минут, потом десять, потом пятнадцать. Он уже решает изменить первоначальный план и привести в исполнение очень неудовлетворительную и в высшей степени грубую альтернативу, когда в коридоре наконец слышится звук шагов; впрочем, нельзя быть уверенным точно, откуда они и чьи. Жилец задумывается, что делать, если турок увидит девушку, лежащую в темном конце коридора в нескольких футах от двери. Потом слышит, как дверь в комнате № 8 отворяется, доносится короткий обмен фразами между турком и мужчиной, с которым Жилец говорил на улице, а потом дверь закрывается и слышны шаги турка по коридору, направлением к лестнице.
Когда шаги минуют комнату № 7, Жилец дважды громко стучит по стене рядом с дверью. Шаги останавливаются. Жилец колотит еще неистовее. За стеной, в коридоре турок что-то говорит через дверь, и Жилец отвечает лишь новым стуком, пока дверь не отворяется и турок не входит внутрь. Когда он ошеломленно замирает в темноте, в недоумении хлопая глазами, Жилец выходит из-за двери в коридор, закрывает за собой дверь и поворачивает защелку, прежде чем турок наконец понимает, что происходит, и взрывается яростными турецкими ругательствами.
Турок начинает колотить в дверь, а Жилец выносит из темноты голую девушку и несет по коридору. За спиной у него турок поднимает страшный шум, и, спустившись до половины лестницы, Жилец встречает немца-охранника. Вам бы лучше посмотреть, что там, кивает он немцу, а я пока о ней позабочусь. Какое-то мгновение немец в замешательстве смотрит на девушку, потом на лестницу, туда, откуда раздаются крики турка. К счастью, он, похоже, плохо понимает разъяренную турецкую брань. Он протискивается мимо Жильца, который понимает, что теперь времени мало, и надеется, что реакция сонного немца окажется замедленной.
Жилец проносит девушку по лестнице и через вестибюль. Он выносит ее на улицу, где ночь наполняется шумом прибоя в квартале от борделя. Жилец пересекает улицу, прислоняет сползающую девушку к машине и, пытаясь удержать ее на ногах, едва успевает отпереть дверь, когда слышится, как ругань турка в доме вдруг становится громче. Это означает, что немец только что выпустил его из комнаты. Жилец открывает машину, кладет девушку внутрь. В тот момент, когда он садится за руль, турок с немцем выбегают на улицу, турок кричит, а немец подбирает в канаве какую-то трубу. Широко размахнувшись, он успевает разбить заднее стекло машины, однако Жилец уже давит на газ и секундой позже срывается с места.
Он везет девушку к себе домой и вносит ее внутрь, в нижнюю комнату, где раньше жила Кристин, кладет на кровать, укутывает простынями, дает ей стакан воды и пытается заставить выпить. Потом возвращается к машине и приносит купленную на рынке провизию, часть которой рассыпалась в багажнике по пути из Багдадвиля. Он убирает еду в холодильник, а два голубых платья, купленных на Мелроуз, вешает в чулан в комнате Кристин. Там же он оставляет белье и туфли и несколько минут стоит, глядя на колыбельку, которую Кристин туда задвинула. Какое-то время Жилец сидит в темноте, рассматривая белокурую девушку на кровати, и вскоре ему кажется, что ее дыхание сделалось ровнее, что ей стало удобней лежать. Потом он идет в свою комнату и пакует одежду в простую дорожную сумку, будто собирается уехать на пару дней. Он вдет вниз и стоит там какое-то время, снова изучая Календарь, словно теперь может понять его лучше и сумеет прочесть яснее. Однако в конце концов он убеждается, что Календарь остается непостижимым. Если бы с ним можно было сделать что-то осмысленное, если бы какой-нибудь ритуальный костер мог все изменить, он бы так и сделал, – но он оставляет Календарь на стенах и возвращается к спящей девушке, и там, в темноте, он мог бы попросить у нее прощения, будь он полностью уверен, что она все еще без сознания, и не считай он, что это было бы самым худшим вероломством. Взяв дорожную сумку, Жилец снова поднимается наверх, выходит из дому, садится в машину с разбитым задним стеклом и уезжает по склону холма в ночь, по пути чуть не врезавшись в «камаро» с погашенными фарами; ну что за болваны, как можно так водить.
Через два дня он в Париже. Он останавливается в той же гостинице на рю Жакоб, рядом с Одеоном, где жил почти восемнадцать лет назад. Пройдя по бульвару Сен-Жермен до рю Сен-Жак, где к ней примыкает рю Данте, Жилец обнаруживает, что дом, в котором они с матерью и отцом жили в 1968 году, теперь тоже переделали под гостиницу.
Он говорит с консьержкой и объясняет ей, что квартира на верхнем этаже когда-то была его домом. Трудно сказать, насколько ее впечатляет это откровение, но она соглашается показать ему квартиру – или, скорее, то, что когда-то было квартирой. Ее разделили на три отдельных номера, один из которых – его бывшая спальня, второй – комната родителей, а третий – гостиная. Все три номера свободны. Жилец оплачивает две ночи в комнате, где когда-то спали его мать и отец, а потом возвращается и выписывается из гостиницы на рю Жакоб.
Он идет в Латинский квартал и покупает сандвич из длинного батона, потом идет к реке, где облокачивается на низкий парапет и смотрит на воду. Наконец он заставляет себя вернуться на бульвар Сен-Мишель, идет к Сорбонне, сидит три часа в замкнутом дворике, где более тридцати лет назад время превратилось в призрак, а история – в уравнение, которое доказало свою ложность. Я – 7 мая 1968 года, говорит он себе. Я – студенты, сидящие с сигаретами в окнах, я – песни, которые они поют, и вино, которое передают по кругу, я – тихий гул, потрясающий стены дворика. Я – желтые огни Сорбонны в темноте и студенты и профессора в лекционном амфитеатре, от кафедры до галерки, заговаривающие себя до изнеможения. Я – предлагаемые и отвергаемые стратегии. Я – бастующие железнодорожники, я – две тысячи забастовщиков в Нанте, я – бастующие рабочие «Рено», а потом «Ситроена», а потом химзаводов «Рон Пуленк», я – закрытые почтовые отделения, я – закрытые газеты, я – закрытые аэропорты. Я – бастующие электростанции, я – стриптизерши «Фоли Бержер», захватывающие театр, я – закрытый Нантер. Я – закрытый Берлиц. Я – закрытая Сорбонна. Я – множество гневных рук, вскинутых на солнце, я – отчаянный крик протеста против тупого буржуазного представления, против утреннего спектакля богатых матрон и толстых лысеющих докторов, я – скандируемый лозунг «Metro boulot dodo», я — Сартр, болтающий глупости, я – история, притворявшаяся наукой, а теперь распадающаяся в бессмыслицу, я – газовые лампы Одеона и светлые колоннады театра с черно-красными полотнищами флагов над проходами, я – полицейские с глазами-стеклопакетами и резиновыми масками лиц, я – беззаботный шепот девушек «Pas de provocation»[49]49
«Никаких провокаций» (фр. ).
[Закрыть], а затем ответ преисподней, я – переплетение деревьев в садах, я – последний раз, когда садовые пруды спокойно мерцали в темноте, я – убийство, неподвластное запугиванию свидетелей, я – дети, заключенные за ограду, заключенные за живую розовую изгородь, я – разбросанные по траве розово-кровавые лепестки, я – разбитые в щепки и перевернутые столики в кафе и свистящие в воздухе бокалы вина, я – сорванные с петель ставни и жарившие каштаны старики на улице, сброшенные со своих табуретов, я – летящие в огонь котировочные листы фондовой биржи, я – тусклый красный дым в ночи, я – бегство мятежной толпы из Люксембургского сада в пасть метро у Гей-Люссака, я – паника у турникетов, сметающая двери выхода, скатывающаяся по ступеням в туннели, куда с громыханием въезжают поезда, только там нет поездов, я – давка в тупике. Я – мгновение, когда взрывается великая menage a trois[50]50
Жизнь втроем (фр. ).
[Закрыть] двадцатого века – в составе хаоса, веры и памяти. Я – мгновение, когда все оборачиваются друг к другу, студент к студенту, полицейский к полицейскому, студент к полицейскому, полицейский к студенту, когда восторженная дрожь лишает всех всякого соображения, и с сияющими лицами, с восторгом в глазах они говорят дрожащими губами: мы все сошли с ума.