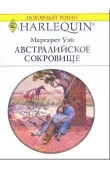Текст книги "Явилось в полночь море"
Автор книги: Стив Эриксон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Но внимание Карла привлекло единственное число между 1 и 9, отсутствовавшее в ряду, как в координатах, так и в шифре. Прежде всего, очевидно, что 4 – первое число, не являющееся простым. Но что более важно – 4 являлось числом, общим для времени и пространства. Во времени есть четыре основные точки на часах, четыре времени года. В пространстве существует четыре стороны света, четыре квадранта. Конечно, это переводилось в более обобщенные вселенские термины, если можно представить себе что-то более вселенское, чем пространство и время: четыре недели, за которые Луна обращается вокруг Земли, четыре недели женского менструального цикла – иными словами, четыре недели, за которые человеческой расе постоянно предоставляется шанс увековечить себя. Стало быть, 4 являлось числом высшего порядка в пространстве и времени, полученное путем удвоения 2 – числа день/ночь и земля/небо, и 2 от 4 отделяло лишь анархическое и непредсказуемое 3. Отсутствие 4 в этом ряду на голубом окровавленном листке, в то время как остальные числа присутствовали и не повторялись, поразило Карла своей значительностью, превосходящей любой возможный смысл, скрытый или явный, и вступившей уже на территорию зловещего. Иными словами, голубой окровавленный листок являлся картой, на которой единственной важнейшей числовой составляющей пространства, времени и жизни не хватало.
Но он так и не имел представления, что же эта карта означала. Он все пытался прочесть формулу как иероглиф, пытался придать каждому компоненту символическое значение, но был озадачен с самого начала, чуть ли не до того, как стал пытаться осмыслить 2. Вверх или вниз? День или ночь? Он все равно никогда особенно не сознавал времени, поэзия времени всегда казалась ему банальной по сравнению с пространством. Картографу, больше пекущемуся о времени, чем о пространстве, следовало бы быть часовщиком, а Карл в жизни не имел часов, не говоря уж о календаре. Вычисляя значения, складывая и вычитая их, умножая и деля, складывая одни и деля другие, вычитая третьи и умножая четвертые, он ждал, что какая-нибудь формула с каким-то очевидным соответствием совместит координаты на маленькой голубой карте с какой-нибудь значительной точкой на его больших картах, с какой-нибудь до боли знакомой топографией так же неотвратимо, как оптический прицел находит цель.
Его последняя и самая сумасшедшая картографическая авантюра случилась более пятнадцати лет назад, когда лос-анджелесские власти поручили ему составить карту пропавших снов города. Через несколько месяцев после 31 декабря 1999 года жители Лос-Анджелеса начали замечать, что их сон совершенно лишен сновидений, и этот феномен совпал с массовым разграблением капсул времени в Парке Черных Часов на западной окраине города. Постепенно население города впало в состояние судорожной бессонницы, а потом и буйно цветущего помешательства.
Конечно, с точки зрения логических умозаключений задача, стоявшая перед Карлом, была абсурдом. Было бы не так-то просто снять карту и с существующих снов, что уж говорить о несуществующих, пропавших из мира? Как-то раз четырехлетняя девочка прибежала по пыльной улице призрачного китайского квартала спросить нечто подобное у своего дяди и поставила его в тупик – а годы спустя Карлу поручили не только дать ответ на этот вопрос, но и выстроить диаграмму. Тем временем отцы города ломали голову над причиной того, почему сны пропадают, но были полны решимости выяснить ее любой ценой, так как от этого зависела сама жизнь города. Хотя Карл никогда раньше не бывал там, он понимал, что Лос-Анджелес представляет собой не что иное, как город чужих снов, – потому-то отцы города буквально превратили городской пейзаж в кинозал, где денно и нощно на стенах зданий, на стенах комнат, на бетонных плитах тротуаров и асфальтовых равнинах улиц показывали старые фильмы.
Город синтетических снов мерцал между сознанием и подсознанием, где коллективное бессознательное провалилось в трещину. Карл спал в своей комнате в обветшавшем отеле «Хэмблин», а эти истерические сны без конца трещали у него на потолке: вот демонически красивая женщина скачет верхом по плоскогорьям Нью-Мексико, развеивая из урны прах своего отца, а наблюдающий за ней писатель безумно влюбляется в нее. Самый прекрасный мужчина из когда-либо снимавшихся в кино идет в газовую камеру не за совершенное убийство, а за убийство, которое он замыслил совершить из любви к самой прекрасной женщине из когда-либо снимавшихся в кино. Управляющий казино в послевоенной Аргентине женится на женщине, которую любит, исключительно с целью уничтожить ее за то, что когда-то она его отвергла. Богатая дама из высшего света кидается в море, чтобы концертный виолончелист, которого она любит, не бросал ради нее свою музыку. Двое любовников, преступник и полукровка, израненные и истекающие кровью, ползут навстречу по суровой равнине Дикого Запада, маня друг друга страстными мольбами, и не могут устоять от соблазна, хотя каждый знает, что второй решился на убийство. Когда Карл, собрав воедино данные со своих карт сновидений, пришел к убеждению, что пропавшие сны находятся в задней комнате круглосуточно работающего магазинчика на углу Адаме и Креншоу, среди сигарет, пива и эротических журналов, ему уже не было дела до того, что отцы города его уволили. Последний сон убедил его, что с него все равно хватит.
Тайна происхождения последнего кусочка фильма и подрывного акта, что ввел его в бесконечный круг снов, спроецированный на город, была почти сродни ужасу. На заброшенном автовокзале, в муках ужаса перед неминуемой смертью, висела голой на крюке молодая актриса, пришедшая на пробы, оказавшиеся для нее роковыми. Стоило этой сцене показаться у Карла на потолке, как он поспешно упаковал сумку, выбежал из отеля, поймал такси и помчался по Сансет-Стрип. Такси довезло его до автовокзала, где он сел на автобус, идущий на север, и добрался до Сан-Франциско, где, как он думал, можно будет хотя бы вернуть наконец собственные сны. После этого Карл на время потерял свою веру в карты и погряз в нищете, которая в конечном итоге привела его в заброшенный отель «Посейдон» рядом с Драконовыми Воротами в китайском квартале Сан-Франциско.
Но теперь, когда он нашел маленькую окровавленную голубую карту в стене своей квартиры, его снова поглотила логика карт. День и ночь напролет он намечает координаты, карты окружают его – они на полу, под ногами, и на стенах, и его мысли начинают кружиться в круговороте. Теперь день и ночь он производит в голове вычисления, истязая свой мозг в попытках выяснить, какая алгебраическая стратегия прояснит заданное уравнение, какой решающий неизвестный фактор даст ответ. К концу этого вечера Карл, изголодавшийся, поскольку не совершил своей обычной прогулки в булочную и китайскую забегаловку, загнал себя в мириады предварительных условий, касающихся безумных графиков, курсов, чертежей, пересечений мельтешащих широт и рушащихся меридианов, его мозг помешался на уравнениях, координатах, неизвестных факторах, и, измученный все более абсурдными результатами, старик уже попросту не мог отключить свой мозг. Даже погрузившись в кресло, выключив лампу и закрыв глаза, он не мог остановить мечущихся в голове вычислений. В темноте было даже хуже – не оставалось ничего, кроме шифров и координат, так и сяк катающихся в глазных шарах, пока даже внутренняя поверхность закрытых век не превращалась в карту.
Какое-то время он посидел с выключенным светом, жалея, что нечего поесть. В темноте в пентхаузе было страшно; Карл ловил себя на том, что прислушивается к странным звукам, которые могли издать незваные гости. В зловещей тишине маячила темная тень на месте, где прежде был лифт, а теперь оставалась лишь пустая шахта с доской, наискось прибитой поперек проема, где когда-то открывались и закрывались двери. Карл всегда боялся передвигаться по комнате в темноте – боялся споткнуться и упасть в шахту лифта. В темноте снаружи он различил клубы тумана, ползущие от залива по Грант-авеню; туман заволакивал таинственное граффити на доме напротив, хотя Карл видел его тысячу раз. Там было написано: «Я УПАЛ В ОБЪЯТЬЯ ВЕНЕРЫ МИЛОССКОЙ». Карл опять включил свет и начал изображать новый, по уточненным данным, чертеж на очередной карте, а потом снова в изнеможении уронил карандаш. Его тело ненавидело это кресло, его ум ненавидел эту одержимость. Я не одержим своими картами, это мои карты одержимы мной, говорил он раньше, много лет назад, но теперь он действительно был одержим ими и не знал, означает ли это, что его вера навсегда пропала. Он никогда точно не знал, во что верит, и однажды сказал, что в глубине любой веры таится лишь вера в саму веру. Его глаза ослабли, расфокусировались, хотя он всегда отличался хорошим зрением, за что с годами все чаще благодарил судьбу, так как ему становилось все трудней позволить себе очки; но снова, хотя он и положил карандаш, он не мог остановить вычислений у себя в голове, и в изнеможении его мозг соскользнул в хаос, где сливались воедино все дневные сомнения и ночные уверенности, и 2, 3, 7, 5, 68 и 19, и черная разинутая пасть лифта, и граффити на стене дома напротив, и имя девушки.
Мысль вспыхнула в уме так быстро, что он тут же забыл ее. Но чуть погодя его мозг проделал последнее необъяснимое вычисление, и когда Карл открыл глаза, все координаты схлопнулись к нулю.
Теперь он нахмурился, глядя на недочерченную карту. Ноль? Может быть, ноль и ноль? Ноль градусов широты и ноль градусов долготы – где-то на краю Гвинейского залива? Но его разум пробормотал не «ноль и ноль», а просто ноль, и он снова начинает вычислять, только чтобы снова вконец запутаться. И чем больше он старается восстановить вычисление, которое проделал его мозг в мимолетное мгновение, тем больше запутывается в совсем других вычислениях. Он снова закрывает глаза и пытается спокойно поразмыслить о том, что привело его к нулю. Определенно, раньше у него никогда не получалось нуля, никогда он не читал ни одну точку, ни на одной карте, что когда-либо чертил, как обыкновенный, абсолютный ноль, а теперь, как ни пытается, не может воссоздать его. «Что же я сделал, чтобы вышел ноль? – вслух говорит он сам себе. – Как же у меня это вышло?» Он решает, что теперь действительно сойдет с ума, и принимается пристально разглядывать предыдущие расчеты, ища ответа. Но не находит.
Он и не хочет найти его. И это самое безумное. Он не хочет найти ответа, который оказался нулем. В момент, когда он дошел до нуля, перед ним открылся Момент, и за этим моментом страшное чувство пропасти, и он отпрянул от него, может быть, объясняя себе, почему не может найти его снова, а может, объясняя себе, почему не мог найти его до сих пор. Он надеется, что это просто неверный ответ, выданный его мозгом – настолько уставшим, что лепечет что-то сам себе, – по ошибке. Но то, что делает ноль столь неправдоподобным и в то же время придает ему правдивость, это его совершенная пустота, совершенное сжатие в ничто всех координат – определенных шифром, в котором пропущена четверка, выстраивающая по порядку пространство, время и жизнь. Теперь, по прошествии часов и дней, когда его поглощали попытки доказать ответ, Карла поглощают попытки опровергнуть его; он испробовал все возможные комбинации вычислений, пытаясь убедить себя, что как бы и что бы ни делать, голубая карта на стене никогда, ни сложением, ни вычитанием, не приведет к нулю.
Наконец, уже не в силах этого терпеть, он опускает свое старое тело на пол, заворачивает его в карты, как в простыни, и закутывается в них – карты на груди, карты под головой, они окутывают его, как одеяло, и даже в темноте он сразу же находит пересечение двух линий. Не выронив карандаша из рук, он соскальзывает в беспокойный сон. Хотя ему часто снятся сны, ему почти никогда не снится прошлое; однако недавно ему приснился Прованс, куда в молодости он думал удалиться от дел, чтобы работать на винограднике, и теперь, когда он то и дело просыпается ночью, ему снится она, он ясно видит ее лицо, видит ее на улицах Ист-Виллиджа в те дни или случайные ночи, когда она сбегала от своих ночных занятий. Он не был столь наивен, чтобы не задумываться, чем же она занималась, но в то время он был еще достаточно молод, чтобы простить все, если бы она позволила ему простить ее, и когда они лежали в его крохотной каморке на площади Св. Марка, глядя на стены, оклеенные картами Лондона, Парижа и Вены, он понимал, как близок к тому, чтобы избавить ее от тех секретов, о которых она отказывается рассказывать. В углу сидел маленький плюшевый мишка. Мы возьмем его с собой, обещал ей Карл. В твоем желании сквозит больше идеализма, сказала она (или что-то в этом роде), чем у всех мужчин, которых я когда-либо знала; ты говоришь о моей улыбке, а не о моей груди, и я чуть ли не верю, что ты говоришь искренне.
После этого ему оставалось лишь пытаться оказаться достойным своего идеализма, что часто означает предпочтение идеализма вожделению, – выбор, который отмечает и конец, и начало любви. Какое-то время Карл едва мог преодолеть тягу проследить ночью, где она живет, где работает, увидеть все места, о которых, он знал, она не хочет, чтобы он знал. В то время он думал, что, возможно, если столкнется с ней, если скажет ей: «Я все знаю, и мне все равно», – все ее тайны беспомощно рассыплются. Но он все же преодолевал это желание и не следил за ней, и не был уверен, удерживается ли потому, что она сочтет слежку предательством, или потому, что какими бы ни были ее тайны, если бы они открылись, между ними могла разверзнуться пропасть, или, как он больше всего боялся, потому что он мог оказаться не таким великодушным, каким считал себя, и, узнав ее тайны, вместо этого сказал бы ей: «Я все знаю и не могу этого вынести». Он не очень полагался на возможность того, что она лучше поняла его сердце, чем он сам. Теперь, сорок лет спустя, ее имя стало для него самой большой тайной из всех.
И тут сон нашептывает разгадку тайны ему на ухо.
Он просыпается в темноте с ее именем. И снова оно тут же исчезает из памяти. Туман с залива плывет через окно и заполняет пентхауз. Карл садится на своей постели, все еще с карандашом в руке, а в другой руке все еще держит карту, которую чертил во сне. Подковыляв к столу, где он включает маленькую настольную лампу, он видит написанные за миг до пробуждения координаты, спиралью взвившиеся в воздух, прежде чем опуститься в какую-то точку, расположенную – если бы кто-то мог увеличить масштаб карты до настоящего – в ветхом пентхаузе на пересечении Грант и Буш в городе Сан-Франциско. Карл всю ночь не выключает свет в твердой и неколебимой уверенности, что исчезает.
И все же это должно случиться еще раз, прежде чем он начинает понимать. Только на следующее утро, одолеваемый небывалой усталостью, к тому же сцепившейся в жестоком поединке с голодом, Карл встает, чтобы спуститься на улицу и пойти в булочную и в китайский квартал, – и тут с некоторым смущением обнаруживает, что за ночь лестница отеля рухнула. Несколько пролетов, ведущих из пентхауза, висят в воздухе на полпути, и далеко внизу виднеются несколько поднимающихся пролетов, которые тоже останавливаются в воздухе на полпути, а посередине – никаких признаков разрушения, как будто остальные пролеты просто растворились в темноте. Карл стоит наверху, ошеломленно вглядываясь вниз в попытках вспомнить, слышал ли он обвал лестницы во сне, и размышляя, как же лестница могла рассыпаться так бесследно и бесшумно, заключив его наверху. В раздумье о том, не оглох ли он, или, может, отупел, или просто так погрузился в усталость и одержимость, что совершенно не замечал происходящего вокруг, Карл скорее недоумевает, чем ужасается оттого, что теперь ему не спуститься на улицу. Ничего не видя, он ковыляет обратно в пентхауз и через окно смотрит на город, думая, может ли он кого-нибудь позвать, сможет ли он что-нибудь сказать, чтобы кто-нибудь услышал, и может ли кто-нибудь что-нибудь сделать, даже если услышит его.
Вот так он смотрит в окно и вдруг видит на улице внизу девушку из магазина воздушных змеев, которая несколько дней назад так напомнила ему другую девушку, чьего имени он не может вспомнить. А она, стоя в арке Драконовых Ворот, вдруг смотрит вверх, на него, и даже издали Карл может различить ее ярко-голубые, васильковые глаза.
Он хочет позвать ее, когда, словно оно приплыло с туманом, на долю секунды он вспоминает имя той, другой, девушки, и в голове у него снова мелькает молниеносное вычисление нуля, и он наконец сознает, что память – это и есть тот самый исключительный неизвестный фактор его сумасшедшей географии. Зацепив и взорвав все возможные значения его жизни, низведя его к пустоте, висящая на стене маленькая голубая карта накрепко зафиксировала его на территории его памяти; хотя запятнавшая ее кровь – не его, она могла бы быть его собственной. Для человека, чья жизнь была координатной сеткой, для человека, жившего в координатах, это – числа скорее превратной, чем удивительной благодати: когда-то он видел свет, а теперь потерялся в пучине, его личные координаты путешествовали вместе с ним, соотносясь не с какой-то обычной картой, а с вечно изменяющейся, вечно преображающейся картой, принадлежащей только ему. Эти координаты являются ориентиром для всего и всех, кроме него самого. Он сам на ней – Северный полюс безответной любви, и вместе с приливом памяти, поднявшимся с улицы до вершины ворот с аркой мертвого дракона, а потом и до окна его пентхауза, нуль тумана поглощает девушку внизу и замыкает в себе все вокруг.
Однажды ночью в последние месяцы 1998 года Жилец проснулся в ужасе, старом, как само время. Это был ужас перед присутствием смерти – если не в его спальне, если не в его доме, если не в его городе, то в хаосе, ныне несомненном, мельком увиденном наяву, а не постигнутом абстрактно. Недавно Жилец смутно осознал, что незаметно вошел в ту фазу жизни, когда память о чем-то оказывается более завораживающей, чем само это что-то, когда память о несбывшемся сне оказывается сильнее, чем сбывающаяся явь.
Сон мог быть любым. Это мог быть сон архитектора, или кинозвезды, или политика – и смерть, которой погибал сон, более опустошительна, чем смерть, которой оканчивается жизнь, потому что после приходится жить со знанием о погибшем сне, а ведь никому не приходится жить со знанием гибели собственной жизни. Как-то ночью в 1998 году, а потом на следующую ночь и опять в дальнейшие ночи Жилец начал просыпаться с этой самой важной из смертей – смертью смысла жизни, с осознанием, что его Календарь не получился, что смысл эпохи ускользнул от него, что огромная сеть пересекающихся хронологических линий – в которую он рассчитывал поймать истину, а в центре сделать дверь, портал, через который надеялся ступить обратно к мгновению тридцатилетней давности, когда одиннадцатилетним мальчиком на улицах Парижа навсегда потерял свое детство, – эта огромная сеть пересекающихся хронологий порвалась, как призрачная паутинка, с самого начала существовавшая лишь в его воображении, – более того, его лицемерные поиски стремились не к истине, а к славе, и лежащее в их основе тщеславие подрывало не только целостность его жизни, но и всякую возможность успеха этих поисков, если она когда-то и существовала. Он потерпел неудачу в своих поисках потому – теперь, в темноте, это стало ясно, – что заслуживал неудачи.
Недавно он получил полис страхования жизни. В восьмидесятых и начале девяностых он сводил концы с концами благодаря поддержке его работ со стороны академических и исторических кругов, и они с Энджи жили на скромные, умеренные гранты, предоставляемые ему на исследования апокалипсиса. Но к концу девяностых он уже всем надоел. Теперь его считали не за провидца, а за юродивого, слова которого ни для кого не представляли интереса. Вскоре его средства стали иссякать, а с ними и перспективы, и когда он уже никого не мог ни в чем убедить, то понял, что бесповоротно движется по спирали к концу жизни. Однажды ночью в конце 1998 года ему приснился сон, в котором он отхаркал собственное сердце. Во сне он выплюнул его, после того как оно отделилось от стенки горла, и поймал в руки и какое-то время стоял, глядя на еще бьющееся в руках сердце, а потом собрался было прибить его к Календарю на стене, к 7 мая 1968 года, но тут услышал, как за спиной кто-то проговорил: «Что ты делаешь?» Он уже замахнулся молотком, но обернулся и увидел маленькую девочку с черными азиатскими волосами, лицом Энджи и его собственными пронзительно-голубыми глазами.
Ты моя дочь? спросил он.
Да, ответила она, и он проснулся.
Допустим, я чудовище. Но давайте допустим, что в ту ночь, когда мне пригрезилась моя дочь, я услышал первый шепот возможного искупления. Она приснилась мне еще до того, как сама Энджи узнала о ее существовании, новорожденная девочка, которая наговорила массу умнейших, провоцирующих на раздумье мыслей. Допустим, девочка сказала мне: «Я тот бог, в которого ты притворялся, что не веришь».
Очнувшись от сна, я обнаружил, что лежу меж бедер Энджи, прижав ухо к ее животу.
На следующую ночь девочка уже выросла в человечка с черными азиатскими волосами, как у матери, и голубыми глазами, как у отца, а еще на следующую ночь ей был год, а еще через неделю она уже была карапузом во власти исконной невозмутимости, жизнерадостным пришельцем из космоса. С каждой ночью, с каждой неделей она становилась все взрослее, вступила в отрочество, еще до того как Энджи выявила ее присутствие… Все больше и больше Маленькая Саки становилась похожа на Энджи, если не считать голубых глаз, особенно нервировавших на ее азиатском личике. Во сне она говорила голосом космического разума, который, как я всегда утверждал, давно поглотило время. Мы спорили о жизни, и она клала меня на лопатки в каждом раунде, но мои поражения несли не горечь, а лишь радостное осознание, и его ясность и сила улетучивались только с первым утренним светом.
Однажды вечером, не так давно, в телевизионном интервью знаменитая актриса, легенда своего времени, суровая и неукротимая представительница Новой Англии, теперь уже давно разменявшая девятый десяток и оглядывающаяся назад на то, что явно считала величайшей драмой своего времени, сказала нечто такое, что нередко можно услышать от людей, постоянно читающих сценарий, который привыкли считать своей жизнью.
– Если бы мне пришлось прожить жизнь заново, – заявила она срывающимся от гордости голосом, – я бы ничего не изменила.
Конечно же, мир обожает подобные речи. Это так сурово, и неукротимо, и легендарно. Мир воспринимает это как свидетельство тяжело доставшейся мудрости много пережившего человека, триумфальное прощальное слово, гранитный завет человеческого духа, хотя на самом деле это последнее выражение самовлюбленности, последний жест любования своими добродетелями, униженное благоговение перед собственным мифом… Моя жизнь была такой легендарной – кто же захочет исправить ее? Даже мои промахи были такими легендарными – кто же захочет исправить их? Я так легендарна, неукротима и сурова – кто же захочет тратить такую сказочную жизнь на то, чтобы чему-то учиться? Заполучив шанс пережить такую мифическую жизнь заново, кому бы захотелось сделать сотни вещей, на которые в свое время у меня не хватило страсти или мужества, кому бы захотелось исправить сотни вещей, которые в свое время я совершила, потому что не хватило ума или силы воли? Моя жизнь просто слишком совершенна и незаурядна – и действительно, как же может быть иначе, раз ее прожила я? — для того, чтобы теперь испытывать что-то, мало-мальски напоминающее сожаление, чтобы тратить мало-мальское время на то, чтобы задуматься, признать и примириться с тем, что была тысяча упущенных возможностей сделать что-то или не делать чего-то, оказаться лучше, сильнее, храбрее…
В восьмидесятых мы, Энджи и я, провели столько времени, стараясь быть ближе друг к другу – зачем, мы сами не понимали… Провели в восьмидесятых столько времени, стараясь преодолеть эмоциональную пустыню между нами, на которую смотрели с противоположных горизонтов. К началу девяностых мы наконец встретились посредине той пустыни, с великими усилиями пройдя ее с противоположных краев, преодолев все, что наши жизни воздвигли у нас на пути. Но, конечно, наша встреча посредине не изменила ландшафта. В то время как близость между Энджи и мной увеличилась, окружающий пейзаж не изменился, и близость его от нас оставалась той же. Мы верили, что наше сближение, может быть, заставит эту пустыню исчезнуть, но, добравшись друг до друга и оглядевшись вокруг, мы увидели повсюду лишь пустыню. Может быть, идя друг к другу, мы все время шли совсем не в том направлении.
Женившись через пятнадцать месяцев после прибытия в Лос-Анджелес, еще через пятнадцать месяцев я закрутил роман с одной женщиной, «исполнительным продюсером» на какой-то студии – это один из тех остроумных титулов, что в Лос-Анджелесе дают людям, чтобы они думали, будто их жизнь что-то значит. Пару лет спустя у меня был короткий загул с одной секретаршей, что можно в некотором смысле посчитать за рост.
Более разъедающим, чем чувство вины за мою неверность, было ощущение вероломства – если допустить, что между тем и другим имеется разница. И то и другое есть предательство, но одно кажется более рутинным, чем-то повседневным в жизни и любви, а другое – чем-то фундаментальным, распадом не просто сексуального согласия, а взаимопонимания в совместной жизни. Я изменял не просто телу Энджи, хотя не уверен, что изменял ее любви, – спустя десять лет вопрос любви оставался так же окутан для нас тайной, как и при первой встрече. Но я изменил всему, через что мы прошли вместе, я изменил цене, которую мы заплатили вместе, хотя мы и платили каждый по-своему. Вероломство заключалось в осознании, что моя измена, скорей всего, не разорвет нас, а наоборот, поможет остаться вместе, и что если Энджи тоже изменит мне, это тоже, скорее всего, поможет нам остаться вместе. Мы дошли до той точки, где если бы я заподозрил, что Энджи тоже мне изменяет, это было бы облегчением. Вот на чем основывался наш брак – на взаимном облегчении от нашей общей испорченности. Возможно, иные браки держатся на чем-то еще похуже. Но это не отменяет моего вероломства, и еще много лет я просыпался по ночам в страхе, что вся моя жизнь – это акт вероломства, что все в ней было эгоизмом и больше ничем, что все человеческое общение основывалось на невысказанном и даже неосознанном расчете и имело какой-то тайный мотив, и в тот момент, когда море вероломства поглотило всю твою жизнь и нет ни малейшего островка, с которого ты мог бы попытаться перекинуть мостик верности, так как даже эта попытка вызывает подозрение, что и верность – не что иное, как эгоизм, а альтруизм – не что иное, как солипсизм, даже эти явно выраженные страдания прямо здесь и сейчас – не что иное, как жест в сторону совести, призванный убедить ее, что она существует.
Посреди всего этого мы оба не заводили речи о ребенке. Когда Энджи забеременела, ей было тридцать шесть, и я знал ее почти половину ее жизни. В эпоху хаоса поцелуем пробуждая женщин от их собственного тайного тысячелетия (что тоже было вероломством, учитывая, зачем я их целовал – чтобы завладеть ими), теперь я столкнулся с вакуумом смысла в собственной жизни, потому что у Энджи хватило безрассудной смелости – представьте себе – спасти собственную жизнь. Она спасла ее просто тем, что жила, спаслась просто тем, что преодолела дурные сны о Нью-Йорке, переросла привычку сводить все свои чувства и веру к однословным замечаниям, даже если это преодоление и перерастание происходило в пустыне. Кажется, я забеременела, сказала она, и я кивнул – и она удивилась, что я не удивился. Мы поговорили о шагах, которые предпримем для прерывания беременности, пока наконец я не сказал:
– А что, если бы мы ее оставили?
Энджи в замешательстве посмотрела на меня:
– Кого?
– Ребенка.
– Ты считаешь, это девочка?
– Кто угодно, – сказал я. – Ребенок.
– Ты хочешь ребенка?
Это отчасти тронуло ее, отчасти рассердило. В основном она была потрясена, как, на моей памяти, ничем и никогда раньше – сильнее, чем сотнями нью-йоркских кошмаров. Ни одна из ее усвоенных за годы масок – ни маленькой девочки с плюшевым мишкой, ни лощеной, бывалой, умудренной опытом женщины – не была готова к такому развитию ситуации. Мы поговорили, и в ту ночь во сне я сказал Маленькой Саки о прерывании беременности. Девочка, казалось, совершенно не огорчилась. Допустим, сказал я ей, что ты бог, как сама говоришь… Какая священная миссия прервется, если прервется твое существование?
Никакой священной миссии нет, терпеливо проговорила девочка. Если вы не даруете мне жизнь, бог во мне просто двинется дальше, чтобы родиться где-то еще, у кого-то еще.
– Нам нужно принять решение, – сказала Энджи через пару дней. – Ты хочешь этого ребенка?
Почему я не мог просто сказать «да»? Я не верил ни единому «да» и не верил ни единому «нет». В вероломной жизни любой ответ был подозрительным. Я оставил решение за Энджи, которой нужно было услышать, что я вслух верю во что-то – по крайней мере, хотя бы в одно это. И я ничего не сказал, а позже, когда она ушла, заключил, что своим молчанием предал своего ребенка. Спасая жизни, до которых мне не было дела, просто ради острых ощущений, я не смог всего лишь сказать «да», чтобы спасти эту жизнь ради любви к ней.
И тогда Энджи спасла ее. Она не сделала аборт по причинам, которые, как она решила из-за моей пассивности, меня не касались. В своей вероломной жизни я проживал дни безверия только ради того, чтобы ночью быть с моей дочерью. Недели и месяцы Энджи пухла, готовясь к разрешению от бремени, а по ночам я спал, прижав ухо к ее животу. Однажды ночью, через несколько недель после подтверждения беременности, я нигде не мог найти Маленькую Саки. Я блуждал во сне, ища ее, и просыпался в темноте от прорехи во вселенной подсознания… Энджи лежала на кровати рядом со мной в страшных муках. Три часа она корчилась, ее матка извивалась, и Энджи была уверена, что ребенок погибнет, а я, к своему удивлению, поймал себя на том, что молюсь, молюсь любому сомнительному богу, который выслушает меня: «Не погуби ребенка!» Это была мольба за пределами разума и даже эмоций, она рвалась из какой-то не известной мне части меня. Не потеряй ребенка.
Энджи не потеряла ребенка. Это не было ее ответом – или ответом какого-либо бога – на мои мольбы, это была просто случайность. На следующую ночь, снова увидев девочку, я сказал ей: этой ночью что-то случилось – и она лишь ответила: не будем говорить об этом. Когда она стала девушкой, а потом и молодой женщиной, а потом и зрелой женщиной средних лет, мы проводили много часов, в которые я не учил ее ничему, а она учила меня всему. Мы без конца путешествовали по железной дороге и видели на обширном небе падучие звезды. Что ты видишь? – спросил я ее. Я вижу тени материнских ребер на небесном куполе, сказала она. Что ты слышишь? – спросил я. Я слышу быстрый ток материнской крови, ревущий в оврагах капилляров, сказала она. Все, что я мог дать ей взамен, – это Голубой Календарь, развернутый в длинном узком зале… Это, сказал я ей, в тщеславной отцовской надежде наконец поделиться с ребенком чем-то существенным, то, на изучение чего я потратил всю мою жизнь. Это ущелье хаоса, по которому я ходил всю жизнь.