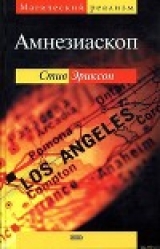
Текст книги "Амнезиаскоп"
Автор книги: Стив Эриксон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Сначала это было просто. Критику следовало знать всего одно правило: все, что не недооценено, – переоценено. В это уравнение можно было подставить любой фильм, режиссера или актера и застолбить соответствующую позицию, принимая во внимание, конечно, что нечто может быть недооцененным вплоть до того момента, когда становится переоцененным, каковым остается до неизбежной встречной реакции, и тогда вновь становится недооцененным. Точки, в которой обожание или презрение культуры тонко сбалансированы, подвешены в совершенной пропорциональности, не существует; несколько лет назад я сам был недооценен и переоценен в одно и то же время. За пределами этой простейшей алгебры, признаюсь, был мимолетный период, когда – тайно, наивно – я лелеял надежду на что-то большее. Я надеялся, что в городе без политики, без личности, без смысла и без логики появится новый кинематограф, который я называл Кинематографом Истерии. Я был убежден, что этот тайный кинематограф формировался на протяжении всего двадцатого века, хотя никто этого не замечал, поскольку по своей природе он был рассеян и энтропичен и открывался лишь на аванпостах, представленных такими фильмами, как «В укромном месте», «Шанхайский жест», «Невеста Франкенштейна», «Место под солнцем», «Гильда», «Без ума от оружия», «Головокружение», «Одноглазые валеты», «Великолепие в траве», «Источник», «Маньчжурский кандидат» и «Пиноккио». Это фильмы, в которых совершенно нет смысла, – и которые мы понимаем до конца. Это фильмы, которые останутся, когда Америка совершенно лопнет по швам, кино, которое оторвется от своих якорей и шатко двинется по экрану Америки, который ничего не помнит. В эпоху, простроченную неуверенностью технического прогресса, финансовых переворотов и чумой смешанных телесных соков, когда мы паникуем настолько, что пускаем корни во все притворно узнаваемое – будь то работа, подруга, усердно исписанный календарь, телефонный справочник с обновленными междугородными кодами, – скрытое течение эпохи вытягивает нас к иррациональной истине, которую удовлетворяет лишь иррациональный кинематограф. В итоге такое кино пребывает где-то на дне души или же на самом верху – последний пронзительный выкрик истины за пределами слов и мысли, затрагивающий вопросы одержимости и искупления, находящиеся за пределами рациональных расчетов технологии или рациональной цены финансов или даже рационального растления чумы.
Только позднее я осознал, что такого кинематографа не будет по той же причине, по которой я изначально стал кинокритиком. С тем, как время и страсть истощаются до размера булавочной головки, публика начала понимать, что ей не нужно более подвергать себя подлинному переживанию искусства, что вместо этого она может гораздо быстрей и эффективней определять и синтезировать искусство, которое уже прошло обработку критической интерпретацией. Еще лучше, еще эффективней – когда второй критик откликается на замечания первого и искусство отстраняется вдвое; еще лучше, когда третий критик отвечает второму, оно отстраняется втрое. Когда мне стало ясно, что обозреватели, комментаторы и профессиональные наблюдатели всех мастей – это истинные волхвы новой эпохи, я также увидел, что с каждым новым экспоненциальным завихрением текущего культурного логарифма художник приближается к тому идеальному утопическому моменту, когда он или она исчезнет совсем. Ну, я не дурак. Как романист я чувствовал, что становлюсь все более бестелесным с каждым проходящим моментом.
Вот только… вот только через какое-то время скука, нагоняемая обозрением фильмов, которые невозможно было ни недооценить, ни переоценить, которые вообще не стоило оценивать, начала сводить меня с ума. И я не мог выбить его из головы, мой Кинематограф Истерии, когда на прошлой неделе засел писать рецензию на считавшийся утерянным, но восстановленный и вновь выходящий в прокат истерический немой шедевр «Смерть Марата» легендарного режиссера Адольфа Сарра, который снял этот фильм, когда ему было двадцать пять, и больше не снял ничего. Это была одна из моих лучших работ. На самом деле это, возможно, была лучшая рецензия, которую я когда-либо написал. Гениально анализируя структуру и монтаж, красноречиво иллюстрируя великолепную игру ведущей актрисы, я захватывающе теоретизировал о том, как вся история кино могла бы измениться, будь «Смерть Марата» по достоинству оценена, когда впервые вышла на экран; я даже процитировал интервью с Д. У. Гриффитом, в котором он признавал влияние «Смерти Марата» на его собственные работы. Словом, просмотр этого фильма был одним из самых светлых моментов моей карьеры кинокритика, уверял я читателей («незабываемые впечатления»), и в конце статьи я навязчиво вопрошал о том, что сталось с Сарром, который, без сомнения, был мертв. Я лишь надеюсь, заключал я, что он дожил до того дня, когда его видение было отмщено. При перечитывании это послесловие чуть не заставило меня прослезиться.
Единственное, что меня заботило в этой рецензии, это то, что фильма «Смерть Марата» и режиссера по имени Адольф Сарр не существовало. Я их выдумал. Занимая здесь и там у французской революции, я выдумал сюжет фильма, хотя только местами и кусочками, конечно же, поскольку критик никогда не хочет выдать слишком многого; я выдумал актеров, выдумал декорации, выдумал ракурсы съемки. Я выдумал синемаскопические эффекты. Единственная правда в моей рецензии заключалась в том, что режиссер по имени Д. У. Гриффит действительно существовал, хотя интервью, о котором там говорилось, я тоже выдумал. К тому времени, как я вернулся домой из редакции после сдачи статьи, я уже начинал раздумывать, что скажу, когда мне предъявят обвинение в мошенничестве, что случится в скором времени, если не сразу же. Мне оставалось надеяться, что редактировать статью назначат доктора Билли О'Форте; до него сразу дойдет смысл хохмы, которая, может быть, доставит ему несколько веселых минут, а потом у нас будет время вдвоем подумать о том, что делать с моей шуткой. Мы могли просто сказать Шейлу, что я написал рецензию на что-то еще и безнадежно запорол задание, и вообще похерить всю статью. Шейлу это не понравится, но в целом отсутствие рецензии, наверно, было предпочтительней рецензии на фильм, которого на самом деле не существовало. Однако быстрый звонок доктору Билли выявил, что не он редактировал статью, а сам Шейл. Шейл вряд ли будет склонен смеяться. Будет как в тот раз, когда я написал о стрип-баре как духовном центре Лос-Анджелеса, и статью бросили мне в лицо, с той разницей, что стрип-бар на самом деле существовал.
Шейл мог позвонить в любую минуту. Я без конца включал и выключал телефон, решив, что нужно наконец покончить с этим. Это последняя соломинка, скажет он, за исключением того, что – будучи Шейлом – он так не скажет; он будет тактичен, чувствительно отнесется к глубокому личному отчаянию, которое довело меня до такой выходки, и на сердце его будет лежать тяжкое бремя журналистской ответственности. Наконец телефон зазвонил. Разговор был странным. Шейл говорил о том, что хочет укоротить второй абзац и переписать первую фразу третьего; он доказывал, что средняя часть последней таблицы была ненужной.
– Статья хорошая, – заключил он.
– Э-э-э…
– Завтра зайдешь в редакцию?
– Нет, я… Шейл?
Что, спросил он; ничего, ответил я; и мы повесили трубки. Какое-то время я сидел и пытался понять, что происходит, и тут меня осенило: конечно же, он пытался стыдом выпытать у меня признание. Он хотел увидеть, как далеко я зайду, прежде чем остановиться. Или… или это была шутка, подумал я. Он обратил мою же шутку против меня, и вообще она все равно так далеко не зайдет, должны же выпускающий редактор, служба проверки и отдел искусства забить тревогу. Разве существовала хотя бы маломальская вероятность, что один из этих занудных двадцатилеток в службе проверки пропустит такое? И следующие сорок восемь часов каждый раз, когда кто-то звонил, я бросался к телефону, наполовину с ужасом, наполовину с облегчением ожидая услышать, что обман мой раскрыт. Когда я так и не услышал вестей от выпускающего редактора, я действительно расслабился, потому что это должно было значить, что Шейл отсеял статью; у службы выпуска всегда находились какие-нибудь жалобы. Но потом позвонил один сотрудник службы проверки, самый занудный мальчишка, который всегда выглядел так, как будто у него запор, и постоянно пытался спорить со мной о вещах, в которых совершенно не разбирался.
– Я хочу спросить насчет вашей рецензии на фильм, – промямлил он боязливо, поскольку я взял за правило разговаривать с проверкой особенно зверским тоном. – В нашем справочнике написано, что ему было двадцать четыре.
– Кому?
– Адольфу Сарру.
– В справочнике…
– Ему было двадцать четыре, когда он снял «Смерть Марата».
Сперва я озадачился. И вдруг внезапно понял.
– Конечно, – ответил я смеясь, – двадцать четыре, серьезно? Не знаю, как я так лажанулся. Еще что?
– Э-э-э, нет, все остальное сходится…
– Ну и прекрасно. Замечательно. Люблю, когда все сходится, – продолжал я, наделав ему комплиментов до чертиков.
– О'кей. – И он повесил трубку, сбитый с толку.
Я полчаса смеялся над этим, а еще через час позвонили из отдела искусства, спросить, нет ли у меня кадров из фильма, чтобы проиллюстрировать статью, и теперь я знал, что это хохма; Шейл даже объяснил проверяльщикам и арт-директору, в чем дело. «По справочнику ему двадцать четыре» – очень смешно. «Кадры для иллюстрации» – животики надорвешь. Но после того как я отсмеялся, я начал снова закалять себя перед неизбежным; раньше или позже, после того, как я на славу повеселюсь, и после того, как он на славу повеселится, Шейл настоит на серьезном, фундаментальном обсуждении той вечно растравляющей меня внутренней гнили, которая заставляла меня писать о стрип-барах как центрах духовности и несуществующих фильмах. Не то чтобы он меня уволит; как я уже говорил, Шейл – начальник, который даст тебе каждый шанс исправиться, прежде чем до этого дойдет. И в какой-то мере это смущало меня еще больше, потому что я воспользовался его корректностью точно так же, как, на мой взгляд, ею пользовались другие. Я развеял свою скуку за его счет и за счет газеты и чувствовал, что повел себя инфантильно; следующие несколько дней я все собирался позвонить ему и вымолить прощение, как школьник, чей учитель ждет, пока он сознается в своем проступке. Целую неделю я набирал его номер и вешал трубку, прежде чем он ответит, мучаясь все больше и больше, вплоть до того утра, когда я прихватил на улице свежий номер газеты, и вот моя статья – на тринадцатой странице, без фотографии, но в остальном прямо как настоящая: ГЕРОИЧЕСКОЕ ВОСКРЕШЕНИЕ АДОЛЬФА САРРА, гласил заголовок.
Я стоял на тротуаре, с ужасом и неверием уставившись в газету. Шейл никогда бы не зашел так далеко; его профессиональное редакторское достоинство могло позволить ему подшутить надо мной или над собой, но не над газетой. Идиот-проверяльщик, очевидно, прочел не ту статью в справочнике. Он совершенно спутал мой выдуманный фильм с каким-то другим фильмом, и теперь моя идиотская шутка распечатана черным по белому в сотне тысяч экземпляров газеты. До конца дня киностудии и кинотеатры поднимут крик, может быть, будут грозить судом; вот теперь существовала полная возможность того, что я могу потерять работу, или, что хуже, Фрейд Н. Джонсон потребует моего увольнения и Шейл снова прикроет меня своим телом, как он прикрывал половину народа в газете, зная, что это может стоить работы ему. Я спровоцировал невероятно дурацкий кризис, и я поспешил обратно в «Хэмблин», где отчаянно забарабанил в дверь Вентуры. Но его не было дома, и тогда я вернулся к себе в люкс и позвонил доктору Билли, но и он не отвечал.
Текли часы. Не звонил телефон, не отвечал доктор Билли, не было дома Вентуры. Наступил вечер, спустилась тьма, и все еще ничего не происходило; вот прошла ночь, и наступил рассвет, и снова прошел день, и ничего. Потом прошли выходные, и настала новая неделя, и вокруг была все та же тишина, хотя в какой-то момент я слышал, как Вентура вернулся в свой номер и крутил бибоп на магнитофоне. Но я уже не знал, что сказать ему, так как прошло четыре дня без единого слова от кого-либо; я чувствовал себя слишком глупо во всей этой истории, чтобы рассказать даже Вив. И я ничего не говорил…
Но в тот первый вечер после того, как на улицах появилась рецензия на «Марата», пока я все еще ждал, что телефон гневно зазвонит и я попадусь в силки собственного обмана, мне пришла в голову мысль, которая не приходила ко мне годами. По какой-то причине – скорее всего, по той простой причине, что если бы я потерял работу, то остался бы без какого-то более интересного занятия, – я начал думать о том, чтобы написать еще одну книгу, одну последнюю книгу, хотя давно смирился с тем, что никогда ее не напишу. Далеко над морем моей души рвался на части ледник моей совести, под небом памяти; и я начал мысленно записывать историю путешественника, который вечно пытается перейти ледник, взойти по его стенам еще раз, как я уже столько раз пытался, прежде чем истощение страсти, веры, энергии и мужества заставило меня сдаться. Лежа на постели в темноте, я провожал путешественника мысленным взглядом, пока он не скрылся из вида. Я проводил его в свой сон, до горизонта, где белизна льда становится белизной неба, и он исчезает из вида. «Он исчезает из вида», – кажется, пробормотал я про себя, прежде чем задремать. Но это не значит, ответил сон, что его больше нет.
Несколько дней назад я проснулся от головной боли, первой за долгое время. Сначала голова болит не очень сильно, но потом боль начинает роиться в моем мозгу, два дня, три, потом неделю… Я пошел к своему иглотерапевту в Маленьком Токио; в крохотной темной комнатке с задернутыми шторами я лежу на столе, и она втыкает в меня булавки от макушки до пальцев ног. Так как я всегда закрываю глаза, я не уверен, чем она пользуется для того, чтобы забивать иголки, но она их забивает, в мои ноги и руки, в мои плечи и лицо. Я воображаю ее с крохотным, малюсеньким молоточком, она заколачивает иголку мне в лоб: тук, тук, тук. Потом она зажигает все иголки. Я слышу, как она поджигает их, и чувствую жар. Она выходит из комнаты, а я лежу с зажмуренными глазами, в нетерпении ожидая ее возвращения, и двадцать маленьких факелов пылают на моем теле, я как горящий дикобраз-альбинос.
Как я и ожидал, Абдула уволили. То есть был уволен весь джихад, на который Абдул работал, все эти палестинские террористы были уволены тем банком или кредитной организацией, которая держала ипотеку на здание. Все ввергнуто в хаос, и остальные жильцы встревожены. Я живу себе как человек, жизнерадостно шагающий по полю битвы, в то время как вокруг него пролетают осколки снарядов и тел. Мое предположение состоит в том, что Абдул разорил «Хэмблин» своими грандиозными замыслами. У него были большие планы, включающие в себя косметический ремонт парадного входа, укладку паркета во всех номерах и установку измельчителей мусора в каждой кухонной раковине. Если бы ему предоставили достаточно времени, он бы поставил на крыше плавательный бассейн и теннисный корт. Конечно, у него ушло шесть месяцев на починку лифта и водопровода, но Абдул – не тот человек, который будет тратить время на водопровод. Что такое водопровод по сравнению с паркетным полом? Абдулом движет мечта, его нельзя отвлекать на какой-то там ремонт. Он и вправду уложил паркет в моем старом однокомнатном номере, из которого я только что выехал, и потом сдал его симпатичной девчушке из Индианы. Или, скорее всего, он уложил паркет после того, как сдал ей квартиру, чтобы у нее не оставалось сомнений насчет того, какой он крутой тип. Теперь Абдула выгнали – пока лишь с должности менеджера, никто не гонит его из его роскошных апартаментов, где он замышляет свое неизбежное возвращение, ожидая, когда разрешатся проблемы с финансами и законом и контроль над зданием вновь окажется в его руках.
– Все это бред, – говорит он, шмыгая носом, презрительно отмахиваясь от недавних событий. – Тактика.
После того как я оставил Салли и вернулся в Лос-Анджелес, мне месяцами снились необычные сны. Некоторые из них я записывал. В одном сне у меня было отчетливое, твердое ощущение, что единственный выход, оставшийся мне в жизни, – самоубийство. В этих словах намного больше драматизма, чем в моих ощущениях того времени. В этом сне я не чувствовал невыносимой боли, а знал только, что мое «я» безвозвратно погибло, что моя жизнь окончена, тогда как тело мое продолжает жить, не синхронизированное с действительностью моей жизни. Самоубийство было единственным способом вновь синхронизироваться. Это решение было практичным, а не эмоциональным. Я помню, что сказал себе: «Хорошо бы это был сон»; но я знал, что это не так. Это было как во сне о моем отце, который приснился мне после того, как он умер: мы встретились, и, зная, что он мертв, я спорил с ним, сон это или не сон, и он все говорил мне, что нет, не сон. В этом новом сне я смотрел в окно на большой двор, пытаясь читать тетрадь, мелко исписанную синими чернилами; мимолетное воспоминание подсказывает мне, что в одной из комнат этого дома была Салли…
Убитая женщина, лежащая в углу моей квартиры, у меня еще было смутное чувство, что я ее знал… Впрочем, в какой-то момент мне показалось, что она повернула голову; и когда я вновь посмотрел в ту сторону, она исчезла, а на ее месте оказалась моя настольная лампа, лежащая на боку, высокая металлическая лампа, похожая, по словам Вив, на те, которые используют во время гинекологических обследований. На секунду я порадовался возможности, что убийства все же не произошло, но что-то во мне не могло принять этой мысли; в те месяцы после Салли мне без конца снились такие сны, которые подвергали сомнению себя самое и собственную природу, природу сна, сны, построенные на воспоминаниях вместо видений, – не на видении убиваемой женщины, а на воспоминании об этом. Воспоминания, другими словами, о таких происшествиях, которых не только никогда не было, а которые мне даже не снились; и все-таки в этих снах воспоминания уже существовали, приплыв откуда-то, где не было ни сознания, ни бессознательности.
В маленькой галерее в Багдадвиле я не так давно нашел серебряные шары. Примерно четыре дюйма в диаметре, они захватывают своей бесполезностью. В них нельзя посмотреть и увидеть цветные картинки, как в калейдоскопе; их нельзя приложить к уху и услышать звук неба, как в ракушках на пляже, что содержат звук океана. Они определенно не представляют интереса как предмет искусства, разве что тем, насколько они неинтересны: они круглой формы, и все; они серебряного цвета, и все. Они не стоят на месте, но сводят с ума своим перекатыванием туда и обратно, от одного конца стеллажа к другому. Я купил полдюжины. Только позже Вив прочла мне древнюю китайскую легенду времен династии Цзуй о крылатых драконах, которые пролетали над Китаем, похищая белых кобылиц, уносясь с ними в небо и овладевая ими. Капли драконьего семени проливались на землю, замерзая серебряными шарами, разбросанными по холмам. Теперь, зная эту легенду, я все-таки слышу небо, когда прикладываю серебряные шары к уху. Теперь, вглядываясь в отражения на них, я вижу маленькие драконьи эмбрионы, извивающиеся в море серы. Ночью, когда я в постели, между ног у Вив, они падают со стеллажа на пол и выкатываются в лунный свет, ожидая, что холодный луч испарит их, вернет на родину…
Салли замужем. Я узнал это пару дней назад, вечером в баре, от человека, который, как и все остальные, ждал, что кто-то другой расколется первым, и посчитал, что к этому времени кто-то уже должен был это сделать. Таким образом, учитывая период полураспада слуха – между временем, когда это всего лишь слух, и временем, когда он становится правдой, – можно подсчитать, что это, должно быть, случилось довольно давно, может, еще прошлой весной. Я так понимаю, Лос-Анджелес полон людей, которые давно знали о свадьбе Салли и гадали, сколько времени пройдет, прежде чем узнаю я. Она позвонила пару месяцев назад, сразу после того, как столкнулась с Вентурой во время одной из его поездок в Остин. Когда он вернулся в Лос-Анджелес, он рассказал мне, что видел ее, но мало что еще; может, он знал, а может, и нет. Она пару раз оставляла сообщения на автоответчике, и я перезванивал и оставлял ей сообщения через человека, снимавшего трубку; больше я от нее ничего не слышал. Потом я случайно встретился в баре с одной женщиной, она была хорошей обшей подругой, когда мы с Салли были вместе, и мы стали беседовать, и она проговорилась, что была на свадьбе у Салли. «На свадьбе?» – спросил я, не будучи уверен, что правильно расслышал ее за шумом; и даже в темноте мне было видно, как на ее лице сменялись гаммы то белых, то красных оттенков.
Я, собственно, не так уж и сержусь, что мне не сказали об этом раньше. Я сам – самый большой в мире трус в таких ситуациях и считаю, что это не моя ответственность – доставлять новости, которые должен был доставить кто-то другой, только потому, что мне не повезло и я оказался не в то время не в том месте и узнал о произошедшем. Я даже не так уж и сержусь, что мне ничего не сказала Салли. По правде сказать, хотя именно Салли и должна была сказать мне об этом, я бы не хотел услышать это от нее. Мне бы понадобилось, ради нее или ради самого себя, найти красноречивый или элегантный способ выразить свои чувства, в то время как я не чувствовал бы в себе особого красноречия или элегантности. Моя ярость по поводу всего этого – и это самая настоящая ярость, пусть никто не усомнится, – моя ярость вызвана не тем, что я ждал, что Салли вернется ко мне, поскольку я не ждал, и не тем, что я собирался вернуться к ней, поскольку я не собирался этого делать, но тем, что этот брак – ложь; и, хотя в мире лжецов я и сам лжец, эта ложь слишком глубока даже для меня. Она была в Лос-Анджелесе и зашла занести мои вещи, которые она так и не собралась вернуть раньше, или я так и не собрался потребовать обратно; когда я открыл ей дверь, на ее лице была все та же смесь раздражения, и вины, и грусти, которая видна на нем с тех пор, как я ушел, – или это она ушла? В кафе на углу, когда пламя третьего кольца начало вздыматься над холмом, она спросила: «Ну почему же я всегда все порчу? И как же я испортила то, что было между нами?» И когда она сказала это, на ее лице была та же смертельная грусть, что и почти пять лет назад, когда мы были скорее в начале пути, нежели в конце, и сидели в маленьком баре на бульваре Ла-Сьенега, уставившись в окно. «Еще один мужчина, – тихо сказала она тогда, имея в виду, естественно, меня, – которого я сделаю несчастным». Я рассмеялся, не зная лучшего ответа. В этот раз у меня точно так же не было ответа. Тот внутренний голос, который не мог не смилостивиться над ней, хотел ответить ей: «Ты сделала все, что могла», – что-то в этом роде. Дать ей поблажку. Но я больше никому не даю поблажек. Так что у меня не было ответа для Салли. Наверно, молчание было довольно-таки разрушительным. Может, в тот молчаливый момент замужество Салли стало неизбежным. Мы допили кофе и ушли, прежде чем жар костров вдалеке стал слишком невыносимым. Когда-то я любил женщину по имени Лорен. Теперь, оглядываясь назад, мне кажется, что Лорен и Салли были тесно связаны, хотя они не могли бы сильнее отличаться друг от друга при всем желании и хотя в моей жизни их разделял промежуток в десять лет. Темная Салли и светлая Лорен, одна – певица, вторая – педиатр; их роднило только замешательство. Когда Лорен наконец вернулась к мужу, многое во мне преобразилось, а что-то еще умерло на долгое время. Долгое время после Лорен я не мог верить в любовь – в такую любовь, которая превращает тебя в силу природы; спустя годы после того, как она вернулась к Джейсону, Лорен иногда звонила – перекинуться парой слов, и я не мог слушать ее голос, не выворачиваясь наизнанку. Я никогда не винил ее. «Ты сделала все, что могла». Я знал и знаю сейчас, что она ничего не делала злоумышленно, а, скорее, запутавшись; кто из нас всегда уверен в правоте своего сердца и всегда храбро следует его зову? А потом, через целые десять лет, когда я оставил свою собственную жену и влюбился в Салли, однажды ночью зазвонил телефон, и это была Лорен. Мне кажется, что не прошло и пяти минут с того момента, как ее муж вышел из дома – и из ее жизни, – как она позвонила мне. И я не мог увидеться с ней, когда мой собственный брак был в руинах, а свой новый роман я еще даже не начал расшифровывать. Так что в последующие два года мы иногда общались по телефону, и в конце концов я навестил ее после того, как все развалилось с Салли; она жила рядом с пляжем, и с первого взгляда я понял, что бывает так – человек перевернет твой мир вверх дном, а после этого проходит столько времени, что он уже не может перевернуть его обратно. Мы поужинали вместе. Мы не занимались любовью. Я обнял ее, и она заснула у меня в объятиях. «Я ничего не жду», – солгала она, когда я уходил.
Той ночью после возвращения домой мне снился один сон за другим, они соединялись в длинный туннель, в конце которого я видел прошлое. Это была безумная ночь, все перепуталось, путаница с Лорен вновь всплыла посередине путаницы с Салли. В течение следующих недель она оставила мне немало сообщений, на которые я нарочно отвечал лишь по прошествии все более долгого времени. Съездив за границу в давно запланированный отпуск, она позвонила через несколько часов после возвращения; прошла неделя, прежде чем я ей перезвонил, удостоив ее автоответчик такой тщедушной отговоркой, что мое поведение взбесило меня самого. Ее реакция, запечатленная моим автоответчиком на следующий день, была столь же поразительна, сколь немногословна. «Я много думала, – тщательно проговорила она, – о том, что у нас с тобой долгая история. Очень долгая история. – Тут она сделала паузу. – Я не хочу, чтобы ты еще когда-либо мне звонил». И повесила трубку.
Как я уже говорил, я больше никому не даю поблажек. Ей понадобилось одиннадцать лет, чтобы решить, что она хочет, чтобы я вернулся. Мне понадобилась неделя, чтобы ответить на ее звонок, – и она больше не желала меня знать. И я не стал звонить, так как она велела этого не делать, хотя, как я подозреваю, она говорила это не всерьез; и через полгода на моем автоответчике оказалось еще одно сообщение, которое она, видимо, читала по бумажке, – необычайно горькая речь о том, какой я лжец. И любовь былых лет, когда я любил ее больше, чем кого бы то ни было прежде, когда она изменила навеки то, как я любил людей, взорвалась, и шрапнель от взрыва все еще свистит по моей жизни. Я знал, что она была в ужасе, – одинокая, потерявшая прошлое, олицетворенное мужем, ради которого она пожертвовала всем. Теперь она жила со страшным сознанием того, что сделала неправильный выбор; когда я не смог отменить ее выбора, она возненавидела меня. «Прошел год с тех пор, как ты попросила меня никогда больше не звонить тебе, – написал я ей наконец. – Я часто думал, что с моей стороны было ошибкой не позвонить тебе вопреки твоим словам. Сейчас я пишу не затем, чтобы сказать последнее слово; если ты действительно веришь, что моя любовь была ложью, едва ли какие-то мои слова заставят тебя передумать. Но за год мне стало слишком трудно жить, зная это, и не отвечать тебе: может быть, тебе стало необходимо верить во что-то другое. Мне нужно было написать тебе и сказать, что если каким-то образом время и изменило или обмануло одного из нас, или если мы оба все-таки подвели друг друга в любви, моя любовь была подлинной, и я всегда знал, что твоя любовь тоже подлинна, и я думаю, в глубине души ты тоже это знаешь».
Может быть, я больше не знаю, что в любви подлинного; я знаю только, что больше всего не хочу казаться по отношению к ней циником. Может быть, нужно дойти до конца жизни, чтобы понять, что в ней подлинного, или, может быть, как моя мать с отцом, нужно провести с человеком жизнь, чтобы понять, насколько подлинна путаница любви, в противоположность тому, насколько несерьезна путаница романтическая. Я послал Лорен это письмо, и через неделю оно вернулось нераспечатанное; оно все еще лежит у меня, заклеенное, с почтовым штемпелем, как будто я храню его, чтобы когда-нибудь предъявить перед судьей или присяжными как доказательство, что оно на самом деле существует и что я действительно приложил усилия к тому, чтобы написать его. Лорен еще раз позвонила спустя несколько месяцев, чтобы сказать свое последнее слово. «Наверное, – сказала она, – я осталась с Джейсоном, потому что он, по крайней мере, был честен». Может быть, ты действительно веришь в это, Лорен. Может быть, в этот момент ты убедила себя, будто это правда, так что я не буду пытаться тебя переубедить, а скажу только, что тебе придется потратить всю жизнь на то, чтобы убедить себя в этом, поскольку убедить в этом кого-либо другого тебе не удастся и на две секунды. Он дурно обращался с тобой, он изменял тебе, он ежедневно лгал тебе, и ты все равно осталась с ним, и я в этом не виноват. Это разбивает мне сердце, и мне так жаль, как только может быть, истинно жаль, это не презрительная жалость и не жалостливость, а жалость сопереживания человеческой душе, и эта жалость может искорежить человеку жизнь ничуть не хуже любой другой. Но я в этом не виноват, и я бросил уже извиняться перед людьми за то, что они сделали неправильный выбор. Я никогда не жду, чтобы кто-то извинился за мой выбор.
Наученные миром мужчин, которым они становятся безразличны, как только сойдут на нет их юность и красота, обманутые временем женщины оглядываются вокруг и видят, как внезапно исчезают все их возможности; они с трудом сохраняют то, что порочный мир приучил их считать ценностями, а потом жестоко переосмысливают ситуацию. Вглядываясь в прошлое, прищуриваясь, чтобы разглядеть воспоминание, они реконструируют смутный образ в своей голове. Тогда они говорят себе: вообще-то он был не так уж и плох. Никогда не бил меня. Хранил верность, насколько я знаю. Не брал у меня денег. Слушал меня так, как будто у меня больше мозгов, чем у пепельницы. В постели мог довести меня до оргазма или, по крайней мере, старался, а когда я плакала, прижимал меня к себе и, не часто, а иногда, даже плакал со мной. Другими словами, он не был самым что ни на есть эгоистичным и неотесанным типом из всех, кого я знала. Некоторые подруги даже говорили, какая, мол, я дура, что отпустила его. Нет, если подумать об этом теперь, с ним было не так уж и плохо; если подумать, хм, интересно, остался ли у меня его телефон с того времени… И они звонят. Отчаяние у них на губах и в горле, и я чувствую себя препаршиво. Я пугаюсь их ужаса, и то, что сохранилось во мне с прежних времен, примерно с тех времен, когда я женился, с тех деньков идеализма, от которых я так резко отказался, что даже лучшие мои друзья до сих пор не могут в это поверить, та часть меня хочет избавить этих женщин от ужаса, отбросить ужас в сторону. Клянусь. Я хочу уверить их, что их жизнь не кончена, и что они не вечно будут одиноки – это и пугает их до потери пульса, – и что если они и будут одиноки, это не так уж и плохо. Но я принадлежу к тому меньшинству, которое считает, что лучше быть одному, чем с человеком, которого ты презираешь, если только, конечно же, тот, кого ты презираешь, – не ты сам.








