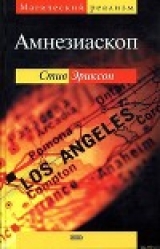
Текст книги "Амнезиаскоп"
Автор книги: Стив Эриксон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
За два дня, что я потратил на переезд в новый люкс, я запаниковал. Не из-за лишней траты денег, а потому что, когда я буду жить в такой квартире, буду сидеть в такой большой, широкой, открытой гостиной с таким количеством окон, от меня, возможно, будут ожидать большей продуктивности или даже вдохновения. У меня же нет никаких претензий ни на вдохновение, ни на продуктивность; как раз наоборот, я намерен сидеть в темноте, ночью, в своем большом черном кожаном кресле, уставившись на Голливуд-Хиллз за окном, как человек, взирающий на приближающееся цунами. Вот надвигается настоящее. Я кручу одни и те же фильмы на своем мониторе, без звука: «Злые и красивые», «Из прошлого», «Ящик Пандоры», «Я ходил с зомби». Изучив фильмы у меня на полке, Вентура отмечает, что среди них нет ни одного веселого. «Что ты мелешь? – огрызаюсь я в ярости. – Тебе не кажется, что „Красная императрица“ – это развеселый фильм? Тебе не кажется, что „Объезд“: – это просто умора?» В прошлый раз, когда я заходил в номер Вентуры – дальше по коридору, – я посмотрел на его полку с фильмами, и вот уж у кого нет ни одного веселого фильма, кроме чаплинских; и ведь и он, и я – мы оба знаем, что «Огни большого города» для него не веселый фильм, а глубокомысленный. По правде сказать, у меня только и есть, что веселые фильмы. Любой из них может насмешить до истерики.
На стенах своей квартиры Вентура развешивает цитаты, выписанные на бумажках, максимы, которые он наковырял из своего чтения, слова мудрости. У него висит там даже одно-другое мое изречение. Если встанешь в одном конце его квартиры и дочитаешь до другого, то уйдешь, унося в голове краткое содержание двадцатого века, которое, впрочем, будет сильно разниться с тем, что этот век мог бы заключить о себе. Вентура вел спор с двадцатым веком и теперь, когда тот кончился, продолжает спорить с ним – сперва с веком, а потом и со всем тысячелетием. Вся жизнь Вентуры – это спор с двадцатым веком, в котором я – модератор, рефери. Я отслеживаю удары ниже пояса, коленом в пах, по больным местам, и пытаюсь делать это так, чтобы в процессе не попало и мне. Я сохраняю нейтралитет по отношению не только к веку и тысячелетию, но и к самому Господу Богу; скажем так – пока что я отказываюсь вынести окончательное суждение… Уже несколько лет Вентура и я каждый мотаемся по «Хэмблину» из номера в номер, пытаясь выгадать местечко получше, хотя зачем – я понятия не имею. Он переезжает в одну сторону по коридору, в то время как я переезжаю в другую; он жил в квартире побольше, а переехал в маленькую, еще до того, как я съехал из своего маленького номера в люкс. Перемещаясь во все меньшее и меньшее пространство, он скапливает все больше и больше перлов на бумажках, пока ни на одной стене не остается больше места, и тогда он начинает вешать новые поверх старых: он никогда ничего не выбрасывает, упаси боже. Хоть раз хотел бы я видеть, как он что-нибудь выкидывает, хоть одну крохотную, накарябанную на бумажке мудрость, – только чтобы увидеть, что же он выкинет; я бы даже не обиделся, если бы цитата принадлежала мне. Когда Вселенная перестанет расти и начнет сжиматься, Вентура начнет уничтожать все эти откровения, пока не оставит одну-единственную бумажку, – и вот ее-то я и хочу прочесть. Ее-то я и хочу взять с собой в могилу.
С другой стороны, я избавляюсь от вещей по мере того, как переселяюсь в более открытое пространство. По мере того, как Вселенная ширится, вещи разбредаются от меня; они снова начнут скапливаться, когда Вселенная начнет сжиматься. Вот она, необъятно-крохотная разница между мной и Вентурой. Скоро он станет жить в чулане, в котором будет набито больше бумаги, чем в Библиотеке Конгресса США, а я стану жить на крыше, нагишом, в своем черном кожаном кресле. В это утро, когда я иду по коридору, чтобы заглянуть к нему, он сидит на полу, упершись взором в карты таро, разложенные в виде креста. Он размышляет над значением Королевы Кубков, лежащей в перекрестии. На поломанном столе, стоящем посреди его вечно сжимающегося жилища, – обычная гора почты, которую он получает как автор колонки в нашей газете. Вентура настолько целеустремлен, что обязательно ответит на все эти письма; его колонка печатается с самого первого номера газеты, вышедшего почти пятнадцать лет назад. Но сейчас, сидя в фетровой шляпе, ковбойских сапогах и своей всегдашней рубашке с закатанными рукавами между письмами поклонников и незаправленной печатной машинкой, он уставился на Королеву Кубков. Он почти всегда носит фетровую шляпу и ковбойские сапоги, даже когда сидит дома; лишь в очень редких случаях он снимает шляпу, и иногда, если он чувствует себя совсем свободно, его можно застать в носках. Уставившись на Королеву Кубков, он пытается угадать, кто же она. Он гадает – не бывшая ли это жена, или, может, его нынешняя подруга, или женщина, которая была его предыдущей подругой, и, возможно, станет следующей. Одна из самых прочных и отрадных сторон нашей с Вентурой дружбы – это то, что когда дело доходит до женщин, у него все еще хуже, чем у меня. Лучшее и наиболее убедительное свидетельство тому – то, что он-то думает, будто у меня дела обстоят даже хуже, чем у него.
– Я не спрашиваю, – говорит он, – что же им нужно. Ты не слышал от меня этого вопроса.
– Нет.
– Мне бы и в голову не пришло спросить.
– Ну почему же.
– Нет, – качает он головой, – я об этом и не думаю. Мне такое даже в голову не может прийти.
– Вообще-то это просто.
– Что?
– Это просто. Что им нужно. Мне раз плюнуть ответить на этот вопрос.
– Да? – На миг он встревожен. – Ну ладно, тогда… скажи.
– Всё.
– Что?
– Им нужно всё.
Его лицо становится мертвенно-бледным.
– Тогда мы в полной заднице, – говорит он с безнадежностью.
Вентура настолько обескуражен женщинами, что когда я объясняю ему свои Три Закона о Женщинах, он их даже записывает.
– Во-первых, – загибаю я палец, – они другие.
– Во-первых, они другие, – повторяет он, записывая в маленький блокнотик. У него всегда с собой блокнотик, куда он все записывает, чтобы потом упомянуть в своей колонке или прикрепить к стене.
– Во-вторых, они сумасшедшие.
– Во-вторых, они сумасшедшие. – Скрип ручки по бумаге.
– В-третьих, они забавные.
– В-третьих, они забавные.
Он перечитывает список. Вентура убежден, что каждую женщину неотразимо влечет к нему. «Ну что эта баба смотрит на меня, – стонет он в ресторане, – ну почему она это не прекратит. В моей жизни сейчас слишком много женщин». Каждая женщина в каждом ресторане, каждая женщина на улице, каждая женщина, которая скажет ему хоть слово или просто рыгнет в его направлении, – все они хотят его. В этой жизни на него возложено бремя разочаровать их всех. Тех, кого он не успевает разочаровать сразу, ему приходится разочаровывать позже. Это касается тех, с кем у него завязываются отношения, тех, кому он назначает роли в кинокартине своей жизни; так же, как он, они грандиозны. Что ни роман – то неповторимая бурная драма. «У вас с ней не отношения, – сказала Вив Вентуре как-то вечером в «Муссо-Франке» о какой-то его подруге, – у вас сводка о глобальных катаклизмах». В последнее время я кое-что замечаю. Каждая женщина в жизни Вентуры – все грандиозней, все эпичней, чем предыдущая, пока он не находит еще одну – самую замечательную из всех, самую умную и самую красивую, в прошлой жизни бывшую кинозвездой, а в этой перевоплотившуюся в суфийскую богиню, – и потом бросает ее, как всегда, по причинам, которых мне не понять. Совсем недавно он бросил одну девушку только потому, что в ней не было ничего, что бы ему не нравилось; она была женщиной без единого изъяна.
– Как я мог оставаться с женщиной, – жалобно тянет он, – у которой нет ни одного изъяна?
– Ты не понимаешь, – возражаю ему я. – Ты был ее изъяном.
– В этом все и дело! В этом как раз все и дело! Я был ее изъяном. Как я мог оставаться с женщиной, единственным изъяном которой был я сам?
Конечно же, спустя несколько недель, если не дней, он пожалеет об этом.
– Я ехал по пустыне, – будет объяснять он, яростно меряя шагами квартиру, – когда меня ударило как молнией. – И он ударит себя по затылку, чуть не сшибив с головы шляпу, чтобы показать мне, как это – когда тебя посещает такое озарение: – Мне следовало жениться на Суфийской Богине.
– Ты знаешь, – наконец признаюсь я ему, – за все те годы, что мы знакомы, я так ничего и не понял в твоих отношениях ни с одной из твоих женщин. На самом деле мне сложней разобраться в твоих романах, чем в своих собственных. Это неправильно, так не бывает. В чужих заморочках всегда легче разобраться, чем в своих. Готов спорить, – указываю я ему, – что тебе легче разобраться в моих отношениях с женщинами, чем в своих.
– Ты прав. Это так.
– Так и должно быть. Только ведь в моих романах и вправду легче разобраться, чем в твоих. Даже мне кажется, что в моих романах легче разобраться, чем в твоих.
Мне не свойственно скрывать какой-то подтекст, сказал он мне однажды, подтекста в моей жизни нет.
– Но вот что интересно, – говорю я, – в твоей жизни скрытый подтекст имеется исключительно в твоих отношениях с женщинами.
Когда женский вопрос настолько сбивает нас с толку, мы прибегаем к единственному выходу, который нам остался: мы пишем. Мы пишем так, как будто нам все понятно и раскладывать мир по полочкам – это наше дело. Я пишу только о фильмах, но Вентура пишет о Жизни. В это утро, все еще размышляя о Даме Кубков, мы направляемся в газету. Я веду машину, потому что он не хочет ехать на своей, на старом «шевроле», выпущенном где-то в шестидесятых – семидесятых, который он тоже считает грандиозным механизмом, еще грандиозней, чем его женщины. Всю дорогу в редакцию он сидит рядом со мной и бормочет, как мантру: «Они другие, они сумасшедшие, они забавные». И вдруг:
– Черт! – восклицает он, – им-таки нужно все!
– Ну, – отвечаю я, – если быть до конца честным, то нам тоже.
Я работаю в газете уже около трех лет, с тех самых пор, как у меня все кончилось с Салли. Газета выходит раз в неделю, а делают ее в гулкой пещере бывшего «Египетского театра», находящегося недалеко от разверстой пасти затопленной лос-анджелесской подземки. Первые несколько месяцев, приезжая на работу, я каждое утро видел, что за ночь кто-то уволок из фойе еще один сувенир – колесницу фараона, плиту с загогулинами, изображающими иероглифы, или мумию в саркофаге из папье-маше, – пока от величественного парадного входа не остался лишь голый клочок земли. Сам же кинозал отделан до потолка потускневшим, осыпающимся золотом. Рекламный отдел расположился на сцене, там, где раньше был экран, а редакция оккупировала проплешины от выкорчеванных зрительских рядов. Офис главного редактора – на балконе, а секретарша трудится за стойкой бывшего буфета. Издатель поселился в проекционной будке; там тесновато, зато обзор хорош.
Мой стол, к счастью, находится рядом с одним из бывших запасных выходов. Когда я только пришел в газету, никто из сотрудников со мной не разговаривал, кроме некоторых редакторов и арт-директора, гениального, но неуравновешенного гомосексуала, который вечно на всех кидался. Когда-то, будучи более впечатлительным, он прочел одну мою книгу и пришел в восторг, и у нас сложилось что-то вроде дружбы. В результате все остальные стали вербовать меня, когда требовалось его умилостивить или наладить перемирие. Здешний народ мне нравится, но их слишком многое не устраивает в работе, за которую я бы в их возрасте удавился. Сильнее этой зависти только обида. Как в любой конторе, здесь идет борьба за территорию и сплетаются в плотный клубок различные склоки; все пропитано сплетнями. Вскоре после того, как мы с Салли разошлись, случилось так, что я, будучи пьян, подавлен и болен на всю голову, однажды ушел с вечеринки вместе с одной из рекламных агентш, циничной блондинкой-вамп, словно сошедшей с экрана фильма-нуар, которая беспрерывно курила и выкладывала мне всю подноготную о каждом человеке в редакции. В процессе соблазнения мне пришло в голову, что завтра, в свою очередь, все будут знать все, что она узнает обо мне, и первым делом то, что в этот конкретный вечер я не сильно преуспел по части секса. Конечно же, как позже сказал мне доктор Билли О'Форте, «не прошло и суток с момента, как ты ей засадил, и по всему Лос-Анджелесу уже затрезвонили телефоны». Спустя несколько лет слухи все еще разгораются заново каждый раз, когда кто-нибудь засекает нас с ней за разговором, длящимся более пяти минут. Сотрудники, которые успели перетрахать все, что движется, в стенах редакции, грустно покачивают головами и шепчутся о том, как они «разочарованы» во мне.
Что я могу сказать? Я не человек, а сплошное разочарование. Я почувствовал, что действительно пришелся к месту в газете, лишь после того, как, быстро постигнув искусство разочарования, продолжил практиковаться, пока полностью не усвоил науку разрушения иллюзий. К этому времени я абсолютно обескуражил тех, кто был еще настолько наивен, что ожидал от меня каких-либо выдающихся свершений. Сегодня утром, только приехав, мы с Вентурой немедленно наталкиваемся на Фрейда Н. Джонсона, издателя газеты. Джонсон – неудавшийся кинопродюсер, ростом пять футов пять дюймов, он прилюдно и горько оплакивает отсутствие у мира всякого почтения к нему и в глубине души подозревает, что он гомо-сексуал. Он часто оканчивает спор хныканьем: «Я знаю, что ты прав, а я не прав. Но ты-то всегда прав». Сколько себя помню, он пытается придумать, как уволить главного редактора, хотя неизвестно, что Джонсон станет делать, когда ему это удастся. Он явно ни шиша не смыслит в издании газет, и все наши лучшие авторы давно заявили, что уволятся, если это произойдет, но Джон-сон, совершая один из своих глупейших просчетов, скорее всего в это не верит. Я, например, дал понять всем, кого это касается, что лично я уйду хотя бы потому, что этот самый редактор в свое время нанял меня вопреки всякому, по мнению более резонного человека, здравому смыслу. Пока что Фрейд Н. Джонсон рыщет в недрах «Египетского театра», и его душа рвется наружу, сплетаясь в слова и фразы, написанные у него на лбу пылающим неоном. «Я не педик!» – орет одна из этих явных мыслей. «Я высокий!» – пищит другая. «Ты выше меня, я тебя ненавижу!» – выпаливает третья, постоянная и излюбленная.
Фрейд Н. Джонсон регулярно изливает душу Венту-ре, возможно, потому что Вентура здесь дольше, чем все остальные. Пусть Джонсон себе думает, что, когда он уволит редактора, он сможет завербовать на эту должность Вентуру, который наладит работу в газете; Вентура разрешает Джонсону изливать ему душу, как он объясняет мне, дабы знать, что творится на самом деле. Эта стратегия кажется мне явно опасной, так как позволяет Джонсону набираться храбрости и втихомолку поощряет его веру в то, что ему сойдут с рук любые безрассудства. Однако сегодня мне совсем не до того. Я убираю со стола, сметаю в мусорную корзину записки о том, кто мне звонил в мое отсутствие, и жду лишь того, когда Вентура разделается со своим интриганством, чтобы можно было ехать домой, поскольку вчера под утро мне приснился сон, о котором я никак не дождусь ему рассказать. В последнее время мне снова начали сниться сны, то есть мне видятся поразительно живые сны, которые я запоминаю со всеми подробностями, хотя обычно мой мозг хранит не больше воспоминаний о них, чем нос – о дыме вчерашнего костра. Этот сон приснился мне вчера под утро около половины одиннадцатого или вроде того. Я проснулся на минуту и увидел Вив, которая свернулась клубочком на своей половине кровати, а не у меня между ног, и снова заснул, и мне приснился этот ужасный сон… Мы жили в отеле при казино в Лас-Вегасе, и с нами была моя мать, хотя во сне я ее и не видел. Молодая незнакомая девушка выманила меня из нашего номера в бассейн, и я хотел было раздеться и зайти в бассейн с этой незнакомкой, как вдруг увидел Вив, наблюдающую за нами из окна. Я поспешил обратно в номер и нашел ее на лестнице, в рыданиях. С превеликим возмущением я обвинил ее в беспричинной ревности, в гневе выбежал из комнаты и отправился на прогулку по всему подземному Лас-Вегасу, по туннелям, которые соединяли между собой все казино, пока не вышел из-под земли где-то на окраине. Смеркалось. Казино, где я жил, находилось неподалеку. Большой, потный, темноволосый мужчина с редкой бороденкой сказал: «Сейчас здорово тряхнет», – и в этот момент на дальних холмах поднялась пыль и птицы в панике рассыпались по всему небу. Пока земля содрогалась у меня под ногами, я держался за дорожный знак «стоп», стоявший посреди пустыни, и смотрел, как мой многоэтажный отель, который теперь напоминал «Хэмблин», слегка дрожит. И вдруг, когда, казалось, подземные толчки и вместе с ними опасность миновали, казино рассыпалось в прах. Я был ошеломлен. Я побежал обратно к месту, где оно стояло, но когда я наконец очутился там, небо потемнело и от казино ничего не осталось, не осталось даже видимости, что когда-то там что-то было; но даже в темноте песок сиял тусклым красным светом, и люди стояли вокруг, уставившись на него, оглушенные происходящим, пока кто-то не сказал: «Надо копать». Какое-то время мы копали, вытаскивая из песка деревянные брусья. Но вскоре мы прекратили наше занятие – оно показалось бессмысленным. Было очевидно, что все, кто находился в казино, – похоронены, недосягаемы, в сотнях футов под нами.
Я был опустошен. Я думал, что же делать. Думал о том, что мне нужно будет позвонить друзьям моей матери и семье Вив, и нужно будет позвонить Вентуре, чтобы он приехал за мной, потому что моя машина тоже была похоронена вместе со всем, что в ней было, и мне некуда идти. Во сне я очень четко сознавал, что все мое прошлое исчезло, и в этом опустошении был некий тошнотворный оппортунизм, сознание того, что теперь все позади. Потом, одурманенный, я очутился в другом казино, где на подкашивающихся ногах бродил по залам, пока не сообразил, что нужно, по крайней мере, попробовать докричаться до Вив с матерью, на случай, если они все же живы и услышат меня. Я открыл рот и начал кричать…
И проснулся.
Мое удивление не имело границ. Мне и в голову не приходило, что все это мне снится, и сон все еще оставался в моей голове с вызывающей четкостью. Вив по-прежнему лежала, свернувшись рядом со мной калачиком, спиной ко мне.
– О господи, – вздохнул я и потянулся к ней. Она повернулась.
– Что случилось? – сказала она, немедленно приходя в сознание.
– О господи. Мне снился жуткий сон.
– О чем?
Я покачал головой:
– Нет, я не могу…
– А я там была?
– Нет.
На самом деле мне не показалось, что сон был конкретно о ней или даже о нас. Но мысль, с которой я проснулся, которую вынес из сна, была не о том, что сон стер из моей жизни прошлое, а о том, что во сне я притворился, будто возмущен ревностью и горем Вив, и таким образом вырвался из номера и из казино и спасся. Другими словами, моя ложь не обрекла Вив и мою мать на смерть, о нет, все было намного сложнее: правда не только не спасла бы их, а уничтожила бы и меня, погребла бы вместе с ними. Лежа в постели, я взял Вив за волосы и пригнул к себе. Я проскользнул между ее губами в те края, где совести меня не догнать. Я был уверен, что если бы утром, когда я проснулся, она лежала бы там, у меня между ног, охватив меня ртом, мне не приснился бы этот сон; она бы высосала из меня все вероломство, которое излилось бы из меня вместе со всем остальным. За это теперь ей пришлось сосать сильнее, гладить меня так, чтобы я вспыхнул от желания, но позже я все еще чувствовал крохотную капельку совести, оставшуюся во мне, как заблудившуюся раковую клетку, оставленную в теле после операции.
– Но ты не должен отвечать, – говорит Вентура вечером, когда я рассказываю ему сон, – за то, что ты мог бы сделать.
– Я собирался пойти купаться с незнакомкой, – возражаю я. – Я собирался раздеться и залезть с ней в бассейн.
– Ты не должен отвечать за то, что собирался сделать. Ты отвечаешь только за то, что делаешь.
Мы едем по Фаунтэн-авеню, по голубому коридору из кипарисов, прогибающихся под комками мокрого пепла; башенки и небоскребы к северу от нас стоят в ночи без света. Воздух наполнен странным запахом, недавно наводнившим город, – это не обычный запах сандала и гашиша, а иной запах, который я не могу определить. Мы киваем друг другу, как иногда любим делать, на различные достопримечательности – места, где кончали с собой знаменитости и разворачивались старые голливудские любовные романы, словно мы туристы, – а мы, как и все в Лос-Анджелесе, и есть туристы. Иногда мы даже придумываем новые истории, хотя, как знать, может, они и не придуманы; в Лос-Анджелесе ты можешь полагать, будто придумываешь историю, а на самом деле это она придумывает тебя. Через какое-то время, глядя на темные башни и размышляя о снах и землетрясениях, Вентура добавляет:
– Да, странно будет вот так разъезжать, когда у нас в душах будет мертвый город.
– У нас в душах и так уже мертвый город, – отвечаю я. Те из нас, кто еще не покинул Лос-Анджелес, знают, что все вы за его пределами смеетесь над нами. Те из нас, кто все еще здесь – миллион человек, полмиллиона, сто тысяч, никто не в курсе сколько, – уже разъезжают, храня в себе мертвые улицы и мертвые переулки, мертвые здания, мертвые окна и мертвые сточные канавы, мертвые перекрестки и мертвые магазины – не нынешний труп города, а мертвый город будущего. Мы уже видели смерть Лос-Анджелеса, так же как население Помпеи видело, как их смерть поднимается в небо с дымом Везувия задолго до того, как он извергся. И когда носишь внутри мертвый город, он либо делает тебя таким же мертвецом, либо будоражит тебя, оживляя, как никогда, в окружении ландшафта, из кожи вон лезущего, чтобы почувствовать дыхание кого-то или чего-то живого… В дни сразу после Землетрясения… Бродить от одного многоквартирного здания к другому, минуя красные крестики на дверях зданий, предназначенных на слом. Рядом с пляжем старое огромное здание цвета морской волны под названием «Морской замок» приветствовало коричневые волны, с грохотом вкатывавшиеся внутрь; подвал был давно затоплен, в квартирах никто не жил, за исключением таких же сквоттеров, которые блуждали из комнаты в комнату, пока им не удавалось найти незанятое место и застолбить его. Снизу, с улицы, мне удавалось разглядеть через окна «замковые» квартиры в том виде, в каком они были покинуты: прибранные квартиры, неряшливые квартиры, одни – разгромленные, когда земля дернулась, просыпаясь от дурного сна, другие – невредимые, если не считать того, что все сооружение могло покачнуться и рухнуть в любой момент. Я направился на верхний этаж. Все думают, что как раз там и не стоит находиться во время землетрясения, но на самом деле существует одинаковая вероятность оказаться похороненным под обломками или плавно съехать на крыше вниз. Покинутые жизни – я бродил из одной квартиры в другую, – фотографии и письма, безделушки и остатки еды в морозилке, скомканные простыни, которые напоминали мне о Салли вне зависимости от расцветки. С вершины «Морского замка» мне открывалась впечатляющая панорама, особенно из квартиры, где не было одной стены, – мертвый мол в развалинах, всего в сотне ярдов к югу, под свисающими мертвыми тросами ныне разверстой шахты лифта. В шахте эхом отдавались пронзительные крики чаек.
Я жил в «Морском замке» какое-то время, частично ради панорамы, частично ради песенки попугайчика, который уцелел в своей клетке. Когда кончился корм, я отпустил его на волю, он влетел прямо в шахту лифта и больше не показывался. Но в основном я оставался ради скомканных простыней – меня влекло не к большим двуспальным кроватям, а к узким, где два человека вряд ли когда-либо спали вместе или нежились дольше, чем на протяжении их совместного экстаза…
На третью ночь я проснулся, как от толчка. Сперва я решил, что земля задрожала или что в подвал прихлынула необычно крупная волна; помимо прочего, в «Морском замке» мне нравилось то, что эти два события невозможно было различить. В западном небе висела огромная луна вровень с моей кроватью. Я повернулся к двери и увидел ее силуэт, сияющий в лунном свете, маленький и дикий, совсем не похожий на Салли, которая всегда пряталась в темноте, – и в следующую минуту она исчезла. В озарении того момента я понял, что видел ее здесь повсюду с самого первого дня, всегда краем зрения. Я встал и обыскал в темноте верхний этаж «Морского замка», пока чуть не кувырнулся через край зубчатой трещины, разрезавшей один из коридоров. Наконец я в раздражении вернулся в постель: луна была слишком велика, а море – слишком громко.
На следующий день я ушел из «Морского замка» утром и не возвращался до вечера. Я стоял в очереди на углу Мейн-авеню и бульвара Оушен-Парк, где выдавали сэндвичи, фруктовый сок и упаковки витаминов. Когда я вернулся в «Морской замок», то нашел свою постель смятой иначе, чем прежде. Ночью опять случилось то же, что и раньше: я проснулся и увидел, что она стоит в дверном проеме. «Иди сюда», – успел сказать я ей, прежде чем она исчезла.
После этого я увидел ее днем, в другой комнате, с другой стороны здания. Уловив мой взгляд, она не исчезла и не отвернулась. Тогда я попробовал какое-то время не обращать на нее внимания; прошла ночь или две и день или два, и я не видел ее; я подумал, что она пропала, подумал, что она переселилась в какую-нибудь другую пустую гостиницу дальше по берегу, когда одной ночью проснулся и нашел ее на коленях рядом со своей кроватью, ее лицо было в дюймах от моего. «Господи Иисусе!» – воскликнул я, потому что она меня чертовски напугала. Она улыбнулась этому, прежде чем встать и выйти. Даже в темноте было очевидно, что глаза у нее зеленые.
«Иди сюда», – сказал я, когда снова увидел ее на следующий день. Солнце падало в вечерний туман мокрым красным пятном; она была в комнате напротив моей, выходившей на город, а не на море. Я двинулся к ней, и она, не задумываясь, переместилась в следующую комнату. Мы продолжали кружить по этажу. Несколько минут я не мог найти ее, и вдруг она оказалась на северозападном балконе: облокотившись о перила, смотрела на волны, в сторону от мола. Я подумал: обопрешься слишком сильно, и балкон обвалится; но я ничего не сказал.
Пусть обвалится. Пусть она кубарем скатится в воду. Я подошел к ней сзади, и она слегка повернула голову, отмечая мое приближение, но ничего не сказала, и ничего не отразилось на ее лице; позже мне стало это нравиться. У меня не было никаких планов. Пока я не разделся, у меня действительно не было ни малейшего представления о том, что я буду делать. Я обхватил ее и расстегнул ее джинсы, и она сказала:
– А что, если я скажу нет.
– Я все равно это сделаю.
– Нет.
Я раздел ее, стоя на балконе, а она продолжала мурлыкать слова отказа – нет, нельзя, нет, я не хочу, ах, ах, м-м-м-м-м-м-м, м-м-м-м-м-м-м-м, и ошеломленный звук ее глубокого вдоха, когда я вошел в нее, стал звуком, которого я начал ожидать всякий раз, когда ее трахал, и этого ее удивления я так и не смог понять, а она выражала его так невнятно. Поэтому у меня так и не было для нее ответа, с того первого раза до тех пор, пока через год я не смог наконец сказать, что люблю ее, решив, что любовь может так же отличаться от того, чем она была прежде, как Вив отличалась от Салли. Стоя на балконе, голая по пояс снизу, уставившись на обугленные скалы Малибу, со мной внутри нее, она, казалось, уплывает в море на своих маленьких черных «нет», растворяясь в потоке сонных сомнений. С верхнего этажа «Морского замка», в свете солнца, садящегося в океан, с Вив в моих объятиях, я смотрел на мертвый город к востоку, пока он окончательно не сдался ночной темноте. Но, с другой стороны, как раз ночью мой Лос-Анджелес, мертвый город внутри меня, особенно красив, в лунном свете.
На следующее утро она пропала, и когда она не появилась снова ни завтра, ни послезавтра, я оставил «Морской замок», не желая больше жить среди его воспоминаний. Одно дело, когда все воспоминания принадлежали другим, и совсем другое теперь, когда у меня были и свои. Несколько ночей я провел с сотнями других людей в цирковом шатре, который был разбит на пляже для всех кочевников Землетрясения. Я продолжал искать Вив. Потом где-то с неделю я жил у Вероники, у которой был ручной волк по кличке Джо и которая сама была похожа на красивую волчицу, с короткими черными волосами и глубоко посаженными глазами, которые останавливаются на тебе без смущения, и низким, резонирующим голосом, который так впечатлил чиновников службы по чрезвычайным ситуациям, что они наняли ее читать в микрофон. Она сидела за столом внутри шатра, выкликая имена людей, которым в панике слали сообщения друзья и родные из других городов, пытаясь узнать, кто остался в живых.
Все перевернулось вверх дном. Человека, сидевшего в тюрьме по обвинению в изнасиловании, поймали, когда тот вызволял старуху из-под рухнувшего здания. Женщина, без устали трудившаяся в службе спасения, бросила свою двухлетнюю дочурку, связанную, в море, с обломков мола; к тому времени, как мать задержали, девочку унесло волной. Не то чтобы до этого история не знала хороших людей, совершавших дурные поступки, или дурных людей, совершавших хорошие поступки, но в том диковинном серебряном свете, что источала земля, разрываясь на части, рычаги души переключались, и подростки-аутисты вдруг начинали, не теряя головы, распоряжаться в критических ситуациях, тогда как президенты корпораций и отставные полковники немели, будто парализованные. Я и сам онемел, хотя и по собственному выбору. Я перестал заикаться, и мне нечего было сказать, пока я вновь не обрел свое заикание. Я начал грабить, но не магазины и конторы, а свою собственную память: я бросался в ее мрак и раздевал ее догола, не оставляя за собой ничего, кроме осквернения и беспричинного вандализма, пока не останавливался с кружащейся головой. Но теперь слова сочились сплошной липкой массой, к которой я не испытывал доверия, это была плавно текущая речь человека, находящегося на шаг позади в прошлом или на шаг впереди в будущем, пускающегося вскачь или же замирающего на месте, дабы сравняться со стаккато настоящего.
Вероника жила в старом деревянном доме красного цвета на Оушен-Парк. Он выстоял во время Землетрясения, в то время как все новые дома вокруг него крошились. Я спал в подвале, к досаде волка, хотя в конце концов мы достигли взаимопонимания. У Вероники был глубокий, мрачный секрет, касавшийся неизлечимо больного друга, который умер при таинственных обстоятельствах, и, рассказывая мне об этом, она смотрела прямо на Джо, как будто ее покойный друг находился внутри волка; время от времени она разжимала его челюсти голыми руками и басила ему в пасть: «Джо, ты там?» Я стал первым мужчиной, с которым она переспала после длительных романов с женщинами. Когда я поцеловал ее между ног, мой рот стал первым мужским ртом, который там побывал; кажется, ей было со мной почти так же хорошо, как с женщиной. Вероника пыталась основать свою радиостанцию в Лос-Анджелесе и видела в Землетрясении не препятствие, но проблеск удачи, как будто радиоволны рухнули на землю вместе со всем остальным, и теперь она могла собрать их и запустить снова в небо на своих собственных условиях. Когда моя белая рубашка, подвешенная после стирки к люстре в ее гостиной, колыхалась от ветра и поблескивала на солнце, Вероника глазела на нее зачарованно. В конце концов как-то утром она спросила меня, от кого я ждал вестей в шатре на пляже, и я рассказал ей о Салли; я просто думал, что, несмотря на то что мы разошлись, Салли попробует связаться со мной. Хотя уже прошло время, я предполагал, что она хотя бы захочет узнать, все ли со мной в порядке, или захочет, чтобы я знал, что ей хочется это знать. Но дни шли, и ни мое имя, ни имя Салли не мелькали на экране в шатре, и мое удивление медленно переросло в облегчение.








