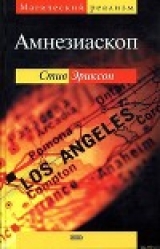
Текст книги "Амнезиаскоп"
Автор книги: Стив Эриксон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
И тогда я обессилел. Теперь, как у бывшего верующего, который начал сомневаться в Боге, у меня не осталось больше видений, не осталось идей, не осталось наглости. Во имя прибавления в возрасте и мудрости я нахожу, что меня затягивает водоворот капитуляции, которую я в более юном возрасте презирал в других. Это меня смущает. Я хочу быть мудрее, но потом вопрошаю себя: является ли в этом желании мудрость врагом страсти, или же вера в то, что мудрость – враг страсти, всего лишь доказывает, что я ни мудр, ни страстен? Я только надеюсь, что у меня останется больше, чем ярость или дешевый цинизм тех, чья мечта идет прахом и кому остается только глумиться над мечтами других; знает Бог, таких людей в мире уже больше, чем достаточно. Моя незначительность прирастает день ото дня и просачивается под двери одной комнаты за другой – в общую, в литературную, в закрытую и, наконец, в тайную. Несколько дней назад мне позвонил глава «группы поддержки для заик», если можно в это поверить, и поинтересовался, не хочу ли я к ним присоединиться.
– Но что же вы в этой группе делаете? – захотел узнать я. – Целый вечер пытаетесь зачитать протокол прошлого заседания? Протестуете против сатириков-заик, против фильмов, в которых нас высмеивают? Может, вы хотите, чтобы мир проникся нашим страданием? Вы хотите, чтобы мое заикание стало незначительным, в этом все дело? Вы хотите обобщить мое заикание, чтобы мне не пришлось одному нести это бремя? Из-з-звольте оставить мое заикание в покое!
И я швырнул трубку и был оглушен окружавшей меня тишиной.
Как-то ночью несколько месяцев назад я проснулся в припадке абсурдного вдохновения. Я поднялся, вышел в другую комнату, снял с полок книги, написанные мной, и начал кромсать их на части, разрывая вдоль переплета и отбрасывая обложки, раскладывая страницы на полу перед собой. Это длилось всю ночь, пока я не оторвался от своего занятия и не увидел не только рассвет, но и Вентуру, стоявшего в дверях. Он рано поднялся, чтобы поработать, спустился в кафе на углу попить кофе, вернулся, увидел свет у меня под дверью и постучал; когда я не отозвался, и все, что ему было слышно, – это звук рвущихся страниц, он вошел. Теперь он стоял, глядя на меня, окруженного тысячами разрозненных страниц на полу. Я возбужденно объяснил ему свое озарение. Я сказал ему, что собираюсь переписать все свои книги в одну огромную книгу, только с заиканием: от начала и до конца это будет колоссальное растянутое поразительное эпическое произведение маниакальных запинок, ошеломленных всхрипов, придушенных сглатываний и жестокой икоты, которое подведет итог всех наших жизней, времени, в котором мы живем, эпохи прошедшей и эпохи грядущей. И потом не только никто больше не напишет ни одной книги, но никто и не захочет их писать – после того, как красноречие будет обличено в своей сущности обанкротившейся риторической валюты. К тому времени, как я договорил, лицо Вентуры побелело самой странной бледностью, которую я когда-либо видел, с серыми кругами вокруг глаз и белизной у корней волос. Он смотрел на меня так, будто не был уверен, запереть ли меня в комнате, убрав подальше все острые предметы, или же ничего не говорить и не делать, слепо веря, что мой приступ пройдет и я вернусь в норму. Он выбрал второе, молча кивнул мне и медленно попятился обратно в коридор. Когда он ушел, я посидел немного и, так же молчаливо, как он уходил, достал сорокафунтовый мешок для мусора, подобрал страницы и набил ими мешок. Потом я опустил жалюзи, отключил телефон и снова завалился в постель.
Господи, я же когда-то хотел быть героем. Я хотел быть чем-то настолько большим себя самого, что мой собственный голос мог бы до меня не докричаться. Я хотел спасти кого-нибудь или что-нибудь, вновь обрести какой-нибудь идеал, обрести момент между бескрайним отчаянием и опьянением отчаяния и жить в этом моменте, когда единственный оставшийся выход – вырваться на свободу от себя самого. Теперь я и это забыл. Теперь мое заикание – все, что осталось от этой попытки, и оно живет лишь потому, что оно достаточно нелепо, чтобы выжить и напоминать мне всякий раз, когда я открываю рот, о единственном оставшемся у меня мужестве – попытаться забыть незабываемое.
Я просыпаюсь в постели у Вив, но когда тянусь к ней, обнаруживаю, что мои запястья привязаны к стойкам кровати. Я не могу не попробовать хорошенько дернуть руками – а вдруг высвобожусь, – чтобы убедиться, не запутался ли я в простынях, всего-навсего. Какое-то время я лежу, уставившись вверх, в черноту у меня перед глазами, и, как мне кажется, довольно долгое время совсем ничего не происходит. Я слегка мерзну в ночном воздухе, так как я ничем не прикрыт. «Мне холодно», – в конце концов не выдерживаю я; ответа нет. Спустя примерно минуту я внезапно уверен, что Вив нет в постели. Спустя еще минуту я уверен, что ее нет и в квартире. Тогда в моей памяти тусклым эхом отдается последний миг сна, снившегося мне перед тем, как я проснулся, – звук открывающейся и закрывающейся двери. В темноте я не могу понять, страшно ли мне. В голове у меня вырисовывается, ярче, чем когда-либо раньше, квартира Вив, все ее манекены и стальные скульптуры, башни, обелиски и пирамиды с их экзотическими перьями и маленькими окошками, через которые можно подглядывать за стручками и жемчужинами. Голый, привязанный к кровати Вив, я вижу, как они окружают меня в темноте; и по мере того как проходит время, я все отчетливее слышу волны далекого океана, приглушенное, влажное стрекотание вертолетов в тумане над головой и едва различимые хлопки выстрелов.
Начинается дождь.
Немного спустя я теряю ощущение времени. Я не уверен, лежу ли я так тридцать минут, час или три. Потом я слышу шаги за дверью, дверь открывается, и тогда я слышу шаги, поднимающиеся по лестнице на антресоли, и почти сразу понимаю: это шаги более чем одного человека. Мне не ясно, включила ли она свет. Единственное, в чем я уверен, – это в том, что с ней кто-то есть, и какое-то время не слышно ничего, как будто они стоят у постели и смотрят на меня. Никто не произносит ни звука. Через несколько секунд они спускаются в гостиную, и я слышу звон стаканов и плеск льющейся жидкости, и потом я слышу, как они расхаживают внизу. Человек, который с ней, не выражает ни малейшего удивления. У меня в голове мелькает то утро на шоссе Пасифик-Коуст, в моей машине, с Сахарой из «Электробутона», когда Вив объявила, что они отомстят; но я абсолютно не уверен, что это Сахара. Это может быть кто угодно. Может быть Сахара, а может кто-то из подруг Вив, а может какая-нибудь женщина, которую она только что сняла в баре: «Привет, меня зовут Вив, у меня дома голый мужчина привязан к кровати». Я все еще пытаюсь решить, страшно ли мне, когда вдруг чувствую теплый рот и чуть не выпрыгиваю из кожи вон, потому что не слышал, как они поднялись обратно к кровати. Думаю, это рот Вив, но я не уверен. Он вбирает так много, что я встревожен. Я ощущаю свою эрекцию как предательство, знак того, сколь легко моя душа продаст меня ради острых ощущений. И тут я чувствую их обеих, и уже не понять, где Вив, которой я все еще доверяю, и где та, вторая, верить которой у меня нет ни малейших оснований, и где – алхимическая путаница обоих сплетенных тел, которая заслуживает наименьшего доверия. Я смутно чувствую, что я в одной, и потом, кажется, в другой, а может, это одно и то же; они по очереди забираются на меня, и потом одна из них вводит меня в себя, а другая садится мне на лицо, целует мои губы своими половыми губами. Кажется, я узнаю вкус Вив; я почти уверен, что меня гладит рука Вив, когда я кончаю. Она знает, каково это для меня – кончать вот так, не в нее, а в воздух, пока она наблюдает, но сейчас наблюдает кто-то еще, незнакомка, которую я никогда не узнаю, или женщина, которую я, может быть, и знаю, но которая в этот миг останется для меня незнакомкой. В момент оргазма, Вив знает, я хочу спрятаться; но сейчас прятаться некуда, мои запястья и щиколотки связаны. Мое обнажение мучительно.
«Все, чем ты являешься, – шепчет кто-то мне в ухо, – у меня в голове». Кто-то еще целует меня в губы, и тогда вторая целует меня в губы, и я думаю: обе они – Вив; теперь ее две. Я снова засыпаю.
Когда я просыпаюсь, я не связан. На глазах нет повязки. Серый свет утра или дня – я не уверен, который час, – наполняет квартиру Вив; все еще идет дождь. Рядом со мной никого больше нет, но на тумбе возле холодильника стоят два недопитых бокала с вином. Мои ноги и член измазаны губной помадой; я иду в ванную и моюсь, и потом, все еше мокрый, встаю на колени перед диваном и целую Вив так, как она целовала меня несколько часов назад. Во сне она запускает пальцы в мои волосы.
Недалеко от офиса редакции можно прокатиться на лодке по старой подземке. Городские власти пытаются заколотить старые входы в метро, но люди все равно приходят и выламывают доски. С тех пор как несколько лет назад туннели затопило, после того как подземку только построили, тротуары грохочут, как будто под ними поезда, только на самом деле это звук подземных каналов, несущихся из Долины через каньон Лорел в Фэрфакс-Корридор и затем разветвляющихся на восток, к Голливуду и далее к Силверлейку, или к югу, к Болдуин-Хиллз. Там туннели вновь разветвляются: один вьется в сторону призрачной пристани для яхт, второй вливается в Лос-Анджелес-ривер и течет дальше, к Сан-Педро и гавани. Проплывая по каналам, ведущим к югу, из любого импровизированного дока, которыми кишит подземелье, движешься мимо бродяг, живущих в катакомбах и старых покинутых вагонах, плавающих в гротах. Ящерицы-сиамские близнецы шныряют по потолку туннеля, и глубокие, выцветшие до белизны корни деревьев, обрамляющих Кресент-Хайте и Шестую стрит, проламывают стены подземки. Если проплыть на лодке до самой Санта-Моники, подземная река доставит тебя прямо в окутанный паром залив, где кобальтовое небо взрывается над головой, а город маячит позади, увенчанный гривой дыма. За годы сквозь миллионы трещин в стенах затопленных туннелей вода каналов впиталась в землю, и теперь весь город стоит в большой черной лагуне зыбучего песка…
Вив рассказывает мне о своем сне. Во сне ее отца убили; в расплату она поджигает убийцу посреди своей квартиры. В то время как он горит, а свет пламени заливает стены, и отблески смешиваются, как краски на картине, убийца превращается в меня, хотя вовсе не ясно, был ли я им изначально. Вив очень встревожена этим сном; меня, кажется, больше всего удивляет то, что она чувствует, будто обязана рассказать мне о нем, словно это признание или что-то, в чем я должен отчитаться или найти рациональное зерно. «Но огонь был очень красивый», – заверяет она меня.
Мы решили на несколько дней покинуть Лос-Анджелес. Мы выехали из дождя, который начался в ту ночь, когда я был привязан к ее кровати, и оставили его позади, в ущелье Кейджон-Пасс, примчавшись в Лас-Вегас тем же вечером. Мы заняли номер на высоком этаже в одном из небоскребов-казино. Вив объявила с заднего сиденья, что совершенно не заинтересована в азартных играх, но спустя пару дней и пару дюжин «бомбейских сапфиров» мне пришлось разгибать ее пальцы, один за другим, чтобы ослабить ее смертельную хватку на игорном автомате. Вечера мы проводили в старом стрип-баре в даунтауне, под названием «Золотая подвязка»; девушки там были вполне сносные – не дистрофичные блондинки калифорнийского извода, а смуглые невадки рубенсовского типа. Меня не выманила незнакомка в бассейн при казино, и землетрясение не похоронило нас под обломками; но однажды ночью и мне приснился странный сон, пусть и не такой зажигательный, как тот, что видела Вив. Мне снилось, что я заперт в длинной темной комнате. Добравшись до ее конца, я отчаянно пытался открыть дверь, озаренную по контуру ореолом света, когда вдруг услышал, как меня кто-то зовет. Снова и снова кто-то звал меня, а я все ломился в дверь, пока звук моего собственного имени не стал таким назойливым, что я проснулся. Разлепив глаза, я понял, что стою перед окном нашего номера и слышу голос Вив. Она встала сходить в уборную, а из уборной услышала шум в комнате; выбежав, она застала меня у окна, колотящим но стеклу в попытке выбраться наружу. Учитывая, что наш номер находился на одиннадцатом этаже, хорошо, что это мне не удалось. Ничего не понимая, как старый маразматик, я продолжал стоять у окна в темноте, пока Вив не взяла меня за руку и не увлекла обратно в постель…
Когда мы приехали назад в Лос-Анджелес, там все еще падал тот же самый дождь. Это был дождь, какого никогда не бывает в Лос-Анджелесе, одна гроза за другой наплывали из Мексики и с моря, заливая встречные пожары. Теперь весь город вспух пузырями, покрылся оспинами следов, налитых водой, загудел от стремительного бурления подземных каналов; между грозами воздух наполнялся шипением пара, поднимавшегося от выжженных колец, и, когда пробивалось солнце, над городом висела пелена золотого света. Дома на дальних холмах были похожи на маленькие белые деревушки, плывущие по небу, и потом холмы поддались дождю и оползли и плывущие деревушки растворились в воздухе. Дождь был удачей для Вив – она нашла огненный ров, окружавший дом Джаспер, погасшим, как раз вовремя, чтобы воздвигнуть свой Мнемоскоп, который она привезла на окраину при помощи грузовика и нанятых рабочих. Джаспер нигде не было видно, но ее отчим наблюдал за происходящим из башни; он грозил Вив кулаком и что-то кричал, но ничего не было слышно. Мнемоскоп стоит в десяти ярдах от дома и возвышается на десять ярдов над землей, нацеленный на восток, на невидимое утреннее светило, в ожидании шанса явить первое воспоминание в солнечном взрыве рассвета. Почти сразу же после установки Мнемоскопа Вив ощутила внутри жжение, чуть выше живота и ниже грудной клетки, – недалеко, я полагаю, от сердца. Как будто во сне она подожгла свою сердцевину.
Никак не уйти от чувства, что все расклеивается… Примерно в то же время, когда Вив начала заболевать, я проснулся как-то утром и обнаружил, что дождь идет не только в Лос-Анджелесе, но и в гостинице «Хэмблин». Над входом в мой люкс протекал потолок, и женщину из соседнего номера буквально смыло, ее матрас плавал по квартире, как разбухший плот. Конечно, сделать ничего было нельзя, поскольку в здании, заодно с дождем, царила анархия – Абдул прятался от своры женщин, рыскавших по гостинице и жаждавших его крови, не то чтобы Абдул еще заведовал хозяйством, не то чтобы это имело какое-то значение, когда он им заведовал. «В гостинице идет дождь», – с порога сообщил я Вентуре, и мне ответила четкая капель по голове. Вентура сидел в том же кресле, в котором сидел всегда, в той же шляпе и ковбойских сапогах; было ясно, что ему наплевать на дождь. Через минуту он объяснит, как аберрантная близость Антарктиды к одной из лун Юпитера капитально разладила метеорологическую обстановку во всем полушарии, и теперь мы можем ожидать беспрестанного библейского дождя семь лет подряд. Но он не стал вдаваться в это, у него была пара более важных заявлений. Первое и менее интересное: он умирает.
Он многократно заявлял что-то подобное за то время, что я его знаю; кажется, он едва избежал смерти тридцать или сорок раз. Если у него не ползучее гниение желудка или какой-нибудь неслыханный рак, значит, сердце бьется неким из ряда вон выходящим образом. Я начал воспринимать вести о грядущей кончине Вентуры метафорически; одна из его самых знаменитых газетных передовиц начиналась большим черным заголовком: «ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЗДОРОВ ЛИ ТЫ, БОГАТ, УМЕН ИЛИ КРАСИВ – ТЫ УМРЕШЬ», – после чего в шести-семи тысячах слов эта мысль развивалась на благо любого местного нарциссиста, все еще пребывающего в заблуждении, будто он бессмертен. Не то чтобы я сам не относился к смерти серьезно. Не то чтобы я не думал о ней все время, не то чтобы прошел хоть один день после моего восьмилетия, когда мысль о ней не пришла бы мне в голову. Однако в этот конкретный момент я пытался решить, будет ли утопление в собственной квартире, по сравнению с другими вариантами, смертью скорее нелепой, чем экзотической, или же скорее экзотической, чем нелепой, и кап-кап-кап мне на голову в дверях у Вентуры служило убедительным доказательством в пользу нелепости. Тем не менее вряд ли Вентура полагал, что утонет в собственной квартире; он раздумывал над перспективой более раннего ухода из жизни. В этот раз у него была не в порядке кровь. Врач, сказал Вентура, сообщил ему, что его кровь «консистенции сливок». Он снова произнес это и заметно оживился: как писатель, он не мог противостоять поэзии этих слов. «Кровь консистенции сливок», – сказал он в третий раз, опуская свои ковбойские сапоги на пол. Он улыбнулся. Теперь он был счастлив. Какой романтический рок. Он был ходячей холестериновой бомбой, тикающим куском жира; он начал перемалывать это в голове, расхаживая по комнате, со все увеличивающейся сицилийской напыщенностью. «Кровь консистенции сливок». Он был в восторге! На его лице сияла гримаса экстаза.
Он был менее восторжен насчет второй новости, и это меня волновало. Когда все расклеивается абстрактно, Вентура наиболее спокоен, поэтому когда он сказал без всякой радости в голосе – что-то, мол, не так в газете, – у меня возникло нехорошее ощущение, что речь идет не об одном из его заурядных апокалипсисов. Вентура не мог с точностью определить, в чем дело, но Фрейд Н. Джонсон, кажется, взвинчивал себя, чтобы кинуться в последнюю психотическую атаку на Шейла – ушки на макушке, пальцы-когти хищно скрючены в ожидании самого ничтожного повода.
– Сейчас для меня плохое время уходить, – только и мог сказать я, обдумывая свое нынешнее положение. – Разве Джонсон не знает, что будет, если он уволит Шейла?
– Он вышел за рамки рационального мышления, – ответил Вентура. – Увольнение Шейла для него – импульс, который он должен во что бы то ни стало удовлетворить, сродни импульсу зайти в здание почтамта и начать стрельбу по людям. Уж во что он верит, так это в то, что ничего не случится, что журналисты вечно грозятся уйти в таких ситуациях и никогда не уходят. И в этом он, конечно, прав.
Я не мог сказать наверняка, что сделает Вентура, если Шейла уволят; я даже не уверен, что он сам это знал, и именно это сбивало его с толку. Для Вентуры уход из газеты мог быть смертью посерьезней и пореальней, чем кровь консистенции сливок. Вскоре он начал убеждать себя не быть пессимистом: «Ну, наверно, какое-то время еще ничего не произойдет», – поведение, настолько противоречащее его характеру, что оно было воистину зловещим.
На горизонте замаячило ощущение общего кризиса. В следующие несколько дней я осознал, что вдыхаю, не выдохнув до конца, а дождь между тем не переставал. Дождь шел в коридорах «Хэмблина», лестницы стали ручьями; в разъездах по городу мою машину заносило и швыряло от одного бедствия к другому: затопленные перекрестки, прорванные водопроводные трубы, бурлящие канализационные люки, улицы, похороненные под грязевыми оползнями, родники, пробившиеся вверх от подземных рек в метро. Как-то днем, во время краткого затишья, я ехал домой по Сансет и Лорел – мимо дома, где жил Скотт Фицджеральд, когда писал киносценарии, мимо «Шато Мармон» и «Электробутона» и мимо стоящей на северной стороне бульвара маленькой Принцессы Монет. Наверно, она пыталась завлечь клиентов, пока не было дождя. Она выглядела соблазнительно, как обычно, в черной мини-юбке и облегающем серебристом свитере, и с энтузиазмом вертела головой из стороны в сторону.
Я всего лишь катил мимо, когда вдруг, как если бы земля слегка протекла, а потом была вспорота мощной струей, подножье холма за ней взорвалось потоком воды и грязи. Подземный канал метро Лорел-Каньон прорвался, и в секунды Принцессу буквально смыло, как будто бы ее там никогда и не было; я ужаснулся, но все же не мог удержаться от смеха. Грязь забрызгала мне ветровое стекло, и вода, выплеснувшаяся на улицу, пронесла мой автомобиль несколько футов, прежде чем он снова поймал колесами дорогу, – и тогда, перед самыми моими фарами, ее голова выплыла на поверхность посреди бульвара Сансет; лицо ее совершенно оцепенело, она была слишком потрясена, чтобы осознать случившееся. Я открыл дверь машины и ухватил Принцессу за то, что мог достать, – за руки, за свитер, за волосы. Из окон магазинов и маленьких офисов вдоль Стрипа в изумлении смотрели люди. Волны стали утихать, но моя машина, такое ощущение, все норовила пуститься в плавание; и, когда я затащил Принцессу в салон, она, в путанице мокрой одежды и волос, плевалась бурой водой, задыхалась и кашляла. Насколько я мог видеть, она захлебнулась. Как только она очутилась в машине, я понял, что хочу одного – съехать со Стрипа и направиться к холму, где я жил, надеясь, что если Принцесса задохнется насмерть, то сделает это до того, как мы доберемся до «Хэмблина», чтобы я мог выбросить ее на обочину.
Но она была еще жива, когда я поставил машину в гараж. Несколько секунд я сидел на месте, думая, как быть, в то время как на заднем сиденье она продолжала задыхаться, хрипеть и выдувать воду из носа. Между истерикой и удушьем дыхание возвращалось к ней прежде, чем сознание. Минут через десять, наслушавшись ее кашля, всхлипов, сопения и ругательств, я вытащил ее из машины, и у нее вновь началась истерика при виде воды в гараже, подтопленном забитыми сточными трубами. Я привел ее наверх, к себе, и она едва сообразила, что ей нужно в уборную; в уборной она просидела долго. Спустя какое-то время я постучал в дверь. Когда Принцесса не ответила, я постучал снова, и она опять не ответила; наконец я сказал:
– Ты должна мне ответить, что у тебя все в порядке, а то дверь выломаю.
– Я в порядке, – услышал я ее голос из-за двери. Наконец она вышла – такая же мокрая, с такой же спутанной шевелюрой и все так же кашляя, пытаясь освободить легкие от воды. Сырую одежду она сняла и завернулась в полотенце. Я подал ей свой халат. Она взяла его и пошла обратно в ванную, и вернулась в халате. Она стояла с совершенно потерянным выражением в моем сером халате посреди квартиры.
– Хочешь прилечь? – спросил я. Она кивнула.
– Можешь прилечь там, – сказал я, указывая на спальню.
Не глядя на меня, она ушла в спальню.
– Можешь прикрыть дверь, если хочешь, – крикнул я ей вслед; она не стала закрываться, и некоторое время спустя, услышав, что она спит, я затворил дверь сам.
Я собрал ее мокрую одежду с пола в ванной и отнес в ближайшую химчистку, и когда я вернулся, дверь спальни все еще была закрыта. Через несколько часов, когда стало темнеть, Принцесса вышла ровно настолько, сколько понадобилось, чтобы вновь сходить в уборную, и еще в кухню – выпить стакан воды, и вновь исчезла в спальне; около полуночи я вытащил из чулана пару одеял и устроился спать на полу в гостиной.
Я позвонил Вив. Она устала и мучилась из-за жжения в желудке, и я сделал ошибку: не рассказал ей о Принцессе. «Какой-то у тебя голос странный», – заключила она, и мы продолжили разговор, не касавшийся ничего особенно важного, кроме ее самочувствия. Я не думаю, что мой голос стал звучать менее странно. Посреди ночи мне показалось, что я слышу телефон; но когда я проснулся, звон прекратился, и я был не уверен, сон это или нет, а когда я выглянул из высокого окна в ночь, на облака и луну над головой, мне показалось на секунду, что я снова в «Морском замке», сразу после Землетрясения. Я сел в кровати и увидел маленькую дикую блондинку, которую позже узнал как Вив, прежде чем понял, что я – на полу своей квартиры. Прошла секунда, прежде чем я вспомнил, что я там делаю. Прошло время, прежде чем я снова заснул; в следующий раз я проснулся рано утром, и Принцесса сидела в моем большом черном кресле, все еще в моем сером халате, и глядела в окно.
– Ты в порядке? – привстав, спросил я.
Она испуганно смотрела в окно на облака, как будто ужасаясь ливню, который вот-вот должен был хлынуть. Наконец она отметила мое присутствие быстрым взглядом, поплотнее завернулась в халат и вновь уставилась в небо.
– Я так хочу, чтоб это прекратилось, – сказала она, хотя на самом деле не мне, и взглянула на потолок над входом, который по-прежнему протекал; мокрый ковер был прикрыт тряпками, и я подставил там пару ведер.
– Ты чего-нибудь хочешь? – спросил я, встав с пола и одевшись, и собрав простыни.
– Я поела мюсли, – сказала она спустя миг.
– Как тебя зовут?
– Зачем тебе? – выпалила она.
Она хотела сказать это враждебным тоном. Но она не могла изобразить никакого тона, кроме испуганного и запутавшегося, как будто не только все еще переваривала события вчерашнего дня, но будто они так основательно выбили ее из колеи, что она не была уверена, как ответить на этот вопрос, даже если бы захотела. Какое имя я хотел услышать? Рабочее имя? Имя, которое она взяла бы, если бы стала кинозвездой? Ее настоящее имя, если она его помнит? Я принял душ, оделся, и помыл посуду, вылил ведра и поменял тряпки на полу у входа, в то время как она продолжала сидеть в кресле и смотреть в окно. «Я иду в химчистку забирать твои вещи», – сказал я ей, не получил ответа и направился на улицу, чтобы вернуться, прежде чем снова польет дождь. Я забрал ее юбку, свитер, чулки и белье. Теперь мне активно не терпелось выставить Принцессу из своей квартиры. Когда я вернулся через двадцать минут, ее не было в черном кресле и не было в ванной; я был немного озабочен, найдя ее снова в постели, где она лежала на боку, уставившись в стену. По ее виду было очень похоже, что у нее нет никаких планов куда-то идти в ближайшее время. Я встал у постели, глядя на нее и с ее одеждой в руках.
– Мне не нравится, что здесь капает, – сказала она. Я прочистил горло.
– Вот твои вещи, они теперь чистые. Я могу отвезти тебя туда, куда тебе нужно.
– Мне никуда не нужно, – ответила она, глядя в стену. Я нехотя повесил ее вещи в шкаф.
– Вот телефон, – указал я на совершенно очевидный телефон, стоявший на низенькой стеклянной полочке рядом с кроватью, – если тебе нужно позвонить кому-то, кто тебя заберет.
– Мне некому звонить, – сказала она.
Она посмотрела на меня – в первый раз, на самом деле. Отбросила волосы с лица и медленно, спокойно отвернула одеяло. Она была голой и выглядела невозможно молодо.
– Можешь, если хочешь, – сказала она.
– Все в порядке, – покачал я головой.
– Ты что, педик?
– Нет.
– Я тебе не нравлюсь?
– Нравишься.
– Ты не считаешь, что я красивая?
– Да, я считаю, ты красивая.
– Тогда почему нет?
– Все в порядке, я же сказал.
– Но тогда почему бы и нет? – сказала она. – Я не больна, если ты этого боишься. У меня ничего нет.
– Не поэтому. – Я начал злиться.
– Тогда почему?
Я начал злиться, и я даже не был уверен, почему.
– Потому, – выпалил я, – что это нормально, чтобы мужчина с тобой время от времени обращался по-человечески, и тебе не приходилось его за это трахать.
Она казалась совершенно сбитой с толку этими словами.
– Хочешь еще поспать? – вздохнул я.
– Я хочу просто полежать здесь, – ответила она, снова натягивая одеяло.
Весь оставшийся день она не выходила из спальни. Позже вечером, сидя за столом и заглатывая тосты с яичницей, наконец-то стала выказывать признаки жизни и понемногу разговорилась – хотя это были обычные разговоры, которые меня не интересовали: брат в тюрьме, сестра-наркоманка… Вот уж о чем мне не хотелось слушать, так это о ее юной депрессивной жизни. Разглядывая ее, я не мог понять, ей шестнадцать, двадцать два или что-то посередке.
– Ты что, не работаешь? – спросила она между кусками тоста, будто пытаясь понять, какого черта я все время торчу дома. – Я выпью кока-колы.
Я достал ей банку кока-колы из холодильника.
– Я работаю на газету.
– А что делаешь?
– Я писатель.
– А о чем ты пишешь?
– В основном о кино.
– Ты пишешь о кино? – сказала она.
– Да.
– Я когда-нибудь буду сниматься в кино.
– Да что ты говоришь.
– А что ты пишешь о кино?
– Пишу, нравятся ли мне фильмы.
Ее вилка застыла в воздухе, и она взглянула на меня сквозь упавшую на глаза белокурую челку.
– Ты пишешь, нравятся ли тебе фильмы? То есть ты идешь в кино и потом пишешь, понравилось ли тебе?
– Да.
Она раскрыла было рот, но остановилась в уверенности, что чего-то не расслышала. Я взял быка за рога:
– Завтра поедем туда, куда тебе нужно.
– Мне никуда не нужно, – сказала она.
– Наверно, кто-то о тебе волнуется.
– Обо мне никто не волнуется.
– Где твой дом?
– У меня нет дома.
– Где ты живешь?
– Я живу там, где я есть. – Она отбросила волосы с лица. – С тем, с кем я в этот момент.
– Мы можем с тобой поехать в какой-нибудь социальный центр. Где тебе помогут с твоими проблемами.
– У меня нет проблем.
– Там может быть кто-то, кто сможет устроить так, чтобы тебе не пришлось больше этим заниматься.
– Чем заниматься? – Она сузила глаза. – Что ты имеешь в виду – чтобы мне не пришлось больше этим заниматься? А чем я таким занимаюсь? Знаешь, – ей удалось добиться самого вкрадчивого тона, – я готова спорить, что ты проезжал и раньше мимо угла, где я стою, правда ведь? Готова спорить, что ты много раз проезжал мимо и глазел на меня. И вообще, не тебе ли это я отсасывала в машине пару месяцев назад?
– Видишь ли, – объяснил я, – я намного старше тебя, так что можешь оставить свою эпатажную уличную философию при себе. Я говорю не о том, плохо ли это вообще, я говорю о том, плохо ли это для тебя. И никогда ты не отсасывала мне в машине. Все, что ты когда-либо делала в моей машине, это спасала свою задницу, после того, как я вытащил тебя из воды, когда тебя чуть не смыло по бульвару Сансет.
– Я уже сказала «спасибо», – пробормотала она раздраженно, хотя ничего подобного она не говорила.
Она встала из-за стола и замерла посреди кухни.
– Мне некуда идти, – сказала она изменившимся голосом, как будто снова могла сбрендить, как тогда, когда только что сюда попала. – Я остаюсь у мужчин, пока не надоем им, и тогда они дают мне денег, чтобы я могла снять комнату где-нибудь, в мотеле, что ли, если мне сразу же не попадется новый клиент. Мне нет смысла снимать себе квартиру, потому что я бы там все равно не ночевала.
Я не хотел, чтобы она снова начала сходить с ума.
– Прекрасно.
– У меня нет денег – я два дня, что сидела здесь, не работала.
– Ах, как жаль, что ты не смогла поработать.
– Если ты мне дашь денег за два дня работы, может, я бы ушла.
– Сколько?
– Пятьсот баксов.
– Чего?
– Ну ладно, ладно, – сказала она. – Я не виновата, что ты за эти деньги не хочешь меня трахать.
– Я думал, тебя надо трахать за спасение твоей жизни и за то, что я разрешил тебе здесь пожить.








