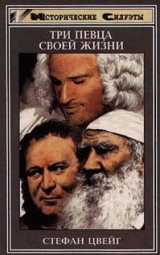
Текст книги "Три певца своей жизни (Казанова, Стендаль, Толстой)"
Автор книги: Стефан Цвейг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Да, он любит, как самый страстный в литературе анималист, свое тело, он любит его, как художник свой инструмент, он любит плоть как самую естественную форму человека и в себе самом он ценит больше свое сильное тело, чем шаткую лицемерную душу. Он любит его во всех формах, во все времена с начала до конца, и первое сознательное восприятие этого аутоэротизма начинается – это не описка! – со второго года его жизни. На втором году его жизни – это подчеркивается, чтобы можно было понять, с какой кристальной ясностью и резкостью очерчено у Толстого всякое воспоминание в потоке времени. Гете и Стендаль ясно помнят себя лишь с седьмого или восьмого года жизни, а двухлетний Толстой чувствует уже так же сильно и отличается такой же концентрической собранностью всех органов чувств, как и будущий художник. Вот описание его первых плотских ощущений: "Я сижу в корыте, и меня окружает новый, не неприятный запах какого-то вещества, которым трут мое маленькое тельце. Вероятно, это были отруби и, вероятно, в воде и корыте, но новизна впечатлений отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил свое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, руки няни с засученными рукавами, и теплую, парную воду с отрубями и запах ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками". Прочитав это, следует разложить эти воспоминания детства по их чувственным зонам, чтобы по достоинству оценить универсальную остроту органов чувств, которыми Толстой в крошечной личинке двухлетнего ребенка охватывает окружающий его мир: он видит няню, он обоняет запах отрубей, он различает новые впечатления, он чувствует теплоту воды, он слышит шорох, он осязает гладкость стенки деревянной ванночки, и все эти одновременные ощущения различных нервов сливаются в единое "приятное" самообозрение тела – единственной проницаемой для всех жизненных ощущений поверхности. Тогда можно понять, как рано в данном случае присосы чувств цепляются за существование, с какой силой и сознательностью разносторонний натиск явлений внешнего мира у ребенка Толстого превращается в ясные впечатления; можно соразмерить, сравнить с тем, как у взрослого Толстого до краев наполненные мозгом и мускулами, обостренные сознанием чувства, напряженные от жизненного любопытства нервы выросшего организма утончают и возвышают каждое впечатление. И это маленькое игрушечное детское любование своим крохотным телом в узкой ванночке естественно расширяется в дикое, почти бешеное наслаждение существованием, как и у ребенка, объединяющего в единое всеобъемлющее, гимноподобное, пьянящее чувство свое "я", мир, природу и жизнь.
И действительно, это ощущение слияния со вселенной с опьяняющей силой овладевает иногда Толстым; нужно прочесть, как этот серьезный человек изредка подымается и выходит в лес посмотреть на мир, который избрал его среди миллионов, чтобы могущественнее и сознательнее, чем эти миллионы, воспринимать его величие; как он вдруг в экстазе расправляет плечи и простирает руки, точно пытаясь в шумно веющем воздухе схватить беспредельное, волнующее его душу; или как он, равно потрясаемый ничтожнейшим явлением и космическим величием природы, нагибается, чтобы нежно выпрямить растоптанный чертополох или с страстным напряжением наблюдать за сверкающей игрой стрекозы, и поспешно отворачивается, чтобы скрыть навертывающуюся на глаза слезу, когда замечает, что друзья следят за ним. Ни один поэт современности, даже Уолт Уитмен, не ощущал так могущественно физическое наслаждение земными, плотскими явлениями, как этот русский со своей чувственной пылкостью Пана и великой вездесущностью античного бога. И не трудно понять его непомерно гордое изречение: "Я сам природа".
Незыблемо – сам вселенная во вселенной – этот крупный, поднявшийся ввысь человек врос корнями в родную русскую почву; ничто, казалось бы, не может потрясти его могучего мировоззрения. Но и земля иногда сотрясается в сейсмических колебаниях, – подчас колеблется в своей уверенности, media in vita [208]208
Здесь: что он все еще жив (лат.).
[Закрыть], и Толстой. Вдруг останавливается неподвижный взгляд, колеблется направленная в пустоту мысль. В поле его зрения вступило нечто, чего он не может ни понять, ни ощутить, что-то пребывающее вне физического тепла и жизненного обилия, что-то, чего он не может постичь, как бы ни напрягал нервы, что-то остающееся неведомым для него, человека мысли, – ибо это не земная вещь, материя, которую он мог бы воспринять, растворить, а нечто враждебно взирающее на все радостное и откровенно-чувственное, нечто, не позволяющее коснуться его, взвесить или ввести в ряд вечно жаждущих мирских чувств. Ибо как усвоить ужасную мысль, прорезавшую вдруг круг явлений, как допустить, что эти бушующие, дышащие чувства когда-нибудь умолкнут, оглохнут; рука окостенеет и станет бесчувственной, это нагое прекрасное тело, еще согретое течением крови, станет пищей червей и окаменелым скелетом? Что, если это обрушится и на него, сегодня или завтра, – эта пустота, эта мгла, это неотвратимое, нигде ясно не ощутимое нечто, – если оно обрушится на него, сейчас еще полного здоровьем и силой? Когда Толстой поглощен мыслью о тленном, кровь стынет в его жилах. Первый раз она ему является в детстве: его приводят к трупу матери, там лежит нечто холодное, застывшее, в чем вчера еще была жизнь. В течение восьмидесяти лет он не может забыть это зрелище, которое он тогда не охватывал еще ни душевно, ни мысленно. Но пятилетнее дитя издает крик, испуганный, пронзительный крик, и в бешеной панике убегает из комнаты, чувствуя, что за ним гонятся все Эринии [55]55
Эринии (Евмениды) – в греческой мифологии богини мщения, обитающие в подземном царстве; преследуя преступника, лишают его рассудка.
[Закрыть] страха. Мысль о смерти завладевает им с той же убийственной силой, когда умирают его брат, его отец, его тетка: всегда она обдает его холодом, эта ледяная рука, и рвет нервы.
В 1869 году, еще перед кризисом, но незадолго до него, он описывает белый ужас, la blanche terreur, подобного набега мысли. "Я лег было, по только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, тоска, какая бывает перед рвотой, что-то разрывало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз попытался заснуть; все тот же ужас – красный, белый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается". Случилось ужасное: раньше чем перст смерти коснулся тела Толстого, за сорок лет до кончины, предчувствие ее вонзилось в душу живого, и избавиться от него ему не удается. Великий страх сидит ночью у его постели, он гложет его жизненную радость, он сгибается между листками его книг и грызет пораженные гниением черные мысли.
Из этого явствует: страх перед смертью так же сверхчеловечен у Толстого, как и его жизненная сила. Было бы трусостью назвать это нервным страхом, сходным, пожалуй, с неврастеническим отвращением Новалиса, меланхолическим затмением Ленау [56]56
Ленау Николаус (наст. имя и фам. Франц Нимбш фон Штреленау, 1802-1850) – австрийский поэт. Романтическая лирика, поэмы «Савонарола», «Ян Жижка», «Альбигойцы» и др.
[Закрыть], мистически сладострастной фобией Эдгара По, – нет, здесь прорывается животный, обнаженный дикий террор, яркий ужас, ураган страха, паника проснувшегося жизненного инстинкта. Не как мыслящий человек, не как мужественно-героический ум, боится Толстой смерти; точно клейменный алым раскаленным железом пожизненный раб этого призрака, он содрогается, безумно вскрикивая, теряя самообладание; его страх проявляется как животный, трусливо трясущийся взрыв ужаса, как шок – первобытный страх всех созданий мира, заговоривший в единой душе. Он не хочет останавливаться на этой мысли, он не хочет, он отказывается и, как схваченный за горло, простирает вперед руки,– ибо не надо забывать, что Толстой совершенно неожиданно, в дни полного спокойствия подвергается нападению. Для этого московитского медведя нет переходной ступени между жизнью и смертью, смерть для такого первобытно здорового человека абсолютно чуждое явление, в то время как для среднего человека обычно устанавливается часто посещаемый мост: болезнь. Остальные, средние люди уже в пятьдесят лет носят в себе частицу этой смерти, ее близость для них не представляется совершенной невозможностью, она для них уже не будет неожиданностью, поэтому они не содрогаются так растерянно перед ее первым энергичным набегом. Так, например, Достоевский, с завязанными глазами стоявший у столба в ожидании залпа и каждую неделю бившийся в эпилептическом припадке, приученный к страданиям, спокойнее смотрит в глаза смерти, чем этот совершенно неподготовленный, пышущий здоровьем человек: поэтому тень уничтожительного, почти позорного страха не так холодит его кровь, как у Толстого, который при дуновении этого слова, при первом приближении мысли о смерти уже начинает трусливо трястись. Ему, чрезмерно ощущавшему свое "я" и окружающую жизнь, «опьяненному жизнью», малейшее уменьшение жизненной силы представлялось родом болезни (в тридцать шесть лет он себя называет «стариком»). Благодаря повышенной чувствительности мысль о смерти пронзает его насквозь, как выстрел. Только тот, кто так сильно ощущает бытие, может с такой абсолютной полнотой и интенсивностью ощущать небытие; именно потому, что здесь истинно демоническая жизненная сила сталкивается с таким же демоническим страхом перед смертью, образуется у Толстого такая гигантская пропасть между бытием и небытием – быть может, самая большая во всемирной литературе. Ибо только исполинские натуры оказывают исполинское сопротивление: повелитель, волевой силач, подобный Толстому, не отступит без борьбы перед пустым местом, – тотчас же после первого приступа испуга он берет себя в руки, напрягает мускулы, чтобы покорить вдруг восставшего врага; нет, столь упругая жизненная сила не отступает без борьбы. Едва оправившись от первого удара, он укрывается за окопами философии, подымает мосты и нападает на незримого врага с катапультами из арсенала своей логики, надеясь прогнать его. Сперва он сопротивляется презрением: «Я не могу интересоваться смертью, главным образом потому, что, пока я жив, она не существует». Он называет ее «непостижимой», высокомерно утверждает, что он «не боится смерти, а лишь страха перед смертью», он все время уверяет (целых тридцать лет!), что он ее не боится, без страха думает о ней. Но он никого не может этим обмануть, даже самого себя. Нет сомнения: насыпь душевно-чувственной уверенности разрушена при первом же набеге страха, все нервы и мысли беззащитны перед нападением, и в пятьдесят лет у Толстого для борьбы – лишь обломки его былой жизненной уверенности. И чем ожесточеннее он старается оторваться от навязчивого представления, тем более он обнаруживает непобедимый захват. Он должен, отступая шаг за шагом, согласиться, что смерть не только «призрак», не «огородное пугало», а очень серьезный противник, которого не напугаешь одними словами. Толстой ищет возможность дальнейшего существования совместно с неумолимой тленностью и, так как в борьбе против смерти жизнь немыслима, решает: жить совместно с ней.
Лишь благодаря этой уступчивости начинается вторая и на этот раз плодотворная фаза мыслей Толстого о смерти. Он больше "не противится" факту ее наличия. Он не рассчитывает прогнать ее софизмами или волевым усилием устранить ее из царства мыслей, – он пытается дать ей место в своем существовании, растворить ее в своем восприятии бытия, закалиться против неизбежного, "привыкнуть" к нему. Смерть непобедима, с этим он – жизненный великан – должен примириться, но не со страхом смерти: и вот он направляет все свои силы только на борьбу с этим страхом.
Как испанские трапписты еженощно ложились спать в гроб, чтобы умертвить всякий страх, Толстой внушает себе упорными ежедневными волевыми упражнениями самогипнотизирующее постоянное memente mori [209]209
Помни о смерти (лат.) – форма приветствия, которым обменивались при встрече монахи ордена траппистов, основанного в 1664 г. – Ред.
[Закрыть]; он принуждает себя постоянно и «со всей душевной силой» думать о смерти, не содрогаясь перед мыслью о ней. Каждую запись в дневнике он с этого времени начинает мистическими буквами Е. б. ж. («если буду жив»), каждый месяц на протяжении многих лет он заносит в дневник напоминание себе: «Я приближаюсь к смерти». Он привыкает смотреть ей в глаза. Привычка устраняет отчужденность, побеждает боязнь – и за тридцать лет пререканий со смертью из внешнего факта она становится внутренним, из врага чем-то вроде друга. Он приближает ее к себе, впитывает в себя, делает смерть частицей своего духовного бытия и вместе с тем былой страх – «равным нулю»; спокойно, даже охотно убеленный сединами и мудрый – смотрит он в глаза тому, что прежде было фантомом ужаса; «не нужно думать о ней, но нужно ее всегда видеть перед собой. Вся жизнь станет праздничнее и воистину плодотворнее и радостнее». Из необходимости родилась добродетель – Толстой (вечное спасение художника!) справился со своим страхом, сделав его объективным; он отстранил от себя смерть и страх перед смертью, вселив его в других, в свои творения. Таким образом, то, что вначале казалось уничтожительным, стало лишь углублением в жизнь и, совершенно неожиданно, великолепным подъемом его искусства; ибо с тех пор как он почувствовал, что ему предназначена смерть, он подружился с ней: благодаря его боязливому исследованию, тысячекратному предварительному умиранию в воображении, этот жизнеспособнейший человек становится самым проникновенным изобразителем смерти, главою всех мастеров, ваявших когда-либо смерть. Страх, вечно предупреждающий действительность, поспешно изучающий все возможности, окрыленный воображением, питаемый всеми нервами, всегда производительнее, чем тупое глухое здоровье, – каков же этот ужасный, панический, десятки лет бодрствующий первобытный страх, святой horror [210]210
Страх, боязнь (лат.).
[Закрыть] и stupor [211]211
Оцепенение, оглушенность (лат.).
[Закрыть] этого могущественного человека! Благодаря ему, Толстой знает все симптомы телесного умирания, каждую черту, каждый знак, который оставляет у гробовой доски резец на тленной плоти, знает трепет и ужас уходящей души; художник чувствует в себе могучее призвание, рожденное познанием. Смерть Ивана Ильича с его отвратительным криком «Не хочу!», жалкое умирание брата Левина, разнородные уходы из жизни в романах, «Три смерти» – все эти настороженные прислушивания над краем сознания принадлежат к крупнейшим психологическим достижениям Толстого; они были бы невозможны без этого катастрофического потрясения, без испытанного им ужаса глубочайших вскапываний, без этого нового настороженно-недоверчивого, сверхземного страха; чтобы описать эти сто смертей, Толстой должен был собственную смерть до тончайших ниточек мысли предчувствовать, перечувствовать и пережить. Как раз это, представляющееся бессмысленным, внезапное угасание пробуждает в художнике Толстом новый строй мыслей, ибо каждое чувство всегда предполагает сочувствование: лишь пережитый страх направил его творчество от поверхности, от созерцания и срисовывания действительности в глубины познания. Он научил его избыточному чувственному реализму Рубенса и прорывающемуся изнутри почти метафизическому рембрандтовскому просветлению среди трагических затмений. Только потому, что Толстой ярче, чем кто-либо, пережил смерть при жизни, он сумел показать ее нам с небывалой реальностью.
Каждый кризис – дар судьбы человеку-творцу: так в художественном творчестве Толстого и в его духовной позиции наконец создается повое и возвышенное равновесие. Контрасты проницают друг друга, ужасный конфликт жизненных наслаждений с их трагическим противником уступает место мудрому и гармоничному соглашению: медленно угасающая жизнь и близкая надвигающаяся смерть текут прекрасно и плодотворно, волна за волной, в героических сумерках его старческих лет. Совершенно в духе Спинозы покоится наконец умиротворенное чувство в чистом полете между страхом и надеждой последнего часа: "Не хорошо бояться смерти; не хорошо ее желать. Весы нужно так поставить, чтобы стрелка стояла ровно и ни одна чаша не перевешивала: это лучшие условия жизни".
Трагическое разногласие наконец улажено. Старец Толстой не питает больше ненависти к смерти и ждет ее терпеливо, он не избегает ее, он не борется с ней: он видит ее лишь в спокойных размышлениях, как художник мечтает о еще незримом, но уже существующем творении. И поэтому последний трепетно жданный час дарит ему полную милость: кончину великую, как его жизнь, творение его творений.
ХУДОЖНИК
Нет истинного наслаждения, кроме того, которое проистекает из творчества. Можно создавать карандаши, сапоги, хлеб и детей, это значит создавать людей; без творчества нет истинного наслаждения, нет такого, которое не соединялось бы со страхом, страданием, упреками совести и стыдом.
Письмо
Каждое художественное произведение только тогда достигает самой высокой степени, когда забываешь о его художественном созидании и ощущаешь его существование как несомненную реальность. У Толстого этот возвышенный обман доведен до совершенства. Никогда не осмеливаешься подумать, – столь ощутимо, правдиво они нас касаются, – что эти рассказы придуманы, что действующие лица вымышлены. Читая их, кажется, заглядываешь в открытое окно реального мира.
Если бы существовали только такие художники, как Толстой, можно было бы прийти к заключению, что искусство – нечто чрезвычайно простое, искренность – вещь сама собой понятная, творчество – не что иное, как точный пересказ действительности, копия, не требующая высшего умственного напряжения, и нужно для него, по его собственному изречению, "только одно отрицательное качество: не лгать". Ибо с потрясающей несомненностью, с наивной естественностью ландшафта, бушующее и богатое, стоит произведение перед нашими взорами, оно – сама природа, такая же правдивая, как та, другая. Все таинственные силы ярости, пылающего огня, фосфоресцирующих видений, смелого и часто вне-логичного вымысла – основные элементы творчества поэта – кажутся в толстовском эпосе излишними и отсутствующими: не опьяненный демон, а трезвый, ясномыслящий человек, представляется нам, без всякого напряжения, чисто объективным наблюдением, прилежным срисовыванием создал дубликат реальности.
Но и здесь совершенство художника обманывает благодарно наслаждающийся ум, ибо что может быть труднее передачи истины, что – кропотливее ясности? Документы свидетельствуют о том, что Толстой не обладал даром легкого творчества, он был одним из самых возвышенных, самых терпеливых, самых прилежных работников, и его грандиозные мировые фрески представляют собой художественную и трудную мозаику, составленную из бесконечного числа разноцветных кусочков, из миллиона крохотных отдельных наблюдений. За кажущейся легкой прямолинейностью скрывается упорнейшая ремесленная работа – не мечтателя, а медлительного, объективного, терпеливого мастера, который, как старинные немецкие живописцы, осторожно грунтовал холст, обдуманно измерял площадь, бережно намечал контуры и линии и затем накладывал краску за краской, прежде чем осмысленным распределением света и тени дать жизненное освещение своему эпическому сюжету. Семь раз переписывались две тысячи страниц громадного эпоса "Война и мир"; эскизы и заметки наполняли большие ящики. Каждая историческая мелочь, каждая смысловая деталь обоснована по подобранным документам; чтобы придать описанию Бородинской битвы вещественную точность, Толстой объезжает в течение двух дней с картон генерального штаба поле битвы, едет много верст по железной дороге, чтобы добыть у какого-нибудь оставшегося в живых участника войны ту или иную украшающую деталь. Он откапывает не только все книги, обыскивает не только все библиотеки, по обращается даже к дворянским семьям и в архивы за забытыми документами и частными письмами, чтобы найти в них зернышко истины. Так годами собираются маленькие шарики ртути десятки, сотни тысяч мелких наблюдений, до тех пор пока они не начинают постепенно сливаться в округленную, чистую, совершенную форму. И только когда закончена борьба за истину, начинаются поиски ясности. Как Бодлер, лирический художник, шлифует, поправляет и полирует каждую строку своего стихотворения, так с фанатизмом безупречного художника сколачивает, смазывает и смягчает Толстой свою прозу. Одна какая-нибудь выпирающая фраза, не совсем подходящее прилагательное, попавшееся среди десяти тысяч строк, – и он в ужасе вслед за отосланной корректурой телеграфирует метранпажу в Москву и требует остановить машину, чтобы изменить тональность не удовлетворившего его слога. Эта первая корректура опять поступает в реторту духа, еще раз расплавляется и снова вливается в форму, – нет, если для кого-нибудь искусство не было легким трудом, то это именно для него, чье искусство кажется нам самым естественным. На протяжении семи лет Толстой работает восемь, десять часов в день; неудивительно, что даже этот обладающий крепчайшими нервами муж после каждого из своих больших романов психически подавлен; желудок перестает переваривать пищу, разум слабеет, чувство неудовлетворенности овладевает им всегда после окончания какого-нибудь крупного произведения и выливается в форму тяжелой меланхолии; он вынужден искать спасения в абсолютном одиночестве, вдали от всякой культуры; он поселяется в избе, лечится кумысом и восстанавливает душевное равновесие. Именно этот творец гомеровского эпоса, этот естественнейший, кристальный, почти народно-примитивный рассказчик является в глубине души чрезвычайно неудовлетворенным мучеником-художником (бывают ли другие?). Но милость милостей – труд творчества остается незримым в бытии законченного произведения. Подобными безначальной, беспредельной природе представляются нам уже не ощутимые как произведения искусства прозаические творения Толстого, действенные в наше время и вместе с тем во все времена. Они никогда не носят характерного отпечатка известной эпохи; если некоторые из его рассказов без имени их творца попались бы кому-нибудь впервые в руки, никто бы не осмелился сказать, в каком десятилетии, даже столетии они написаны, настолько это повествование стоит вне времени. Народные легенды "Три старца" или "Много ли человеку земли нужно" могли быть сочинены во времена Руфи и Иова, за тысячелетие до изобретения книгопечатания или в эпоху появления письмен, борьба Ивана Ильича со смертью, "Поликушка" или "Холстомер" принадлежат столько же девятнадцатому, как и двадцатому и тридцатому векам, ибо не современная душа находит здесь свое соответствующее эпохе психическое выражение, как то имеет место у Стендаля, Руссо, Достоевского, а основное, вечное, не подверженное изменениям – дыхание, дух земли, первобытное чувствование, первобытное одиночество человека перед лицом вечности. И так же как в абсолютном мире человечества, так и в относительном мире творчества его не колеблющееся и равномерное мастерство уничтожает время. Толстой никогда не изучал повествовательного искусства и потому не мог его забыть, его природный гений не знает ни роста, ни увядания, ни прогресса, ни регресса. Описание ландшафта двадцатичетырехлетним Толстым в "Казаках" и это незабвенное сияющее пасхальное утро в "Воскресении", написанное через пятьдесят лет, отделенные одно от другого протяжением целой человеческой жизни, дышат одной и той же неувядаемой, непосредственной, ощущаемой всеми нервами свежестью восприятия природы, той же пластической, прощупываемой пальцами наглядностью изображения неорганического и органического мира. В искусстве Толстого нет ни изучения, ни забвения, ни подъема, ни упадка, ни перехода; в течение полувека оно дает равно совершенные ценности; как скалы остаются суровыми и прочными, неподвижными и неизменными в каждой линии перед лицом Бога, так и его произведения – перед лицом гибкого и изменчивого времени.
Но как раз благодаря этому ровному и потому неиндивидуализированному совершенству почти не чувствуется в его произведениях присутствие художника: не поэтом фантастического мира является здесь Толстой, а мастерским повествователем действительности. В самом деле, боишься иногда называть Толстого поэтом, ибо под этим торжественным словом невольно подразумеваешь явление другого порядка, нечто сверхчеловеческое, таинственную связь с мифом и магией. Толстого же ни в каком случае нельзя назвать человеком "высшей" формации, он совершенно земной, не сверхъестественный, – он сущность всего земного. Нигде он не переступает узкой межи понятного, ясного, наглядного, – но какое совершенство в этих рамках! Он не обладает никакими исключительными музическими или магическими качествами, кроме самых обыкновенных, но зато этими владеет с небывалой силой; его органы чувств работают интенсивнее, он видит, слышит, обоняет, осязает яснее, ярче, проникновеннее, сознательнее, чем нормальный человек, он помнит дольше и логичнее, он мыслит быстрее, комбинаторнее и точнее; коротко говоря, всякое человеческое качество выступает в исключительно совершенном аппарате его организма с во сто крат большей интенсивностью, чем в обыденной натуре. Но никогда Толстой не переходит границы нормального (и благодаря этому так редко применяют к нему столь естественное по отношению к Достоевскому определение "гений"), он не витает ни в сферических, ни в мистических, ни в пророческих мирах, в этих надземных царствах, из которых через щель или люк иногда подается пламенная весть мечтателям и визионерам; никогда упоминание Толстым демона или непостижимого не бывает одухотворенным. Отсюда его ясность, его доступность; эта прикованная к земле фантазия не может изобрести чего-либо, находящегося по ту сторону "реальной памяти", что-нибудь, чего бы не существовало в пределах обыденно-человеческого, поэтому его искусство всегда останется объективным, ясным, человечным, – искусством яркого дня, увеличенной действительностью.
Толстой никогда не творит в фантастическом духе, он не создает миров за пределами нашего мира, он передает лишь действительность: поэтому, когда он рассказывает, кажется, что это не художник говорит, а сами вещи. Люди и животные выступают из его сочинений точно из своих собственных теплых жилищ; чувствуешь, – это не охваченный страстью поэт преследует их, подгоняя и подзадоривая подобно Достоевскому, подхлестывающему свои образы лихорадочным бичом так, что они, разгоряченные, воющие, с криками бросаются на арену своих страстей. Когда рассказывает Толстой, его дыхания не слышно.
Он рассказывает так, как горцы поднимаются вверх: медленно, равномерно, ступень за ступенью, шаг за шагом, без прыжков, терпеливо, без устали, не ослабевая, и биение его сердца никогда не отражается в его голосе; здесь кроется причина нашего совершенного спокойствия, когда мы сопровождаем его. С Толстым не подымаешься молниеносно, как с Достоевским, на ошеломляющие выси восторга, не падаешь вдруг в головокружительные бездны пропасти, не уносишься на крыльях в сферы фантастических мечтаний: искусство Толстого заставляет бодрствовать, как познавание. Колеблешься, сомневаешься, не устаешь, подымаешься шаг за шагом, поддерживаемый его сильной рукой, по высоким скалам эпоса, и ступень за ступенью ширится горизонт, растет кругозор. Медленно развиваются события, лишь постепенно проясняются дали, но все совершается с неизменной первобытной уверенностью, с которой утренняя заря заставляет сверкать постепенно возникающий из глубины ландшафт. Толстой рассказывает просто, без подчеркиваний, как творцы эпоса прежних времен, рапсоды, псалмопевцы и летописцы рассказывали свои мифы, когда люди еще не познали нетерпения, природа не была отделена от своих творений, не было никакой градации, высокомерно отделяющей человека и зверя, растения и камни, и поэт самое незначительное и самое могучее награждал одинаковым благоговением и обожествлением. Ибо Толстой смотрит в перспективе универсума, потому совершенно антропоморфично, и хотя в моральном отношения он более чем кто-либо далек от эллинизма, как художник он чувствует совершенно пантеистически. Для него нет разницы между воющей, подыхающей в судорогах собакой и смертью украшенного орденами генерала или падением сломленного ветром, умирающего дерева. Прекрасное и безобразное, животное и растительное, чистое и нечистое, магическое и человеческое – на все он смотрит взглядом художника, но все же глубоко проникновенным взглядом, – мы прибегаем к игре слов, чтобы выразить это яснее, чтобы попытаться различить, уподобляет ли он человека природе или природу – человеку. Нет в области земного сферы, закрытой для него, его чувство переходит от розового тела младенца к дряблой коже загнанной клячи, от ситцевой кофты крестьянки к мундиру знатного полководца; в каждом теле, в каждой душе одинаково знающий, кровно связанный с ними, он с непостижимой уверенностью разбирается в самых тайных, в самых плотских ощущениях. Часто женщины испуганно спрашивали, как сумел этот человек описать их затаеннейшие, не пережитые им телесные ощущения – давящую тяжесть в груди от избытка молока у матерей или холодок, приятно пробегающий по впервые обнаженным для бала рукам молодой девушки. И если бы животные были наделены речью, они выразили бы свое удивление и спросили бы, благодаря какой пугающей интуиции он мог угадать мучительное наслаждение охотничьей собаки, чувствующей запах вальдшнепа, или инстинктивные мысли, выраженные в движениях породистой лошади у старта; нужно прочесть описание охоты в "Анне Карениной", – тончайшие ощущения, переданные с интуитивной точностью, превосходящей все эксперименты зоологов и энтомологов от Бюффона до Фабра. Точность Толстого в его наблюдениях не связана ни с какими градациями в отношении к порождениям земли: в его любви нет пристрастий. Наполеон для его неподкупного взора не в большей степени человек, чем последний из его солдат, и этот последний опять не важнее и не существеннее, чем собака, которая бежит за ним, или камень, которого она касается лапой. Все в кругу земного – человек и масса, растения и животные, мужчины и женщины, старики и дети, полководцы и мужики – вливается с кристально светлой равномерностью в его органы чувств, чтобы так же, в таком же порядке, вылиться. Это придает его искусству сходство с вечной равномерностью неподкупной природы и его эпосу – морской монотонный и все же великолепный ритм, всегда напоминающий Гомера.
Кто видит так много и так совершенно, не имеет нужды изобретать, кто наблюдает так вдумчиво, но имеет нужды выдумывать. Толстой целую жизнь воспринимал только органами чувств и виденное формировал в образы: мечта за пределами реального ему незнакома. Его искусство не спускается сверху, оно идет вглубь, оно, по превосходному выражению Нетцеля, искусство подземной разработки, а не возведения зданий. Абсолютно трезвый художник, в противоположность мечтателю Достоевскому, ему никогда не приходится переступать через порог реальности, чтобы добраться до исключительного; он не выволакивает событий из надземного царства фантазии, а погружает в обыкновенную землю, в обыкновенного человека свои смелые отважные штольни. И в области человеческого Толстой может себе разрешить заняться заблудшими и патологическими натурами или даже, как Шекспир и Достоевский, вызвать к жизни промежуточные ступени между Богом и зверем, Ариелем и Алешей, Калибаном [212]212
Ариель и Калибан – персонажи пьесы В. Шекспира «Буря». – Ред.
[Закрыть] и Карамазовым. Даже самый обыденный, самый обыкновенный крестьянский парень становится на достигнутой Толстым глубине загадкой: простой мужик, солдат, пьяница, собака, лошадь дают ему достаточный материал для проникновения в отдаленнейшие ущелья духовного царства; он удовлетворяется созданиями, совершенно незначительными в кругу нормального и повседневного, так сказать, самым дешевым человеческим материалом, – ему не нужны драгоценные хрупкие души: у этих посредственнейших субъектов он извлекает непостижимые душевные переживания, не идеализируя их, а лишь углубляя. Он пользуется только простым, остро режущим инструментом истиной и вонзает этот жесткий бурав с такой немилосердной силой в каждое событие, в каждый предмет, что изумленному взору открывается в простых явлениях мира глубочайший мир, духовные слои, доселе не добытые ни одним рудокопом. Он, словно ваятель, может лепить лишь из земли, камня и глины, а не подобно музыканту – из окрыленного воздуха; и это не случайность, что Толстой не сочинил ни одного стихотворения, – поэзия, естественно, должна быть антиподна такому архиреалисту. Его искусство говорит языком реальности, – это его границы, по ни один поэт не достиг такого совершенства выразительности, – в этом его мощь. Для Толстого красота и истина – синонимы.








