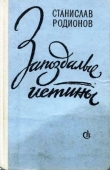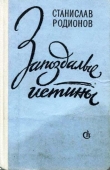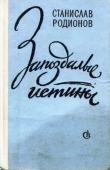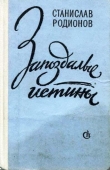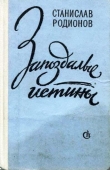Текст книги "Следствие ещё впереди"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Станислав Родионов
Следствие ещё впереди
1
В сорок восьмой комнате отдела геотектоники шесть одинаковых полированных столов стояли друг за другом так: три справа, три слева, приткнувшись торцами к стене. Между ними бежала красная дорожка и кончалась у громадного окна-витража. Весь подоконник был уставлен кактусами и какими-то растениями с грязнозелеными кожистыми листьями. Наши бабушки такие цветы выпалывали, но современная мода мягкую линию не любит.
На полу перед окном стояла высокая глиняная ваза, похожая на громадный пест. В ней торчало большое суховатое полено. Валентин Валентинович Померанцев, начальник группы, сидевший за первым столом справа, называл вазу с поленом натюрмортом. Геолог Суздальский, тоже сидевший за первым столом, но слева, именовал натюрморт корягой. Это всегда вызывало улыбку, потому что и сам Ростислав Борисович Суздальский походил на корягу, пролежавшую лет сто в пустыне: худой, угловатый, с тёмно-бурым ёжиком волос, с сердитыми чёрными глазами на жёлтом сухом лице, с короткой трубкой в заржавевших зубах, будто они у него были из ожелезненного кварца. На его плечах всегда лежал пепел и прах, словно он сидел не в научно-исследовательском институте, а где-нибудь под вулканом или на приёмном пункте макулатуры. Внешность Суздальского проигрывала и оттого, что рядом был Померанцев, тоже худой и тонкий, но изящный, свежий, подтянутый; пожалуй, даже затянутый в модный костюм и сахарно-белую поскрипывающую рубашку.
В стены вросли полки, не оставив ни сантиметра крашеной поверхности – только у потолка тянулась полуметровая прогалина. Толстые справочники распирали их. Друзы кварца и кристаллы пирита поблёскивали на солнце зайчиками, стоило только пройтись по кабинету. В этих полках была какая-то поэзия, которая всегда подсвечивает науку, изучающую далёкое прошлое или далёкое будущее. Группа Померанцева занималась движением земной коры – всякими разломами, сбросами, катаклизмами… Эти земные страсти случились давно, может быть ещё в то время, когда друзы кварца только что откристаллизовались и дымились в недрах влажными горячими боками.
Длинные полки казались поэтично однообразными, но у двух столов они приобретали самобытность.
По полкам Суздальского, со слов Померанцева, ходили черти. После них остался хорошо перемешанный салат из книг, журналов, образцов, каких-то коробок… Все потуги группы навести порядок ничего не дали. Особенно раздражала привычка Суздальского выбивать о нижнюю полку свою трубку.
Полки Веги Долининой были пышно завешаны репродукциями музейных картин. Она сидела за Померанцевым: стройная, загорелая, с пышными светлыми волосами, в импортной голубой кофточке, которая обтягивала её, как мягкая кольчуга.
Параллельно ей, за спиной Суздальского, помещался Эдик Горман: чёрный, длинный, в тёмных громадных очках, которые закрывали пол-лица. На его полке стояла гипсовая Нефертити. То ли по молодости, то ли от непонимания шедевра, но Эдик чаще смотрел на Вегины ноги, чем на Нефертити.
За спиной Эдика сидела Анна Семёновна Терёхина, полная сорокалетняя женщина, с мягким приятным лицом, в котором каждая черта куда-то закруглялась, словно лицо оплавилось. Ей пошла бы бледность, но бледных здесь не было – группа почти полгода проводила в поле.
За шестым столом никого не было. Он пусто поблёскивал, как прямоугольная прорубь, затянутая молодым ледком.
– Эдик, дайте большую скрепку, – прошипела Вега, потому что громко разговаривать Померанцев запрещал.
– Уж лучше скажите, чем шипеть, – буркнул Суздальский.
– Я не шиплю, – опять прошипела Вега.
Эдик вмиг отыскал громадную скрепку и вырос перед Долининой просмолённым телеграфным столбом. Попроси она и золотую скрепку – он достал бы.
В комнате становилось жарко. Майское солнце ломилось в окно, как в теплицу. Эдик жикнул молнией на своей длиннющей куртке и сразу стал шире. У Веги ещё больше набухли пунцовые губы, а румянец, не обращая внимания на остатки загара, делал, что хотел. К Померанцеву медленно подкрался солнечный лучик и уставился в правый глаз. Валентин Валентинович посмотрел на полку – это играл кристалл ортоклаза. Померанцев удивился, что непрозрачный кристалл пускает зайчики. Такое уж солнце: луна базальтовая, чёрная, пыльная, и то по ночам светится – сонеты пишут.
Он поднялся, переложил ортоклаз и громко сказал:
– А ведь весна, товарищи!
Померанцев сел на край стола, повернув к сотрудникам слегка вытянутое, с правильными чертами лицо, как его называл Суздальский – онегинское.
Все расслабленно заскрипели стульями. Только Суздальский не сразу оторвался от бумаг: работать по приказу он ещё мог, но отдых по команде не признавал.
– Скоро в поле, Валентин Валентинович, – сказал Эдик.
– Да, скоро и в поле, – согласился Померанцев и кивнул на вазу: – Того и гляди наш натюрморт зацветёт.
– Даже если перед ним встанет обнажённая Вега Долинина, он всё равно не шелохнётся, – всё-таки встрял Суздальский и достал из кармана трубку.
– Перед кем… встанет? – почему-то не понял Померанцев.
– Перед ним, перед корягой. Не перед Эдиком же, – хихикнул, Суздальский и стрельнул раза два глазами в Вегу и Эдика, как бы приглашая повеселиться вместе с ним.
Может, от неожиданности сравнения, или каждый представил Вегу у полена, но в комнате наступила пауза.
– Ростислав Борисович, – наконец сказала Вега, – вы бы подбирали другие сравнения.
– А что? Я же вам комплимент сказал! Я же не предложил совершить подобное Нюре Семёновне, учитывая, так сказать, комплекцию и конфигурацию.
– Сколько раз я просила не называть меня Нюрой, – безразлично заметила Терёхина.
– Ах, простите, Анна Семёновна, – расшаркался Суздальский. – Но вообще-то Анна и Нюра – одно и то же.
– Да, Ростислав Борисович, – заметил Померанцев, – как-то вы растоптали в корне начинавшийся разговор о весне и… о любви…
– О чём, о чём? – вдруг оживился Суздальский и встал, разминая ноги. – О любви?
Он изобразил на лице, да и фигурой изобразил, высшую степень напряжения, силясь что-то вспомнить.
– Нет, не знаю. А это насчёт чего? Не кибернетика?
Эдик Горман вскочил и подошёл ближе. Начиналась одна из тех дискуссий, которые вспыхивали сами по себе, как лесные пожары.
– А ведь вы ваньку валяете, Ростислав Борисович, – сказал Померанцев. – Я не поверю, чтобы человек прожил жизнь и ни разу не испытал любви.
– Во-первых, – запыхал трубкой Суздальский, – я ещё не прожил жизнь, мне всего сорок восемь, а вам, кстати, тоже тридцать шесть. Во-вторых, я действительно не испытывал так называемой любви. Скажу больше, я не встречал людей, которые бы её испытывали.
Суздальский обвёл всех ехидным вопрошающим взглядом, достал табак и стал набивать трубку, обильно посыпая стол.
– А как же, – не утерпел Эдик, – как же великие шедевры литературы, живописи и музыки, которые родились только благодаря любви?
– Это вы мне? – удивился Суздальский.
– Конечно вам, – опешил Эдик.
– Видите ли, мой юный друг, – философски начал Суздальский и высыпал весь табак из трубки на пол, – с чего вы взяли, что великие люди творили, так сказать, по поводу любви?
– Они это сами говорили!
– Вам?
– Не мне, а человечеству.
– Не верьте, о, не верьте! Они обманули человечество. Такой великий мужик, как Бальзак, творил всю жизнь шедевры, подчёркиваю – шедевры, из-за денег. Не думаю, что Диккенс написал вереницу томов из-за любви. Если бы Толстой написал «Войну и мир» из-за женщины, я перестал бы его уважать. А разве можно написать «Преступление и наказание» из-за любви?! Можно ли писать кровью и слезами, находясь в состоянии этой самой любви?!
– Значит, всё-таки вам знакомо это состояние? – спросила Вега, широко открыв голубые глаза в чёрных мохнатых ресницах. Она их красиво открывала, или они сами так распахивались.
– О боже, – простонал Суздальский, – да штампы этой любви ходят по литературе, песням, разговорам, как металлические полтинники по рукам.
– Подождите, подождите, – поморщился Померанцев, – вы, разумеется, согласны, что литература отражает жизнь. Так о чём же тогда все эти Ромео, Отелло и так далее? Из-за чего люди топятся, стреляются, травятся?
Суздальский пожевал губами, соснул пустую трубку и повернулся к Померанцеву, как беркут на сýку. На нём был широченный пиджак грязно-серого цвета с высоким разрезом сзади. Таких и в продаже не было. Забираясь в карманы брюк, Суздальский задирал пиджачные фалды до пояса и так стоял, покачиваясь.
– Я не встречал людей, – ответил он, – которые знали бы, что такое любовь, но я очень много встречал людей, которые свои сексуальные потребности называли любовью.
– Господи, прямо афоризм, – вздохнула Терёхина.
– Значит, есть только сексуальные потребности? – усмехнулся Померанцев.
– Только они, – с удовольствием подтвердил Суздальский.
– Старая, избитая теория, – заметил начальник группы, пожимая плечами.
– Но как же, – заволновалась Вега, – как же, Ростислав Борисович? Если бы только эти потребности, то почему замуж выходят не за любого? Живут друг с другом по тридцать лет, до самой смерти… Почему?
– Нет, милая Вегаша, общих решений, а есть решения частные. Женятся по склонности, чего я не отрицаю. Одной нравится чёрный, другой нравится сосед, а третья предпочитает офицера. А посмотрите на эти долгоживущие семьи. Это же смех сквозь зубы, а не любовь.
– Мои родители, Ростислав Борисович, прожили вместе сорок четыре года, – заметила Терёхина.
– И умерли в один день, – добавил Суздальский и повернулся к ней. Своё тело он вращал в пиджаке, как винт в гайке.
– Как? Они ещё не умерли, – обидчиво удивилась Анна Семёновна.
– Так в книгах кончают романтические истории про двух любящих существ. Кстати, моя мама прожила с папой восемнадцать лет, а потом взяла ребёнка, то есть меня, и сбежала с продавцом мясного магазина. Зато, скажу вам, мяса я поел в детстве всласть. До сих пор не люблю.
– И о родителях вы говорите без уважения, – сказала Терёхина, неодобрительно поглядывая на коллегу.
– И о любви, и о родителях, – подтвердил Суздальский.
– Вопрос проще, – весело сказал Померанцев, – любовь не каждому даётся. Это как талант. А кому она не дана, тому остаётся секс.
– Да, Валентин Валентинович, мне она не дана, уже хотя бы потому, что её нет. А вас, конечно, не обошла. Может, поделитесь?
У Померанцева чуть заметно дёрнулась нижняя губа – не то насмешливо, не то брезгливо. Он помолчал и медленно ответил:
– Любовь – чувство сокровенное. О нём на площадях не говорят. Да и не объяснишь. Особенно тому, кто не понимает.
– Как – сокровенное?! – чуть не взвизгнул Суздальский. – Как раз на площадях о любви больше всего и орут. Певицы взахлёб поют, поэты читают стихи, девицы по улице ходят да только о ней и говорят… Недавно слушаю радио. Одна пишет: я рассталась с Колей, но я его очень и очень люблю. Дорогая, мол, редакция, я стесняюсь рассказать ему о своих чувствах, он уехал на Север, так будьте добреньки, сообщите Коле, что его любит Тоня. Видели, какая стеснительная? Миллионы услышат её признание! А вы говорите – сокровенное…
– Ничего вы не поняли, – тихо и задумчиво сказала Вега.
– Как не понял? – насторожился Суздальский.
Вега смотрела в окно, в синее небо, и её взгляд стал нездешним, будто она поднялась туда, к солнцу.
– Тоне наплевать на миллионы. Ей ведь Коля нужен, она его стесняется. Это может понять только женское сердце, – заключила Долинина.
– Ну почему же, Вега? – заметил Померанцев.
– Или мужчина с тонкой натурой, – мило улыбнулась она начальнику группы.
Эдик кашлянул, показывая свою причастность к этим натурам. В спорах он всегда становился против оппонента, как-то особенно взлохмачивался – и стоял, помалкивая и поблёскивая на противника очками.
– Любовь, любовь! – запел Суздальский. – Всё это, как говаривали раньше, одни эмпиреи. А для секса созданы вечера, танцы, встречи, вечериночки, свиданьица, свадьбы, женитьбы, дворцы бракосочетаний, родильные дома и т. д. и т. п. Да с вашей любовью государство останется без рабсилы и без армии.
– А ведь я с вами согласен, – вдруг заявил Померанцев, и все удивлённо оживились. Даже Суздальский подозрительно вскинул голову.
– Я не отрицаю, что секс важен, – улыбаясь продолжал Валентин Валентинович. – Это основа. Как дом стоит на фундаменте, так и любовь покоится на нём. Но мы говорим о разных вещах. Вы говорите о сексе, а мы говорим о любви. О любви, к сожалению, вы сказать ничего не можете.
– Вы тоже, – довольно заключил Суздальский.
– Если и не можем, – очнулся от кладбищенского молчания Эдик, – то потому, что об этом хорошо сказала классическая литература.
– Ха-ха-ха! – широко открыл довольно-таки крупный рот Суздальский. – Вам уже добавить нечего? Я говорил, что литература не писала о любви – она писала о сексе.
– Ромео и Джульетта… – начала было Вега.
– Ромео-Ромео, – сказал Суздальский так, будто дважды крякнула утка. – Да ваши Ромео были мальчишки-девчонки, детские игрушки… Неужели об этом можно говорить серьёзно?
– Вот в «Гранатовом браслете» человек погибает из-за любви, – вставила Терёхина.
– Чепуха! Он стреляется из-за социального неравенства. Была бы она его круга, он бы плюнул и нашёл другую.
– В «Воскресенье» Нехлюдов в Сибирь пошёл! – уже крикнула Вега.
– Неужели за Катюшку? Батюшка мой, то есть матушка ты моя, да за идею, за совесть пошёл, а не за любовь. Тут и говорить не о чем.
Все посмотрели на Померанцева, а Суздальский опять начал уминать свою трубку, тоже поглядывая на Валентина Валентиновича прищуренными выжидательными глазками.
– Секс, – задумчиво начал Померанцев, – категория физическая, физиологическая, а любовь духовна, интеллектуальна. Любить может только человек большой культуры. Возьмите интеллигента и примитива. Если примитив, побуждаемый сексом, может изнасиловать, то человек культуры, побуждаемый тем же самым сексом, может опуститься на колени и поцеловать край платья…
Тут в комнате прозвучал странный звук, похожий на крик выпи на болоте. Все посмотрели на Суздальского, а Суздальский посмотрел на корягу в вазе, но та стояла как стояла.
– И вообще я скажу, что литература не писала, не пишет и не будет писать о сексе по очень простой причине, – продолжал Померанцев. – Это естественная человеческая потребность, как дыхание или питьё. Литература не описывает, как мы дышим. Но дыхание может стать предметом литературы, если человек вдруг его лишается. Точнее, человеческое страдание, связанное с отсутствием воздуха. Например, человек задыхается в шахте. Так и с сексом: о нём можно писать, когда есть любовь.
– В этом деле чистый голод вы исключаете, – усмехнулся Суздальский.
– Литературу интересует томление духа, а не томление плоти, – сказал Эдик и посмотрел на Суздальского, как воробей на червяка, которого собирался склевать.
– Где вычитали? – поинтересовался Суздальский.
– А хотя бы и вычитал, – вмешалась Терёхина, – не всё же своё говорить.
Анна Семёновна имела двоих детей и заступалась за молодых всегда и везде. Эдик Горман был её маленькой слабостью, потому что он отличался удивительной неуклюжестью, рассеянностью и инфантильностью. Суздальский считал, что именно поэтому Эдик проживёт счастливую жизнь – возле него всегда будет верная женщина-прислуга.
– Короче, – с улыбкой заключил Померанцев, вставая, – я за любовь. Я всегда любил женщин, люблю и буду любить. Аминь.
Все, кроме Суздальского, тепло посмотрели на Валентина Валентиновича. Было в его признании что-то обаятельное.
Терёхина неожиданно спросила Суздальского, не решаясь слово «секс» произнести вслух:
– А к Вере Симонян у вас тоже был этот… или любовь была? Известно, что вы за ней увивались.
Суздальский непроизвольно глянул на пустой стол.
– Что же вы молчите? – иронически спросила Вега.
Суздальский ещё больше потемнел, уставился на корягу и неожиданно замурлыкал песню, словно вокруг никого не было. Песня была старая, блатная – «Мой приятель, мой приятель финский нож». Домурлыкав, он кашлянул и объявил:
– Симонян – человек.
Все ждали ещё слов, но Суздальский опять запел – теперь про золотоискателя, который растерял свою жизнь меж скал и деревьев.
– Кстати, как Вера? – поинтересовался Померанцев.
– Ей лучше, – отозвалась Терёхина. – Но постельный режим. Родная сестра ходит каждый день. Что вы хотите – второй инфаркт.
– Такая молодая красивая женщина… Просто обидно, – возмутилась Вега.
– Да-а-а, – сочувственно поддержал Суздальский, – обидно: была бы некрасивая и немолодая, тогда уж чёрт с ней, пусть бы её инфаркты заедали.
– Ничего у вас, Ростислав Борисович, в душе нет, – заметила Терёхина, а Вега покраснела и от этого не стала хуже.
– Ну что ж, обед, – констатировал Померанцев.
– Значит, пойдём и покурим, – согласился Суздальский и вытащил спички.
Но тут открылась дверь, и в проёме встал председатель месткома.
– В шахматишки? – громко спросил Померанцев.
Председатель месткома стоял и молчал и не проходил.
– Вы что – к двери прилипли? – поинтересовалась Терёхина.
Но председатель месткома стоял и молчал, словно увидел в комнате то, чего никогда в жизни не видел. Замолчала и Терёхина, перестала шуршать чулками Вега, не скрипел курткой Эдик и не чмокал Суздальский. В комнате вдруг не по-весеннему стихло, как на сжатом поле.
– Что случилось? – не вынесла Вега.
Председатель месткома качнулся в дверном проёме мрачной огромной тенью, словно поколебленный Вегиным дыханием:
– Симонян умерла…
2
Рябинин смотрелся в полированный стол и думал, что он смахивает на дирижёра без палочки: лохматый, да не просто лохматый, а вздыбленный, словно над ним висел невидимый магнит; в массивных очках, под которыми было не разобрать – курносинка ли есть, переносица ли под очками проседает; в белом пиджаке, очень походившем на официантскую куртку; в жёлто-лунной рубашке с красноватым подсветом – такой бывает луна осенью в прохладные ночи; при длиннющем синтетическом галстуке, похожем на женский капроновый чулок с отрезанной ступнёй… Рябинин смотрелся в стол и думал, что скорее похож на дурака, потому что у каждого должен быть свой стиль и нечего рядиться буквально в чужие одёжки. Ему шёл плоховато выглаженный костюм за восемьдесят рублей. Этот был за сто восемьдесят, и Рябинин чувствовал себя неважно, будто ему предстоял выход на эстраду.
И всё из-за Петельникова. На последнем происшествии инспектор спросил дворничиху, кому она отдала найденную гильзу. «Вашему секретарю», – сказала та и кивнула на Рябинина. Поэтому и появился этот сияющий костюм.
Рябинин нехотя взял пачку бумаг под названием «Расчётные ведомости», посмотрел на них, как на прошлогодние окурки, и швырнул в кипу, к другим пачкам. И повернулся к окну, за которым всё синело, зеленело и пламенело.
На бетон покрытий и асфальт панелей, на железо крыш и гранит набережных, на кирпич домов и мрамор плит пришла весна. Всё, что могло расти, росло. Но и то, что не умело расти и могло лежать не шевелясь тысячи или миллионы лет, почувствовало весну. Влажно дымился асфальт, слюдой и кварцем заблестел гранит, свежей краской заалели крыши, и уж совсем ослепло от солнца стекло окон и витрин.
В отличие от сентиментально сиявшего гранита, настроение у Рябинина было тусклым. И дело не в пижонском костюме.
Следствие давно стало научной деятельностью, сохранив оперативную специфику. Уже нельзя было работать, не обладая знаниями века. Как назначить экспертизу о принадлежности крови, не зная биохимии?… Как спросить о падении человеческого тела, не зная физики?… Как поставить вопрос о полёте пули, не зная баллистики?… Как узнать о состоянии вещества, не подозревая о рентгеноскопии?… Как вести дело о загрязнении реки, не слышав об экологии?… Как обойтись без медицины, без которой не обходится почти ни одно дело, – даже заключение эксперта не поймёшь?… Как допрашивать человека без знания психологии, психиатрии и всего того, что нужно знать о человеке – от этики до педагогики?… И как вести дела по некачественному строительству, транспортным происшествиям, обмеру в торговле или выпуску нестандартной продукции, не зная этих отраслей?… И как разобраться в причинах преступности без социологии?…
Но это ещё не исследовательская работа. Она начиналась сразу после возбуждения уголовного дела, когда следователь принимался добывать факты-капли, как выжимать воду из сухого песка. Он строил на них теорию, сцепив собранные сведения в аксиому, из которой ничего не вытащить и иначе не истолковать. Кирпичиками этой аксиомы были те же факты, юридически именуемые доказательствами, а цементом становились логика, психология, интуиция, знания, жизненный опыт; цементировала – личность следователя. И не одно бы уголовное дело потянуло на кандидатскую диссертацию по психологии или социологии.
Но для этой следственно-научной деятельности всё-таки требовалось добротное сырьё – требовались дела посложней. Рябинин мысленно отбежал на два месяца назад. Было дело, как пьяный муж чуть не застрелил жену. Потом было дело, как жена чуть не застрелила пьяного мужа. А вот теперь вёл дело о бесхозяйственности – сдаче в утиль дорожного катка, который сейчас стоял в качестве вещественного доказательства под окном прокуратуры. Этот стальной увалень не чувствовал весны, и, может, правильно сделал мастер, отправив его в утиль, – всё нечувствительное должно сдаваться в утиль.
Он ещё смотрел на здоровые колёса-прессы, когда их заслонил жёлтый милицейский «газик», который откуда-то выскочил и замер, не выключая мотора. Из машины вылез Петельников и направился к дверям прокуратуры.
Рябинин в общем-то был кабинетным человеком, и всякие выезды на убийства, пожары и аварии давались ему нелегко. Поэтому сразу понеслась тоскливая мысль, и все другие мысли рассыпались, давая проход этой, тоскливой, – на происшествие.
– На происшествие, – сказал Петельников, ступив в кабинет своим огромным шагом. – Привет, Сергей Георгиевич!
И всё-таки Рябинин улыбнулся. Он радовался Петельникову, хотя его появление приносило хлопоты и неприятности. Вадим жёстко пожал руку и виртуозно закурил сигарету из какой-то очень красивой пачки. Одежда на нём сидела модно и слегка небрежно, как-то между прочим, будто он все эти костюмы и галстуки презирал, как гоголевский запорожец новые шаровары.
– Что случилось? – спросил он Петельникова и вытащил следственный портфель, который у него всегда был наготове. Что бы ни случилось, а ехать придётся, – уголовный розыск зря следователя не потревожит.
– Труп женщины в квартире.
– Убийство?
– Не знаю. Только что позвонили из жилконторы.
– Ты бы хоть весны постеснялся, – буркнул Рябинин.
– К сожалению, Сергей Георгиевич, преступность не имеет сезонных колебаний, – улыбнулся инспектор.
– Ещё как имеет, – опять пробурчал Рябинин.
Хотелось поговорить, не виделись неделю, но они молчали – впереди напряжённая нервная работа. Уже настраивали себя на особое, им только известное состояние. Рябинин смотрел из окна машины на весенний город и думал, что вот всё залито солнцем, по улицам ходят люди, девушки симпатичные ходят и никто не подозревает, что где-то в квартире лежит труп, с которым ему придётся сидеть в такой день. А если «глухое» убийство, то и ночь просидишь, да не одну. Такая у него работа. Где-то живёт человек и пользуется услугами десятков людей, от парикмахера до телевизионного мастера, – всех, кроме следователя. Но случается с этим человеком страшное. Спешат врачи, тщетно пытаясь помочь. И тогда вызывают того, кто будет им заниматься последний, – следователя прокуратуры. Но вызывают уже не к человеку – к трупу.