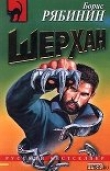Текст книги "Расследование мотива"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
19
Следователь – работник особого рода. Он представитель власти и по закону может делать то, что другому не позволено. Следователь может задержать человека, обыскать его, арестовать, перерыть квартиру, предъявить обвинение. В дождь и ночь несётся на происшествие: труп, найденный где-нибудь в яме или подвале, взрыв трубы или пожар, крушение поезда или обвал дома; кража в квартире или ограбление универмага, – и сидит, ползает, ночами пишет протокол осмотра при свете фонарика или допрашивает днями, оставаясь спокойным и бесстрастным, как гипсовый бюст. И нет у этой специфической работы ни нормы, ни границы. Стоит у него опечатанный, вросший в пол металлический сейф, будто отлитый из многопудовых гирь. Там лежат уголовные дела, инструкции и приказы не для любого взгляда, и оружие лежит в кобуре, матовой от пыли…
Следователь – лицо особое. Но он и лицо обыкновенное, потому что он работник государственного учреждения и к нему идут граждане за разъяснением и справкой. Он уже лицо не особое, не оперативный работник, а служащий – чисто выбритый, в свежей рубашке, вежливый, как стюардесса. Какое дело гражданину Симыкину, пришедшему поговорить со следователем о сыне-лоботрясе, до того, что этот самый следователь не спал ночь, шастая в болотных сапогах по загородной хляби в поисках ножа пробежавшего здесь преступника? Какое дело гражданину Конькову, который решил узнать, как ему выселить пьющего гражданина Шустрикова из квартиры, что следователь только что из морга, со вскрытия, и ему не по себе от трупного запаха? Что кончается срок следствия и нет у следователя ни минуты в запасе? Что попало ему от прокурора, не является свидетель, не признаётся обвиняемый, не найти хороших экспертов, жалуется потерпевший, и вдруг стала болеть грудь и начало отдавать в левую руку, потому что сидишь на допросах внешне бесстрастный, как истукан, а внутри всё дрожит…
Поэтому Рябинин легко снимал забродившее недовольство, когда в дверь просовывалась фигура и вопросительно застывала в проёме. Конечно, можно было отправлять посетителей на приём к прокурорам – Гаранину или его помощникам, как делали следователи, но Рябинин любил поговорить с этими всклокоченными людьми.
Два старика вошли в кабинет просто и свободно, как входят работники милиции или эксперты. Один – высокий и грузный, а второй – сухонький, небольшой. Оба уже были в осенних пальто и кепках. Они подошли к столу – там идти-то четыре шага – дружно сняли кепки и вдруг оказались чем-то очень похожими, может быть белыми блестящими волосами, как они блестят у очень седых стариков.
– Здравствуйте, Сергей Георгиевич, – торжественно сказал высокий трубным голосом и протянул руку.
Уже узнали имя, не просто фамилию, а имя-отчество – значит, в чём-то заинтересованы.
– Здравствуйте, Сергей Георгиевич, – повторил маленький таким же торжественным голосом, каким говорят на сцене артисты самодеятельности, но голосок у него был чуть тоньше, чем у большого.
Рябинин пожал им руки и предложил сесть. Они сели незамедлительно, будто иначе и быть не могло, будто следователь ждал их, отложив всё на свете. Сев и потеряв разницу в росте, старики стали совсем как братья, хотя в лицах вроде бы ничего общего не было.
– Сергей Георгиевич, – начал большой, которого Рябинин почему-то счёл за старшего, – мы члены комиссии партконтроля горкома, комиссия содействия, народного контроля и так далее…
– Общественники, короче, – уточнил маленький.
Они запустили руки под пальто и достали красные книжечки, которые Рябинин не стал и смотреть, – он видел, кто перед ним.
– Чем вы интересуетесь? – сухо спросил следователь, потому что боялся, что эти старички, у которых времени было не меньше, чем энергии, начнут соваться не в своё дело и придётся их вежливо выпроваживать.
– А чего вы на нас смотрите, как на ревизоров? – тонко хихикнул маленький.
– Жду, – ответил Рябинин, не меняя выражения лица и застывшей, сцементированной позы.
– Мы пришли поговорить о деле Ватунского, – объявил высокий, поглаживая крупный красный лоб, убегавший до темени.
– О Ватунском говорить я не буду, – резко сказал Рябинин, – следствие ещё не закончено.
Так он и думал. Официальные лица следователя никогда ни о чём не просили: они звонили прямо прокурору. А вот общественников подослать могли – комбинат или ещё кто.
– Самойлов, да расскажи ты ему вразумительно, – сказал маленький старшему, восковато светясь морщинистым прозрачным лицом.
– Вы коммунист? – оглушительно откашлявшись, спросил крупный старик, бурея складками лица.
– Я следователь, – звонко ответил Рябинин.
Они распахнули пальто и пододвинулись ближе к столу, выложив на него большие, по-рабочему расплющенные ладони. Действовали старики синхронно, как солдаты в строю.
– Мы хотим говорить по-партийному, – начал один. – Мне вот шестьдесят восемь, а ему, Кузьмичу, семьдесят три. Персональные пенсионеры мы и никого не боимся, кроме партийной совести. Так, что ли? – вдруг спросил он маленького Кузьмича.
Кузьмич довольно кивнул, и Рябинин подумал, что ещё неизвестно, кто из них главный. Подумал мимолётно, внутренне не ослабевая.
– Ну вот, сынок, – продолжал Самойлов, всё поглядывая на Кузьмича: так ли говорит, – пошёл тут слушок, что жмут сильно на следователя в сторону, значит, прекращения дела. Так сказать, ввиду особой ценности инженера…
– Инженер, конечно, видный, мы не спорим, – перебил Кузьмич.
– Известно, фигура, но непорядок это, давить на следователя.
Рябинин улыбнулся светлым старикам.
– Так вот скажи нам по-партийному, – строго спросил Самойлов, – давят на тебя и сколь сильно?
Между начальником и подчинённым есть безмолвные отношения, в основе которых лежит элементарная порядочность, как и в отношениях любых двух людей. Например, не говорить друг о друге третьему лицу. И этика есть – не делать ничего в ущерб своему учреждению. Но старики спрашивали не об этике. Они требовали ответить о более важном – не о форме, к чему всё-таки относилась этика, а о существе. Не было у них юридического права ни спрашивать следователя, ни проверять его. Но они спрашивали не от имени права, а от имени совести.
– Давят, – твёрдо ответил Рябинин, – не очень сильно, не очень прямо, а так, сбоку.
– Сергей Георгиевич, – затрубил Самойлов, – скажи прямо: нужна помощь?
– А что вы можете сделать? – усомнился Рябинин.
– Мы-то? – удивился Кузьмич наивности следователя. – Сперва пойдём к первому секретарю райкома Кленовскому…
– Думаете, он заинтересован, чтобы судили главного инженера? – теперь удивился их наивности Рябинин.
– Пойдём в обком партии, – добавил Самойлов.
– Я не уверен, что там обрадуются такой перспективе, – возразил Рябинин. – Комбинат большой, гордость области…
– Видишь, Самойлов, что я тебе говорил! – вдруг ринулся Кузьмич на своего товарища.
– А что ты мне говорил?
– Прокуратура не должна зависеть от местных партийных органов, – отштамповал Кузьмич.
– Побойся бога! – сразу набросился на него Самойлов. – Местные партийные органы руководят всею жизнью на местах. А прокуратура – на тебе, отдельно!
– Вот бестолочь-то! – сочувственно сказал Кузьмич, и его лицо потеряло желтоватую прозрачность, слегка порозовев. – Прокуратура должна быть независима от местных влияний.
– Что ж, по-твоему, прокуратура сама по себе?
– Это не по-моему, а по Ленину, башка!
– Сам башка! – беззлобно басанул Самойлов, но налился густой вишней. – А как же принцип партийного руководства?
– Я разве против? Партийная организация прокуратуры пусть имеет вышестоящую не на месте, а повыше. Район – в области, область – в столице республики… И всё тогда будет на месте.
Они спорили, забыв про следователя. Спорили, видимо, всю жизнь, потому что им было до всего дело. Рябинин внимательно слушал и представлял, как они схватываются по вечерам, стоит им сойтись на страх жёнам, да если бутылочку возьмут, тогда до утра и не растащить их, как два мотка сцепившейся проволоки. И вдруг Рябинин почувствовал зависть к этим серебристым старикам. Сможет ли он в семьдесят предлагать свою помощь людям, интересоваться всем на свете, спорить и быть ясным и твёрдым, ничего не расплескав и не растеряв на следственных ухабах?
– Отвлекаем же, – сказал Самойлов, разом обрывая спор.
– Вот что, мил человек, – повернулся Кузьмич к следователю, – если надо, мы в Москву съездим. Съездим, Самойлов?
– Съездим, – сразу согласился тот, будто ему предлагали пройтись в кино.
– Как в Москву? – удивился Рябинин.
– Очень просто. Сядем и поедем. Принимают нас там без всякого, быстро и с почётом… Мы же старые заслуженные члены партии, сынок. Рассказывать – дня не хватит. Если надо, съездим и доложим.
– Пока не надо, – подумав, сказал Рябинин.
У него не было формальных оснований для жалоб. Дело не отбирали, официальных указаний прекратить не давали. Но главное: сам-то он должен что-то значить. Можно ли прибегать к помощи других, не сделав ничего самому? В конце, концов, закон даёт ему право подать рапорт вышестоящему прокурору.
– Гляди, сынок, тебе видней. Ну что, Самойлов, пошли?
– А пошли, Кузьмич. Значит, следователя мы посмотрели – парень надёжный.
Тут до Рябинина дошло, что они его посмотрели, просмотрели насквозь своими неяркими прищуренными глазами, как просветили солнцем тонкий шёлк.
– Нужна будет помощь, Сергей Георгиевич, – поднялся Кузьмич с блестящим от тепла лицом, – приходи в райком, спроси Самойлова и Кузьмича, нас там все знают.
Они протянули руки – в них осталась ещё сила, та сила, которая остаётся у рабочего человека на всю жизнь. Неужели для силы и долголетия не нужны всякие зарядки, витамины, моржевания, бег трусцой, Сочи и стояние на голове? Неужели и нужно-то всего – иметь молодую душу и ясную цель?
Старики ушли, и Рябинин по-дурацки улыбнулся от тихой радости, побежавшей по жилам, будто он выпил громадный бокал шампанского.
20
Через три дня, в пятницу, когда Рябинин читал полученное из милиции дело о смерти гражданина Старушенцева в ванной при невыясненных обстоятельствах, в кабинет вбежала Маша Гвоздикина, которая всегда бегала, – ей было девятнадцать.
– К Семёну Семенычу, срочно, – оттелеграфировала она, улыбнувшись, и прищурила фиолетовые длинные глаза.
– Какой он?
– Кто его знает! – Она беззаботно побежала впереди Рябинина. Гаранину было за сорок, и он её не интересовал.
Гаранину было за сорок, но выглядел он за пятьдесят. Возможно, старили глубокие глазные впадины и лысый желтоватый лоб в полголовы, скользкий, как деревянные перила.
Он сидел за столом, ничего не говорил и вроде бы никуда не смотрел – бегал глазами. Рябинина его взгляд только коснулся.
– Вы меня вызывали? – неуверенно спросил следователь.
Может быть, Маша Гвоздикина напутала?
– Да, конечно. Вызывал.
Он видел Рябинина, но видел и что-то другое. Он был здесь, но его здесь уже не было. Он метался, метался сидя, и это удивило Рябинина – хоть бы бегал по кабинету!
– Слушаю вас, Семён Семёнович.
– Дожили, – вздохнул Гаранин и вдруг вскочил, как катапультировался. – Идёмте, нас вызывает Кленовский.
Райком партии находился в этом же здании, на третьем этаже.
Первого секретаря Алексея Фёдоровича Кленовского Рябинин видел один раз – давал справку по какому-то делу. Невысокий, в очках, с бородкой-шкиперкой, первый секретарь походил на учёного-физика. Говорили, что ему не раз рекомендовали сбрить бородку, но он её носил и считался лучшим секретарём в городе, да и район у него был самый большой и промышленный. Со следователем он тогда говорил мало, а больше слушал или задавал вопросы. У Рябинина осталось от него впечатление… было у него впечатление, но сейчас всё могло повернуться иначе.
В юности Рябинину нравилась пословица: «По одёжке встречают – по уму провожают». Потом он заметил, что если по одёжке встречали, то по ней и провожали. С годами Рябинину стала нравиться первая половина пословицы…
Вызвав свидетеля, следователь видит его впервые. В кабинет входит совершенно незнакомый человек, ни разу не виденный и которого больше никогда не увидишь. Сядет он перед столом в своей «одёжке», паспорт предъявит, поговоришь с ним минут десять – и уже надо знать человека, чтобы на ходу выбрать тактику допроса. Эта самая «одёжка» стала для Рябинина целым комплексом. Завязанный галстук, цвет пиджака, стрижка, как человек подошёл к стулу, как сел на него, куда дел руки и что делают пальцы, как сказал слово и какое слово, и почему это слово, а не другое, почему на этом слове дрогнули губы, а на том слове потемнели глаза… Всё это сливалось в образ, вместе с интуицией, вместе с чем-то ещё, чего, вероятно, не знала ещё наука, да и интуицию-то наука не очень объясняла. Поэтому Рябинин злился, когда читал у писателей фразы типа: «Ничто так не говорит о человеке, как его глаза». Всё говорит о человеке – от левого ботинка до правого глаза. Или – «вопрос стоял в его взгляде». На лбу чаще стоит вопрос, скорее, лежит, в плечах чаще, чем во взгляде. Всё говорит о человеке. Человек говорит, даже когда он молчит, и ещё неизвестно, когда громче.
Рябинин шёл за прокурором, удивляясь своим мыслям. Кленовского он видел один раз минут пятнадцать, и мнение составилось, сложилось. Для свидетеля этого бы хватило, но о первом секретаре райкома мнение должно быть прочным, должно свинтиться, как механизм из деталей.
Сейчас это всё не имело значения, – всё могло повернуться иначе.
Строго-вежливая женщина молча показала им на высокую дверь, ничем не обитую. Гаранин приостановился и повернул лицо к следователю – оно вдруг стало каким-то рыхлым, набухшим, как потемневший лёд, который снизу разъедает весенняя вода.
– Сергей Георгиевич, вы уж там не очень… умничайте, а?
– Хорошо, – согласился Рябинин и сразу почувствовал, что он тоже волнуется сильно и незаметно.
Кабинет Кленовского казался пустоватым, потому что не было традиционного Т-образного построения, да и вообще ничего не было, кроме письменного стола, столика с телефонами и книжного стеллажа. Полки длинные, в две стены, и не казённые, а какие-то домашние, уютные, с вазами и цветами, с яркими книжными рядами, среди которых сразу бросались в глаза сочинения Ленина – издания всех годов. От двери через весь кабинет по натёртому до шлифованного сияния светлому полу вела к столу ворсистая ковровая дорожка. Свернуть с неё было невозможно – поскользнёшься.
Первый секретарь молча ждал, пока они подойдут. Стол оказался шире, чем виделся издали, поэтому Кленовский поднялся, вышел из-за него и крепко пожал им руки. Рябинин мгновенно оценил и сам жест, и как он был сделан, но тут же задвинул свои наблюдения, как случайно выдернутую с полки книгу.
– У нас минут двадцать. – Кленовский посмотрел на часы. – Пожалуйста, расскажите коротко, в чём там дело. Вы, конечно, понимаете, что судьба такого специалиста и организатора, как Ватунский, меня интересует.
Рябинин собрался говорить, – дело всегда докладывал следователь, который знает его лучше всех. Он вежливо помолчал, и этого хватило Гаранину, чтобы начать докладывать самому.
Тогда Рябинин стал рассматривать Кленовского…
Наверное, зря писатели вырисовывают лицо человека, показывая лоб, губы, волосы, да и брови с ресницами выпишут, как сфотографируют. Как говорит о характере длина носа, цвет глаз или родинка на щеке? Другое дело, когда из этих носов, губ и глаз складывалось удивительное и странное явление Вселенной – человеческое лицо, как дивный цветок из мелких и неказистых молекул. Но как молекулы не могли бы стать цветком без солнца, так и не получилось бы человеческого лица без разума – только он мог светиться в губах-глазах-бровях. Рябинину казалось, что писать надо только о выражении лица, об этой печати разума и характера на нём.
Он внимательно следил за Кленовским, за его суховатым лицом и бородкой, под которой бежал по ослепительно-белой сорочке модный галстук. Секретарь слушал Гаранина и наверняка думал сейчас только об этом деле, нацелившись на прокурора большими очками в громоздкой оправе.
– Вот такие обстоятельства, Алексей Фёдорович, – кончил Гаранин, повозив по лицу платком, и добавил: – Мы считаем, что дело подлежит прекращению.
Секретарь молча повернулся к Рябинину, и тот сразу почувствовал его взгляд на вес, ощутил на себе, словно к нему подключили какой-то генератор, и быстро подумал, что прокурор потел не зря. И ещё подумал, что из Кленовского вышел бы хороший следователь.
– А вы что скажете?
– Дело подлежит направлению в суд, – промямлил следователь под взглядом Кленовского. Как большинство впечатлительных людей, Рябинин в новой обстановке слегка терялся.
Гаранин быстро посмотрел на следователя и тут же повернул лицо к Кленовскому. Получалось, что они оба волновались. Чего боялся прокурор – Рябинин знал. Но чего боялся он сам, Рябинин?… И чего может бояться поработавший следователь, на которого жаловались прокурору и правительству, которому угрожали чем только могли, на которого, бывало, бросались в кабинете и нападали на улице, о котором писали фельетоны, увольняли за это с работы, извинялись и восстанавливали? Не мог он за себя бояться. Не за себя боялся Рябинин, а себя. Он всё мог перенести, перетерпеть мог, если уж нельзя было крикнуть. Но когда пинали истину, как консервную банку, когда обращались с законом, как с купленными штанами, – у Рябинина сердце тяжелело, сжималось, как кулак для удара.
– По-вашему, Ватунский преступник? – спросил Кленовский Рябинина.
– Какой же он преступник? – ответил Гаранин, но Кленовский смотрел на следователя своим щелочным взглядом, который, как и солнечный свет, имел незаметное давление.
– Ватунский преступник и по-моему, и по закону.
Кленовский повернул голову к прокурору, потребовав взглядом возразить следователю.
– Он не опасен для общества, его преступление случайно, оступился человек, погорячился, нет смысла его судить, – обратился теперь Гаранин к следователю.
И тут Рябинин увидел, что Кленовский чуть-чуть согласно кивнул. Прокурор даже не заметил кивка, но ему он был не нужен, как птицам при перелётах не нужен компас, – есть у них какой-то орган внутри, который ведёт туда, куда надо.
Рябинин повернул голову к окну. За окном стояли тополя. Начали сдавать и они. Холодные ветры дотрепали их. Листьев осталось мало, да и те болтались по ветру грязно-жёлтыми клочками бумаги. Ветки стали прутьями, и тополя просвечивались. Сдали тополя – холод струился по чёрным веткам день-деньской. А потом снега пойдут – белые и косые. Деревья совсем застынут и будут стоять обледенелые и тихие, как корявые столбы. И всё. Но не всё – придёт весна, и тополиные ветки задрожат от тепла и сока… А весна обязательно придёт – после стужи всегда бывают вёсны…
– Где сказано, что нет смысла судить хорошего человека? – разозлился Рябинин.
– Это же вытекает из духа нашего закона! – тоже повысил голос прокурор.
– В этом деле вы плюёте на дух закона!
– Как это плюю? Попрошу, Сергей Георгиевич, выбирать выражения. Какой смысл: человека, который никогда не совершал и никогда больше не совершит преступления, специалиста, судить, посадить и отправить в колонию копать землю или валить лес? Какой?
– Действительно, какой? – спросил Кленовский и вдруг улыбнулся следователю.
– Такой, – буркнул Рябинин, споткнувшись об эту улыбку, но тут же добавил: – Зачем искать смысл, когда закон прямо предписывает?
– Как? – удивился первый секретарь. – Вы, следователь, отказываетесь от поиска смысла?
– Но ведь закон же… – ошарашенно промямлил Рябинин, поражённый таким простым и очевидным выводом из всех его рассуждений.
– Лично я, – сказал Кленовский, – не могу применить ни одного закона, пока не пойму его смысла. А вы?
– Я тоже, Алексей Фёдорович, – быстро согласился прокурор.
– Ну а вы? – ещё раз спросил Кленовский.
Рябинин растерялся – с ним это бывало, когда неожиданно пропадала убеждённость. Две пары глаз внимательно смотрели на него: одни из глубины, из впадин, неодобрительно, и другие из-под очков, бесстрастно и требовательно.
Уверенность Рябинина дрогнула: он был человеком сомнений, а любое сомнение ломало его логику. И может быть, от этих сухих взглядов, или уж тут сердце пришло на помощь разуму, Рябинин вдруг удивился: как же так?
– Семён Семёнович, – неожиданно спросил он Гаранина, – чем же так хорош Ватунский, что его не стоит отдавать под суд?
– Я уже вам говорил, – слегка раздражаясь, ответил прокурор, – прекрасный специалист, положительный человек, случайность преступления…
– А вы с этим не согласны? – поинтересовался Кленовский у Рябинина.
– Согласен, очень даже согласен…
– Вы просто догматик, – перебил его Гаранин. – Вы должны подходить к явлениям всесторонне, учитывая политическую ситуацию.
Рябинин понял, что вот сейчас он, Рябинин, заговорит, потому что горячая волна крови и злости пробежала по спине, груди, бежала к лицу и мозгу.
– Семён Семёнович! – сказал следователь, и Кленовский лёгким движением головы выразил особое внимание, видимо уловив в его голосе иной тембр. – Семён Семёнович! – повторил Рябинин, когда волна достигла головы. – А если бы положительный слесарь, не главный инженер, вот так же убил свою жену – вы бы отдали его под суд?
– Что вы приводите нежизненный пример с каким-то абстрактным положительным слесарем? – пожал плечами прокурор.
– Я и жизненный приведу. Недавно вы отдали под суд шофёра самосвала Бочарова. Юрков вёл расследование. Бочаров сбил женщину. Раньше он никого не давил, а вот сел за руль с температурой, больной. Согласитесь, что тут больше случайности, – поздно затормозил.
– Процент дорожных происшествий… – начал Гаранин, но следователь его перебил:
– Подождите о процентах. Значит, преступление Бочарова тоже случайно. Он прекрасный специалист, лучший водитель автопарка. В моральном отношении непогрешим, общественник, прекрасные характеристики, да ещё двое детей на руках. Разница между ними только одна: Бочаров – шофёр, а Ватунский – главный инженер комбината. Так почему же вы одного отдаёте под суд, а второго не хотите?
– Кто больше принесёт пользы – шофёр, которых сотнями готовят на курсах, или специалист, уникальный специалист?
– И что отсюда вытекает, Семён Семёнович?
– Кто нужнее государству? Кого государство больше ценит? Не забывайте, у нас социализм, и пока кто больше даёт государству, тот больше и получает.
– Ну и что? – спросил Рябинин, хотя он уже знал – что.
– Вспомните, как Ленин относился к учёным. В голодное время для них выделялись пайки. А вы бы их уравняли с дворниками, вы бы уравняли. Кстати, учёных, крупных специалистов всегда и везде ценили.
– Выходит, – звонко спросил Рябинин, – что нужно два закона в государстве? Два уголовных кодекса? Один для ценных работников и другой – для не очень? Один для шофёров и другой для директоров?
– Никаких других законов не нужно, но мы должны это учитывать в своей практической деятельности. Закон нас обязывает смотреть, какая перед нами личность, как она характеризуется, – спокойно возразил Гаранин и промокнул платком щёки.
– Вы уже автоматически повторяетесь, Семён Семёнович. Они равные личности, но один – рабочий, а второй – руководитель. Вы путаете характеристику личности с её общественным положением.
– Ничего я не путаю, я просто учитываю.
– Тем хуже.
Это была уже дерзость, но прокурор только вздохнул и грустно сказал, как он всегда говорил, подчёркивая своё хорошее отношение к следователю:
– Чего-то вы, Сергей Георгиевич, не понимаете общего, политического.
– Политического? Что подумают рабочие комбината, если мы не будем судить Ватунского, – вот где для меня политическое.
– Что-то вы очень разговорились, – поморщился прокурор, беспокойно взглянув на первого секретаря.
– И вот теперь отвечу про смысл: в равенстве всех граждан перед законом – вот в чём смысл.
Стало тихо. Гаранин опять начал промокать платком невидимые письмена на апельсиново-пористой коже. Рябинин посмотрел на Кленовского – тот повернул голову к окну, к тополям, которые ещё кое-как бились с ветром. Было тихо, так тихо, что мог бы заныть комар или зажужжать муха.
Кленовский отпустил взглядом тополя, глянул на часы, вышел из-за стола, смело ступая по льдистому полу, и протянул Гаранину руку:
– Спасибо. Больше вас не задерживаю.
Рябинину пожал руку молча, улыбнулся. Гаранин сунул платок в карман и переступил с ноги на ногу.
– Всего хорошего, – кивнул Кленовский.
– Алексей Фёдорович, – недоуменно начал прокурор, – как же быть с Ватунским?
– Я, Семён Семёнович, не юрист, – улыбнулся секретарь опять, но уже веселее, неофициальнее, словно он оказался в домашних условиях.
– Но… Алексей Фёдорович, всё-таки правильно я ориентируюсь насчёт нужности Ватунского производству?
– Вот это вопрос политический, поэтому я отвечу. Правильно, Ватунский очень нужен производству. Но социалистическая законность району тоже нужна.
– Тогда не знаю, что и делать, – развёл руками Гаранин и тоже заодно улыбнулся.
– Делайте по закону. Да вот, по-моему, следователь, Сергей Георгиевич, знает, что делать, – кивнул секретарь на Рябинина. – Суд же не обязательно его посадит?
– Возможно, и не посадит, – ответил Рябинин.
– Семён Семёнович, – секретарь дотронулся до пиджака прокурора, – почему вы галстуки подбираете не в тон? Уж тут я знаю точно, хотя вопрос и не политический. К этому костюму пошёл бы синеватый с матовым отливом, таким сизым, как голубиное крыло. Ну, до свидания, товарищи.
Гаранин схватился за галстук и попытался его повернуть, чтобы узел с хвостом ушёл под пиджак. От этого ещё больше вспотел, сделал шаг назад и хрипло ответил:
– Я вас понял. До свидания, Алексей Фёдорович.
И пошёл по ковру к двери, повернув голову назад, насколько хватило шей. Рябинин шёл сзади и думал, что Гаранин с удовольствием пошёл бы задом наперёд, чтобы видеть лицо Кленовского, но стесняется его, следователя. А может быть, прокурор смотрел как раз на него, на Рябинина…