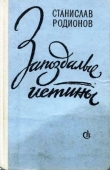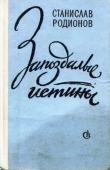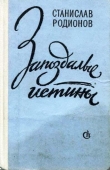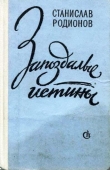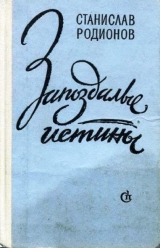
Текст книги "Мышиное счастье"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
– Ты лучше скажи, Катерина, чего ко мне перестала ходить?
– А ты к кому в Посёлке ходишь?
– Я не могу, Катерина. У меня должность прилипчивая. Всяк норовит чего достать по знакомству или в долг.
– Не поэтому ты людей сторонишься, Клавдия, не поэтому…
– А почему же?
– Так дай коробок спичек-то, – Катерина поднялась и накинула платок на голову.
Но Сантанеева заступила ей путь, как милиционер нарушителю:
– Нет уж, ты доканчивай!
Катерина села с готовностью, не скрывая, что сказать ей хочется. Скулы, крупные и круглые, как ребячьи коленки, – в детстве звали её Катькой-скулой, – зарделись огнём. Покраснела от напряжения и Сантанеева.
– Уходи из магазина, Клавдия.
– Это почему?
– Себя теряешь.
– Ты, Катерина, ребусы не загадывай. Как так теряю?
– Печку русскую снесла. Эту вот папсю пьёшь…
– Катьк, завидуешь мне? – изумлённо пропела Сантанеева.
– Чему? Этому-то?
Катерина привстала от такого дикого предположения и повела рукой, как бы охватывая всё богатство дома. Сантанеева, почти непроизвольно, так же вскинула руки и так же охватила всё широким жестом:
– А что… Неплохой ин-терь-ер.
– А на какие шиши куплен? – тихо спросила Катерина.
Сантанеевская рука упала вдоль тела бессильно. Её глаза смотрели на гостью почти неузнающе – кто перед ней? Катька-скула ли, соседка ли, Катерина ли?
– Ты что… Намекаешь?
– Я-то намекаю. А люди говорят.
Клавдия Ивановна куда-то пошла, неопределённо, как бы во внезапном сне. Но даже её большая комната ограничила этот сонный ход. Сантанеева почти упёрлась в сервант, сразу пришла в себя, вернулась к гостье и как-то осела на кресло.
– Уеду я от вас в город.
– А этот дом, в котором ты родилась и выросла? А могила твоей матери? А мы, с которыми ты выросла и прожила всю жизнь? Всех побоку? Клавдия, ты ведь нашенская, и жить тебе по-нашему…
Эти слова Сантанееву почему-то хлестнули. Её минутного бессилья как не бывало – она вскочила с кресла и бросилась к оторопевшей гостье, как из засады:
– По-вашему, говоришь? Ты это пальтецо сколько носишь? Шестой год? Оно уже похоже на шкуру старой лошади. А на ногах у тебя что? Ага, резиновые сапоги, в глине. Дай-ка твою руку… Не кожа, а кирза. От земли да от ботвы… Катьк, а ведь в городе бабам ручки целуют. А физиономия твоя… Слыхала ли ты про помады, кремы, лосьоны? А про духи? К примеру, «Визави»? Или французские «Же ву озе», сорок пять рублей махонький пузырёк… А знаешь ли ты, Катерина, что бабы в городе коров не доят, огороды не полют и крапиву поросятам не запаривают, а смотрят по вечерам телевизоры? А посреди жаркого лета месяц лежат на южном берегу, купаются и жуют фрукты? А ещё путешествуют за границу на белом пароходе – в одной руке тёмные очки, в другой бутылка пепси. А ещё…
– Чего ты! – перебила испуганная Катерина. – Я живу не хуже других. И платья у меня есть, и туфли на каблуках, и часики с золотым браслетом…
– Зачем они тебе, часики-то? – не отпустила своего напора Сантанеева. – Куда ты их наденешь? Когда за комбикормом отправишься или хлев будешь чистить? Или для Васьки своего, когда он пару бутылок у моего магазина раздавит, а?
Или Сантанеева устала от быстрой и раскалённой речи, или Катерина обезволела от её слов, но обе молчали. Странная и тягучая пауза была долгой и неудобной. За окном шумел тёмный ветер, что-то постукивало в огороде, что-то скрипнуло на чердаке…
– Это всё он, – тихо, вроде бы самой себе, сказала Катерина.
– Кто он?
– Хахаль твой нахрапистый, пришелец этот…
– Катьк, не лезь не в своё дело!
– Сама ж просила сказать правду…
– Ты зачем пришла?
– За спичками.
– За спичками… На!
Притча не притча, сказка не сказка… Нужно было мужику выбрать одного работника из двух. Посадил он их обедать, а после еды и выбрал. Обиженный-то и спрашивает, почему выбрал того: вроде бы во всём обоюдные – и в летах, и в силушке, и в сноровке… А мужик ответствует: «Ты, мил человек, всё без хлеба съел, а второй-то с хлебушком. Видать, человек он основательный и работать будет по совести».
Как только женщина вышла из дому и шаги её стихли за штакетником, Леденцов перепрыгнул через лестницу и ринулся к входу. Он застучал в дверь, а вспомнив о механическом звонке, стал его дёргать, не переставая. От нетерпения, которое замедляет ход времени, он не мог точно определить, как быстро открылась дверь…
Сантанеева стояла в халате, дрожа не то от дворовой сырости, не то от злости.
– Клавдия Ивановна, опять к вам в гости…
Она не сдвинулась, закрывая вход высокой грудью, которая вздымала даже свободный халат:
– Поздновато для гостей, – догадалась она, что он из милиции.
– Я только загляну.
– А вы имеете право врываться в частный дом после двадцати трёх часов?
– Нет, не имею.
– А санкция прокурора у вас есть?
– Нет.
– Тогда гуляйте.
Она хотела захлопнуть дверь, но инспектор подставил грязный ботинок. Под халатом он увидел брюки и кофту. Зачем же она набросила халат? Показать, что спит?
– Клавдия Ивановна, мне ведь ничего не стоит вызвать следователя и сделать обыск. И почему вы боитесь меня впустить?
– Я спать хочу, – отрезала она.
– Хорошо, я к вам не пойду, только вышлите сюда механика.
– Какого механика?
– Которого я видел в окне.
– Да вам привиделось, дорогой милиционер! – вдруг запела она.
– А коли привиделось, разрешите в этом убедиться.
– Только ноги оботрите…
В чистых, хорошо вытертых ботинках инспектор обошёл её дом. Никого. Он замедлил у шкафа, не решаясь распахнуть дверцы. Она рванула их:
– Смотрите, щупайте!
Лишь ряды плечиков с костюмами и платьями. Оставалась кладовка. И её она распахнула с готовностью – банки с вареньем и соленьем. Никого.
Инспектор вернулся в большую комнату, где царствовал охрусталенный сервант.
Он опустился на мягкий стул, обводя взглядом это современное и вполне городское жилище. Села и она.
Губы каменно сжаты. Апельсиновые волосы взвиты каким-то шалым ветром. Глаза смотрят неумолимо и черно, подобно ночи за окном. Грудь вздымается и опадает, как после скорого бега. Но ведь она не бегала. Волнуется? Да ведь заволнуешься, коли милиция нагрянула чуть не ночью.
– Дождь, вы промокли, устали, вот и почудился за стеклом какой-то механик, – сказала она шёлковым голосом, который никак не вязался с её взвинченным видом.
– Небрит он.
– Кто?
– Николай Николаевич.
– Ей-богу, у вас от службы миражи.
Рамы двойные, уже законопаченные на зиму, уйти в окно он не мог. Лестница на чердак проходит через сени – инспектор услыхал бы его уход. Русской печи в доме нет, залезть некуда. Под кровать Леденцов заглядывал. Тайная дверь в стене? Но стены бревенчатые, в избах подобных дверей не делают. Может быть, механик лежит в серванте, за фужерами? Но они стоят чинно, нетронуто.
– Куревом пахнет, – улыбнулся инспектор.
Она не ответила – неспешно достала из кармана халата пачку сигарет и закурила, пустив нахальный дым в его сторону.
– Убедительно, – восхитился инспектор. – Но и спиртным откуда-то тянет.
Всё так же молча она встала, вальяжно подошла к столу, взяла бутылку, налила полный фужер, медленно выпила и вернулась на свой стул.
– Неплохой этюдик, – согласился инспектор. – А вы спите в брюках?
– Нынче такая мода, спать в шёлковых брючках.
Он не возразил: чёрт его знает, эта мода бежит скорее всех научно-технических революций. Да и кто спорит о моде с женщиной? Поэтому откровенным взглядом начал он изучать каждый сантиметр пола, мебели, стен и потолка, ломая голову, куда же делся механик.
На полу лежал какой-то тонкий коврик – инспектор воззрился на него.
– Может, чайку попьёте? – вдруг елейно спросила хозяйка.
Это с чего же? Чтобы отвлечь от коврика?
– С чем, Клавдия Ивановна?
– А с чем вы любите?
Он заметил тоненькое вздутие, которое шло от стены до середины комнаты, будто под ковром бежала бесконечная змейка или пролегла верёвка.
– Я люблю с ромом.
– Рому нет, – хихикнула она, – но подобное отыщем.
– Что за подобное? – инспектор встал.
– Скажем, пшеничной водочки…
Она тоже вскочила с радостью освобождённой птицы и посеменила впереди, увлекая его на кухню. Инспектор дошёл с ней до порога, до края ковра, и, нагнувшись, схватил вдруг его и стремительно завернул, оголив половину крашеного пола.
– Без прокурора не имеете права!
– Без санкции прокурора не имею права обыскивать, но преследовать уголовного преступника могу и без санкции.
От стены до середины комнаты тянулся электрический провод и пропадал, нырнув под половицы. Рядом было плоское кольцо. Инспектор взялся за него и открыл крышку подпола – на него пахнуло тьмой, влажной землёй и застойным алкоголем.
– Николай Николаевич, включите лампочку!
Подпол осветился. Инспектор присел, упёрся руками в края и спрыгнул в середину яркого круга…
На берёзовой чурке сидел худой мужчина с запавшими глазами. Белая рубашка, тёмный костюм и полосатый галстук казались в этом подземелье неуместными, как смокинг в пещере. Прилизанные волосы лежали на голове сырой глиной. Лишь рыжеватая щетина говорила о его положении. Он глядел в земляной пол равнодушно, даже не подняв головы.
Инспектор осмотрелся…
Подпол, метров пять площадью, был обшит досками и, видимо, предназначался для картошки. Голая лампочка горела в углу раскалённо. На столике, сооружённом из пня и широкой доски, стояла ополовиненная бутылка коньяка и лежал желтобокий лимон. Была и вторая чурка, свободная, для гостей. Инспектор опустился на неё.
– Николай Николаевич? – спросил Леденцов.
Механик вскинул голову и потянулся к бутылке. Инспектор отставил её непререкаемым движением.
– Дай напоследок-то, – глухо попросил механик.
– Вам предстоит беседа.
– Вот и забудусь перед беседой.
– Этим не забываются, Николай Николаевич.
– Кто чем.
– Большинство ничем.
– Э, инспектор, все забываются, только каждый по-своему. Один вещички копит, второй любовью занят, третий у телевизора сидит, четвёртый в машине своей замуровался, а пятый, вроде тебя, работой забывается…
– От чего, Николай Николаевич, забываетесь вы?
– От жизненных неудач, инспектор.
– Идёмте, – Леденцов поднялся с берёзовой чурки.
Мещанин не любит хлеба. Потому что он дешёв – копейки стоит. Потому что он доступен – не дефицит же. Потому что он не престижен – не икра и не ананасы. Но главное, не любит потому, что хлеб прост, как правда. А мещанин простых вещей не любит.
Механики по представлению Рябинина должны быть людьми могучего телосложения, потому что он сам всяких механизмов боялся и считал, что они повинуются лишь сильному. А Николай Николаевич был высок, необыкновенно худ и остёр лицом, словно его обточили. Серые глаза смотрели прямо, даже вызывающе. И Рябинин понял, что разговор может быть трудным.
– Николай Николаевич, хочу вам сообщить, что тот вредитель, который валял тесто, запекал в хлеб будильники и устраивал поджоги, – пойман.
– За этим меня и привезли?
– Поэтому вас и задержали, – уточнил Рябинин.
– Попрошу без аллегорий, по закону.
Рябинин разглядел, что волосы у механика слегка каштановые, кожа на лице бледно-розовая, полупрозрачная, с мелкими веснушками, глаза серые, маленькие и какие-то уютные… Вот покажи его сейчас людям и скажи, что это опасный преступник, – не поверят.
– Почему вы скрывались?
– Я не скрывался, а был у знакомой.
– Вас два дня не было на работе.
– За прогул я отвечу.
Рябинин вдруг устал неземной усталостью. Ну расследовал бы он убийство, ограбление сберкассы, бандитский налёт или какое-нибудь садистское хулиганство… Тогда бы он применил все свои познания в криминалистике и психологии, весь свой многолетний опыт. Но ведь он расследовал хищение хлеба, и ему казалось, что это преступление требует особого поведения преступника – честного, наверное, – и, следовательно, не надо прибегать ни к каким ухищрениям.
Всё-таки Рябинин спросил осторожно:
– Вы приказывали Башаеву вывозить хлеб?
– Да, с разрешения директора.
– Значит, соучастник, – Рябинин решил взорвать его уютное благодушие.
– Соучастник в чём?
– В преступлении.
– Товарищ следователь, подобными словами даже на рынке не бросаются.
– Николай Николаевич, вы же только что признались в том, что вместе с директором и Башаевым вывозили хлеб…
– Да, но хлеб бракованный. Что-то я не слыхал, чтобы за брак сажали.
– Хлеб следовало переработать, – вяло сказал Рябинин, продолжая этот пустой разговор.
– Во-первых, есть нормы на санитарный брак. А во-вторых, мы готовы нести дисциплинарную ответственность за высокий процент брака и ненадлежащее его использование.
– Кто это мы?
– Я и директор.
Вот так. Высокий процент брака и ненадлежащее его использование. И дисциплинарная ответственность. Например, механику строгий выговор, а директору – простой. И всё, жги хлеб дальше.
Механик изучающе поглядывал на следователя, оценивая убедительность своих слов. Вроде бы и глазки перестали быть уютными, став колкими и нацеленными. Он даже приосанился, показывая свою независимость. Этот ли человек пустился в бега и сидел в подполе у любовницы? Одет, как для концерта. Ему бы только побриться…
– А теперь перейдём к делу, – внушительно предложил Рябинин.
– К какому делу?
– Почему горел хлеб?
Механик облизнул сухие губы.
– Автоматика. То одно полетит, то другое, то перепады напряжения…
– У этой автоматики странное свойство… Она портилась, стоило вам появиться.
– Кто так говорит?
– Все свидетели.
– Я знаю… Они говорят, что хлеб горел и при мне.
– Нет, они говорят, что хлеб горел только при вас!
– Это несерьёзная фантазия.
– Нет ни одного свидетеля, который бы мог вспомнить, чтобы хлеб сгорел или вышел сырой, а вас не было. Только при вас!
– Мало ли что наговорят…
– Специалисты утверждают, что автоматика исправна.
– Сейчас-то исправна.
– Неужели вы думали, что в таком большом коллективе, как ваш завод, не найдётся честных душ? Неужели в Посёлке не узнают, что возите хлеб? И неужели специалисты не подсчитают убытки и не разберутся в этой автоматике до винтика?
– Что я сказал, то и есть, – угрюмо бросил механик, отворачиваясь от следователя.
У директора высшее образование, у механика среднетехническое, у Башаева восемь классов. Директору сорок лет, механику тридцать шесть, водителю тридцать один. Директор не пьёт, механик выпивает, а Башаев льёт в себя, что пожар тушит. Директор семьянин, механик семью бросает, водитель детей раскидал по свету… Всем вроде бы разнятся, и всё-таки похожи, как три буханки хлеба. Чем же? Где пересеклись их линии? Уж не в плоскости ли равнодушия?
– Жаль, Николай Николаевич, что разговора не получилось, – искренне признался Рябинин. – Ведь меня, откровенно говоря, интересует не преступление.
– Я думал, что следователей только это интересует.
– Про ваше преступление я уже всё знаю.
– Да? – спросил механик, тревожась любопытством.
– Слушайте. Вы познакомились с Сантанеевой, продавщицей сельского магазина. Однажды действительно сгорела партия хлеба, и директор разрешил её вывезти. И у вас появилась мысль. Продавать хлеб есть кому – Сантанеевой. Возить есть кому – пьяница Башаев. Дело за хлебом. А если на машину нормального хлеба бросить несколько горелых буханок? Тогда можно вывезти и всю машину, как якобы жжёного. Башаев паяльной лампой обжигал часть буханок, хорошего хлеба достать на заводе не трудно… Фирма заработала.
И вдруг нагрянули мы. А у вас в подвале партия хлеба лежит. Вот вы и попытались его вывезти. Я даже знаю, почему Башаев вывалил хлеб в болото. В тот день у Сантанеевой в магазине был ревизор. На завод обратно не повезёшь. Всё так, Николай Николаевич?
– Глупости…
Лицо механика стало как бы острей. Он бесполезно огляделся, ища неожиданную поддержку. Но в кабинете никого не было, кроме следователя; в кабинете не. стояло ни одной мягкой вещи, способной хоть чуточку смягчить слова Рябинина, – жёсткие стулья, деревянный стол, металлический сейф.
– Но я не знаю, Николай Николаевич, ради чего вы пошли на преступление? Неужели ради Сантанеевой?
– Вам и не обязательно знать.
– А суд об этом спросит.
– Ему тоже не обязательно знать.
– Николай Николаевич, но есть судьи, которым долго или скоро вам придётся ответить, – ваши дети.
Механик хотел было что-то сказать, энергичное и злое, но укротил это желание заметно, на виду у следователя. О детях ли хотел сказать, о хлебе ли?
– Не будете говорить правду? – официально спросил Рябинин.
– Ни о каких преступлениях я не знаю.
Наступившая тишина не удивила. У механика кончились ответы. Да и у Рябинина кончились вопросы, кончилась первая стадия, когда следователь, едва поспевая за уголовным розыском, буквально бежит по горячим следам. Теперь предстояли, кропотливые допросы свидетелей, нудные очные ставки, поиски цифр в актах ревизии и формул в заключении экспертиз. Теперь и предстояло следствие в его истинном понимании..
Телефонная трель рассекла тишину. Рябинин взял трубку, как ему показалось, с некоторым облегчением, поскольку спрашивать механика было не о чём – каждый допрос имеет своё начало, середину и конец.
– Да?
– Сергей Георгиевич, ещё раз эксперт беспокоит. Нашёлся этот механик?
– Механик здесь.
– Когда познакомите его с постановлением об экспертизе, привезите механика на завод к нам, пусть сам убедится в исправности узлов. Потом, у нас снимки почему-то не вышли. Хотим переснять новой камерой.
– Готовьте свою камеру, а механика доставим.
Рябинин рассеянно глянул на Николая Николаевича…
Но механика в кабинете не было – на стуле сидел высохший старик со слезливыми глазами. Волосы тоненьким слоем облепили череп. Острый подбородок вздрагивал.
– Значит, так… пришла беда…
– Что с вами? – изумился Рябинин.
– За что привлекаете-то?
– За хищение государственной собственности, то есть хлеба.
– Я хочу дать чистосердечные показания, – тихо сказал механик, отирая мокрый лоб.
Рябинин тоже потёр свой, догадываясь.
Разговор по телефону… Рябинин слушал эксперта и не слышал своих слов, которые сложились зловеще. Что он сказал… «Механик здесь». Потом что-то про фотокамеру. Нет, просто про камеру. И опять про механика, которого обещал доставить… Николай Николаевич решил, что его арестовывают. Сработала психологическая ловушка, о законности которой спорили юристы. Но её придумал не Рябинин, а жизнь её придумала, которая большая мастерица на случайности.
Механик испугался не зря – не мог следователь отпустить человека, преступление которого он приравнивал к тяжким.
– Николай Николаевич, сколько всего вывезено хлеба? – задал свой главный вопрос Рябинин.
– Я не считал, но Клавдия учёт вела.
Инспектор Леденцов допустил ошибку, оставив Сантанееву дома. Но Петельников уже за ней поехал.
Хлеб для меня не только категория экономическая. В конце концов, есть народы, которые не едят хлеба и живут. Для меня хлеб есть символ всего главного и основополагающего в жизни.
Известно выражение – не хлебом единым жив человек. Не забыть бы, что прежде всего жив он хлебом единым; что прежде, чем дойти до духа, хлеба нужно иметь вдосталь. Не забыть бы, что, допустим, защита диссертации есть всего лишь защита диссертации, а выращивание хлеба – это дарение жизни всем нам…
Не забыть бы.
Петельников подъехал в открытую к самому дому и пошёл к калитке. Там он остановился, разминая ноги и оглядывая тот мир, который видел теперь не через стекло. Его поразила странная тишина, выпадавшая осенью в редкие дни…
Отдалённый Посёлок словно вымер. Опустело и небо, свалив все тучи за горизонт. Ни шума ветра, ни шороха дождя. В лесу, подступающем к ограде, странная тишина: ни крика грибников, ни далёкого воя электрички, ни стона птицы, ни треска сучка… К чему это? К зиме?
Петельников толкнул незапертую калитку и прошёл к двери. Механический звонок дёргался туго, словно его заколодило холодом. Он постучал в дверь, в окно, в стену – дом отозвался тишиной, как осенний лес. Тогда он легонько нажал на пластмассовую ручку – дверь подалась свободно. Незапертый дом в загородном посёлке… Инспектор шагнул в сени, по уже знакомому пути прошёл в дом и распахнул дверь в комнату…
Окна были занавешены плотными шторами, видимо не открытыми ещё с ночи. Дневного процеженного света хватало только на обозначение крупных контуров. Даже хрусталь не мерцал. Воздух, застойный, как в подвале, насытился алкоголем и плесенью.
Петельников знал, где выключатель. Он нажал его, высекнув сухим щелчком электрический свет…
Раскрытые глаза Сантанеевой недвижной пустотой смотрели на него. Она сидела за столом, безвольно склонив голову на спинку высокого кресла. Петельников сделал непроизвольный шаг вперёд, уже решая, где взять врача. Или сразу вызывать эксперта со следователем…
– Я ждала тебя, инспектор.
От неожиданного и хриплого голоса он на секунду оцепенел, мысленно обругав себя за это оцепенение.
– Вот я и пришёл.
– Хочешь выпить?
– Нет, спасибо.
– Какой у тебя чин, инспектор?
– Капитан.
– Тогда я сделаю тебе «глаз капитана». Разобью в водку сырое яйцо, и оно будет плавать там, как жёлтый зрачок. Ха-ха!
Но она не пошевелилась, обвиснув на кресле. Сколько же она выпила за ночь? Две пустые бутылки из-под портвейна и две полные водки. Выпила полтора литра крепкого вина…
– Я ждала тебя, капитан, – повторила она.
– Что-нибудь нужно?
– Нет.
– Тогда почему ждала?
– А я весь свой век жду, капитан.
– Чего?
– Всего. В детстве ждала, когда вырасту. Потом стала ждать хорошего мужа. Потом счастливой жизни. А потом пришёл ты, капитан.
– И оборвал счастливую жизнь?
– Так я её и не дождалась…
– Не надо, Клавдия Ивановна, связываться с такими, как механик.
– Не надо? – удивилась она и попробовала сесть прямо, отчего кресло трясуче зашаталось.
На ней был красный шёлковый халат с широким поясом. На голове белела чалма, сооружённая, видимо, из мокрого полотенца. Бескровное лицо, ещё белее этой чалмы, горело прозрачным огнём. Пустой взгляд не шёл к её осмысленным словам и казался отстранённым, словно прилетел издалека, с чистого осеннего неба.
– Капитан, а ты знаешь, что такое одиночество?
– Нет. – Он не знал его, денно и нощно вертясь среди людей.
– А ты знаешь, что в жизни самое страшное?
– Ну, страшного много. Смерть, болезнь, потеря близких…
– Нет, капитан. Есть и похуже. Самое страшное в жизни – это одиночество. А ты говоришь, капитан, что не надо мне путаться с механиком.
– Нашла с кем…
– Капитан, ты-то на меня не польстишься, а? – заговорила она вдруг игриво, причмокивая. – Полюби меня, а? Вот я перед тобой, одинокая, пьяная, в халатике, и никого нет, а? Э-э, капитан… Думаешь, я не знаю, что этот механик дерьмо на палочке? Знаю лучше тебя. А ты представь ночь. Я проснулась… Темно, тихо, за окном лес шумит, в Посёлке собаки воют… А рядом никого. Страшно? Жутко, капитан, уж поверь. А если механик? Проснулась я, а рядом тёплый человек. Не пьяница, не ханыга, не вор, а тёплый и живой человек! Понимаешь ли меня, капитан?
– Нет.
– Чего ж так, капитан? Ты по службе обязан понимать…
– Не всё греет, что тёплое.
Инспектор не знал, что делать с ней. Вести её в прокуратуру смысла не было – допрашивать в таком состоянии нельзя. Поговорить тут? Для себя, для справки. Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме.
– Клавдия Ивановна, а я к тебе с поручением от механика.
– Неужель?
– Николай Николаевич во всём признался…
– Век не поверю.
– Но не помнит, сколько привёз машин хлеба.
– Где ему…
– Просил у тебя узнать.
Сантанеева вскинула голову и попыталась сесть прямо. От её движения тихо звякнули пустые бутылки, и волна алкогольного воздуха дошла до инспектора новым крепким духом.
– Мне теперь всё до лампочки. Выпьем, а?
Она потянулась к непочатой бутылке, но инспектор мягко перехватил её руку:
– Клавдия Ивановна, тебе лучше лечь.
– Капитан, капитан, улыбнитесь… Выпьем, и я завалюсь.
– Зачем пить с человеком, который лишил тебя счастья? – сказал инспектор, чтобы только сказать, убирая полные бутылки со стола подальше.
Сантанеева трудно поднялась, валко наплыла на него и положила дрожавшие руки ему на плечи. Инспектор увидел стеклянные зрачки, в которых отражался мерцавший на серванте хрусталь. Запах хороших духов, портвейна и зелёного лука лёг на его лицо ощутимо.
– Эх, не обидно ли… Ты молодой, высокий, такой мужчинистый. И капитан, как ни говори. Не обидно, коли бы ты порешил моё счастье. А то ведь знаешь кто меня обделил?
– Знаю, сама.
– Нет, не сама, не механик и не ты, капитан… А маленькие, серенькие, с хвостиками.
Она сбросила руки с инспекторских плеч и растопыренными пальцами изобразила какие-то нетвёрдые фигурки, которые, видимо, изображали этих маленьких, сереньких, с хвостиками.
– Не понимаю, – сказал инспектор, отстраняясь.
Но теперь она схватила его за плечи, притянула к себе и выдохнула в лицо:
– А я покажу, где моё счастье…
Сантанеева оттолкнулась от инспектора, как от стены. Шатаясь, словно пол ходил под ней штормовой палубой, она подошла к ножке стола, у которого чернел посылочный ящик, не замеченный инспектором, и с силой наподдала его носком лакированной босоножки. Ящик взлетел, выбросив из своего нутра шлейф серой трухи.
– Что это? – ничего не понял инспектор, щурясь от затхлой пыли.
– Счастье моё, капитан! Ха-ха-ха! Десять тысяч рублей, съеденных мышами!
– Где же они лежали?
– В огороде были закопаны. Ни сотни, стервы, не оставили…
Она вновь пошла на инспектора по кривой линии, ошалело вращая пустыми глазами.
– Капитан, чего же ты не хохочешь, а?
– Не смешно.
– Как же, как же… У вас хлеб украли, а у меня мыши деньги сожрали. Не смешно ли?
– Хлеб-то, Клавдия Ивановна, крали незакономерно. А вот деньги, вырученные за этот хлеб…
– Капитан, а может, есть бог?
– Бога нет.
– Кто же у меня отобрал эти деньги?
– Бога нет, но есть справедливость, – твёрдо сказал инспектор, застёгивая плащ. – Собирайся, Клавдия Ивановна…
В жизни и литературе есть вечные темы: рождение, смерть, любовь, материнство… И я добавлю – хлеб. О нём человечество всегда будет думать, и писатели всегда будут о нём писать.
Рябинин сидел рядом с шофёром, дремотно уставившись в бегущий асфальт.
Отсыревшие, облетевшие тополя стали походить на осины. Разноокрашенные домики от воды как-то однотонно посерели. Из многих труб уже шёл тоскливый дымок. Вода в лужах стояла так недвижно и холодно, что казалась прозрачным ледком. А ведь ещё тепло. Или она чувствует приближение морозов, или она небо застывшее отражает, где, наверное, уже полно льда?..
Машина проскочила Посёлок и свернула на шоссе к хлебозаводу.
Ждёт ли его директор? Думает ли о своей судьбе или о судьбе завода? Рябинин вот думал всю дорогу…
Юристы говорят, что безмотивных преступлений не бывает. Психологи говорят, что безмотивные действия есть. Но если есть безмотивные поступки, то должны быть и безмотивные преступления. Какой же мотив у директора? Какой мотив у халатности? Какой мотив у лени? Да нет у них мотивов, кроме безволия. Ведь не хотел же директор зла для себя и завода. Тогда не прав ли Петельников – не судим ли мы этих людей за безволие?
Мысль Рябинина понеслась, как эта машина, свободно бежавшая по свободной дороге…
Давно известно, что причина преступности кроется в социальных условиях. Но судят личность, а не социальные условия. Тогда за что же? Она, личность, не виновата – условия виноваты. А что такое личность? Это человеческое сознание, через которое как бы пропустили социальные условия. За что же мы судим эту личность? Ага… За то, что она не противостояла отрицательным условиям. Знала про эти условия, должна была противостоять, а не противостояла, не справилась, потеряла свою личность. Но со всем плохим в нас мы справляемся при помощи воли. Опять прав инспектор. Выходит, что судим человека всё-таки за безволие? Да что там судим… Вся наша жизнь, всё плохое и хорошее, всё зло и добро есть плоды воли или безволия. «На свете счастья нет, но есть покой и воля…» Может быть, под волей поэт разумел не физическую свободу и не свободу духа, а как раз волю как психическую категорию?..
Где-то работали институты, где-то трудились кафедры, где-то корпели лаборатории, раскладывая по полочкам умыслы и замыслы, действия и бездействия преступника. А он вот так, на ходу, меж дел…
Машина остановилась у проходной…
Рябинин часа два ходил по заводу, беседуя с экспертами и ревизорами. Потом он часа два допрашивал тех работниц, которых не успел допросить. И только после обеда, уже в плаще, уже с портфелем, вошёл в директорский кабинет.
Гнездилов сидел за столом и писал, не подняв тяжёлой головы.
– Здравствуйте, Юрий Никифорович.
– А я думал, что вы ко мне не зайдёте, – улыбнулся директор следователю, как старому доброму знакомому, зашедшему сыграть партию в шахматы.
И Рябинина пронзила мысль, с которой начинали разговор почти все работники завода, – директор человек добрый. Да не добрый он, а добрейший; она, эта доброта, насыпана в него под завязку, как мука в мешок; та самая доброта, о которой стенали поэты, писали журналисты и говорили лекторы; та самая, которая, если копнуть поглубже, шла за чужой счёт, за государственный; та самая доброта, которая, если копнуть, была вместо дела; та самая доброта, которая очень приятна в обхождении, но которую Рябинин с годами всё больше и больше не терпел, как обратную сторону чьей-то лени и дури. Воля… Да зачем она директору – вместо неё доброта.
– Юрий Никифорович, вы мне нужны.
– К сожалению, уезжаю на совещание.
– На какое совещание?
– В главк. О выпуске диетических сортов хлеба.
– Юрий Никифорович, вы поедете со мной в. прокуратуру.
– Меня уже ведь допрашивали.
– Юрий Никифорович, я предъявлю вам обвинение.
– Может быть, потом я успею в главк?
Он не знает, что такое «предъявить обвинение»? Не понимает, что его отдают под суд?
– Юрий Никифорович, в главк вам больше не нужно.
– Как не нужно?
– Я отстраняю вас от работы.
– А вы имеете право?
– Да, с санкции прокурора.
Он медленно свинтил ручку, поправил галстук и принял какое-то напряжённое выражение, словно Рябинин намеревался его фотографировать. Незаметные губы обиженно сморщились. Взгляд упёрся в застеклённый шкаф и утонул там в кипах старых бумаг. Залысины вдруг потеряли свой сытый блеск и мокро потемнели.
Рябинин смотрел на директора, ожидая от себя жалости – доброты своей ждал. Он ведь тоже человек мягкий. Что ему стоит оставить Гнездилова в этом кабинете? Пусть суд решает. Да и под суд можно не отдавать, найдя кучу смягчающих обстоятельств и веских причин. Пусть работает. Директор будет доволен. Довольны будут многие работники, привыкшие к его мягкости. Довольны будут в главке, избежав скандала. Вот только государство… Да те люди, которые сеют, убирают, мелют и возят зерно…
– Вы обвиняете меня в халатности?
– И в злоупотреблении служебным положением.
– Воровал же механик, не я…
– А вы ему не мешали.