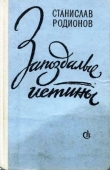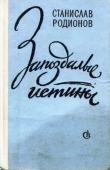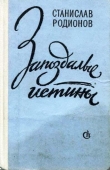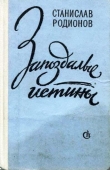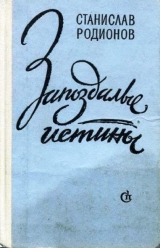
Текст книги "Мышиное счастье"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
– Я ж говорил… Во дворе хлеб горелый рассыпан. Дай, думаю, соберу да кому-нибудь продам на бутылку пива…
– А зачем понесли его в подвал?
– Спрятать пока.
– А в подвале лежал другой хлеб, хороший.
– Я и сам встал обалдевши. Смотрю, ё-моё – гора хлебца навалом. Только начал высыпать, а этот зубр меня клешнями поддел под селезёнку.
Рябинин встал, подошёл к сейфу, вытащил оттуда чёрную буханку и положил на стол, на чистый лист бумаги. Хлеб замерцал антрацитным блеском. Башаев прищурился раздражённо, точно следователь сделал что-то неприятное или незаконное.
– Этот хлеб сгорел не в электропечи, – сказал Рябинин.
– А где же?
– Он обожжён паяльной лампой.
– Мне это без разницы.
– У вас нашли паяльную лампу…
– По работе нужно.
– На верстаке нашли корки хлеба…
– Ел.
– На прошлом допросе вы сказали, что хлеба не едите…
– Когда ем, когда не ем.
– Там же нашли сухие корки в копоти…
– А может, я сухарика захотел? – разозлился Башаев. – Могу я сделать себе сухарик, а?
– Отвечайте не вопросом, а определённо.
– Определённо: захотел сухарик и спёк путём паяльной лампы.
– Так и запишем в протокол – для смеха.
– Я смеху не боюсь.
Петельников вроде бы ничего не сделал, но Башаев повернул к нему голову с угодливой готовностью. Инспектор тяжело и предвещающе вздохнул:
– Вот что, мужик. Ты здесь туфту гнал про свою сермяжную жизнь, с чего, мол, и начал керосинить. А ведь ты «краплёный», «сквозняком» в молодости согрешил ради трёх кусков «шуршиков». А?
– Не понимаю я вас, – неуверенно отозвался водитель.
– Что, жаргон забыл?
– Дела давно минувших дней…
– Конечно, минувших. Но не решил ли ты, выражаясь забытым тобой жаргоном, «слепить нам горбатого», а выражаясь культурнее, «заправить фуфель», что в переводе означает «мазать чернуху» или «гнать туфту»? А?
– Чего?
– Да ни один вор «в законе» не будет темнить, когда взяли с поличным!
– А, так-растак! – опять разозлился Башаев. – Пиши! В подвале хлеб беру на себя. Пиши: хотел вывезти его и забодать за полсотни любителям-животноводам.
– А первая машина? – вновь вступил в разговор следователь.
– Пиши, и тую беру. Две машины, и с концом.
– Где взяли хлеб, кому продавали, как выехали с завода, кто соучастник?
– Э-э, ребята… Тут я помру, а никого не выдам. Один пойду. Не обидно ль? Сам хлеб не жру, а за него страдаю.
Буханка чёрного хлеба стоит четырнадцать копеек. А это значит: удобрить землю, вспахать, подготовить семена, пробороновать, посеять, вырастить колос, сжать и обмолотить, зерно доставить на элеватор, хранить, с элеватора привезти на мельницу, смолоть, муку привезти на хлебозавод, проделать сложный цикл и выпечь хлеб, готовый хлеб доставить в булочную… Это человеческая сила и время, бензин, электроэнергия, транспорт, машины… И четырнадцать копеек?
Да мне ни один экономист, ни один социолог не докажет, что буханка хлеба должна так мизерно стоить! Пирожное, сладкая фитюлька для баловства оценивается в двадцать две копейки. А вот буханка, которой можно накормить несколько человек, – поди же.
В небольшой комнате, обставленной самым необходимым, двое смотрели телевизор. Она сидела на табуретке, то и дело трогая руками бигуди, словно боялась, что они осыпятся с головы. Он был в выцветшем тренировочном костюме и с газетой на коленях – старое деревянное кресло, собранное из тонких реечек, поскрипывало под ним часто и старомодно.
Экран телевизора иногда рассекала белая прожекторная полоса – тогда она двумя руками ощупывала бигуди, он морщился, а кресло скрипело особенно тягуче.
– Ань, если муж не ест женин обед, то что?
– Пересолен.
Где-то на кухне лилась вода – её однообразный звук вплетался в бормотанье телевизора, как ненавязчивое музыкальное сопровождение.
– Ань, если жена купила мужу, скажем, ботинки, а он отворачивается…
– От жены отворачивается?
– От ботинок.
– Не его размер.
На кухне стукнула форточка – телевизор отозвался на этот стук своей прожекторной полосой. Он поморщился, она ладонями поправила бигуди.
– Ань, а если от мужа пахнет… э-э… ликёрами?
– Значит, выпил.
– Знаю, что выпил. Почему пьёт эти самые ликёры?
– Водку не любит.
Кресло скрипнуло, как скелет костями. Опять звякнула некрепким стеклом форточка. Вода лилась ровным и вечным тоном. Телевизор о чём-то нашёптывал негромко, неубедительно.
– Ань, а если от мужа пахнет французскими духами?
– Значит, хороший муж.
– Как так?
– Купил жене французские духи и положил в карман. Вот ты мне французские духи не покупаешь…
– Этот хороший муж заявляет жене, что человек есть дитя наслаждений.
– Какой он милый…
– Ань, ты хороший технолог, но в вопросах мужской психологии, извини, не тянешь.
– Может быть, Юра, не тяну. Но если бы ты… однажды… пришёл домой… от тебя пахло бы ликёром и французскими духами… и заявил бы, что любишь наслаждения…
– То что бы? – он даже отпустил взглядом экран.
– Не знаю, Юра. Но что-то бы произошло.
– С кем?
– С тобой, Юра.
– Со мной, Аня, подобного никогда не произойдёт.
– Я знаю, – вздохнула она.
– Чай будем пить?
– Можно и попить.
– Нет, на ночь не стоит, – решил он.
– Ну не будем…
Неожиданный звонок, сильный и долгий, заглушил урчание воды, стук форточки, скрип кресла и говорок телевизора. Мужчина неспешно встал, выключил у телевизора звук и недовольно буркнул:
– Кого это несёт…
– Наверное, сосед.
Пока он ходил открывать, она вытащила из кармана халата косынку и покрыла голову, спрятав металл бигудей. По молчанию в передней, по какой-то тяжести, которая потекла вдруг оттуда, она поняла, что это не сосед…
– А я к вам в гости, – улыбнулся Рябинин.
– Поздновато, но я ждал, – признался директор, принимая мокрый плащ.
– Почему ждали?
– Предчувствовал…
– Садитесь, пожалуйста, – она вскочила и придвинула к столу единственное мягкое креслице.
Рябинин знал, что поздновато – десять часов. После этого подвала, забитого хлебом, после задержания Башаева и допроса Рябинину казалось, что его нервы слышимо заныли, как комариная стая над ухом. Нужно их утолить, эти надрывные нервы. Он ещё раз глянул на руку – десять часов пять минут. Закон разрешал поздние допросы только в неотложном случае. Когда совершалось тяжкое преступление, когда совершено убийство. А уничтожение хлеба – не тяжкое преступление?
Рябинин огляделся… Двухкомнатная квартира. Пол, покрытый линолеумом. Выжженные солнцем обои. Простенькая мебель. Шкаф, широкий, как железнодорожный контейнер. Канцелярская лампа на столе. Телевизор чуть не первого выпуска.
Тогда Рябинин пристальнее вгляделся в директора…
Какой-то обвислый тренировочный костюм. Широченные шлёпанцы, как снегоходы. Сырое, тяжёлое лицо. Откровенно сонный взгляд. И лысина, блестевшая от канцелярской лампы.
– Юрий Никифорович, а что у вас такая старомодная мебель? – улыбнулся следователь.
– Меня устраивает.
– Его устраивает, – подтвердила жена.
– А что вы не сдерёте линолеум и не настелете паркет?
– Какая разница?
– Ему всё равно, – опять подтвердила жена.
– Обои-то выцвели, как писчая бумага стали…
– Собираюсь переклеить.
– Он собирался.
– А почему не купите телевизор с большим экраном? Ничего же не видно.
– Нам видно.
– Вы в очках, поэтому вам и не видно, – объяснила жена.
– А что это журчит?
– Кран течёт, – буркнул директор. – Почему не чините?
– Мне не мешает.
– Ему не мешает.
– Извините, вы пришли по делу? – раздражаясь, спросил директор.
Но Рябинину сперва хотелось понять… Мужчина, а это значит – сильный, энергичный и умный. Сорок лет ему, самая зрелая пора. Высшее образование – у человека образование, выше которого некуда. Здоров, обеспечен, уважаем… Почему же он ничего не делает ни на работе, ни дома?
– Может, хобби? – вырвалось у Рябинина.
– Не понял?
– Собираете марки, много читаете, шьёте галстуки, режете по дереву или изучаете санскрит?
– Я не мещанин, – почти гордо сказал директор, как бы разом отвечая на все следовательские вопросы.
Рябинин ждал квартирного блеска и небывалого комфорта – если человек не живёт для завода, то он живёт для себя. Оказалось, что можно жить ни для завода, ни для себя. Тогда для кого? И если не жить, тогда что? Существовать? Хапать… Да ему и хапать-то неохота. Да он не поднялся даже до мещанина. Нет, поднялся, ибо есть мещане бесхрустальные, безвещные – это лодыри. Неплохо, он запишет в дневник: «Лодырь – это мещанин ленивый». А можно ли доверять завод человеку, который не управляется даже со своей квартирой?
– Хотите чаю? – спросила жена.
– А у вас чашки есть?
– Конечно, сервизные.
– Ань, следователь шутит.
Директор осоловело смотрел в жухлую скатерть. Спокойный, добрый человек.
– Юрий Никифорович, рабочие хвалят вашу доброту…
– Да, я стараюсь каждому сделать приятное, – быстро согласился Гнездилов.
– Почему?
– Как почему?
– Зачем каждому делать приятное?
– Наш моральный кодекс…
– Ну зачем делать приятное, например, шофёру Башаеву, пьянице и плохому работнику?
– Такова, в сущности, моя натура…
– А я знаю, в чём тут суть, Юрий Никифорович. Добротой вы покупаете себе спокойную и тихую жизнь. Вы откупаетесь ею от людей, от работы. У вас доброта вместо дела. Если, конечно, это называется добротой…
Рябинин чуть не задохнулся от такого количества быстрых слов. Чтобы успокоить дыхание, он открыл портфель и достал неизменный бланк протокола допроса.
– Юрий Никифорович, я пришёл ради одного вопроса… Кому непосредственно вы разрешили вывозить горелый хлеб?
– Механику, – сразу ответил директор.
Выражение «битва за хлеб» мне долго казалось газетным, вычурным. Но когда я попал на уборку урожая в Северный Казахстан и поднялся на сопку…
Земля гудела моторами, блестела соломой и дымилась пыльными шлейфами, достающими до неба. Комбайны шли рядами, как танки. Грузовики колоннами неслись по мягкой от пыли дороге. Бетонные элеваторы стояли над степью великанскими дотами. Тока с холмами пшеницы походили на прибалтийские дюны, развороченные людьми и техникой. Лица, высохшие от жары, работы и пыли. Рубашки, сопревшие от пота и трения спиной об обшивку сиденья. Воспалённые глаза и вечный скрип песка на зубах. Сон урывками, на ходу, везде, где только можно приткнуть голову хоть на минутку. Санитарные машины, дежурившие у палаток с красными крестами. Повар, бегущий к комбайну с обедом, словно его вот-вот накроют неприятельским огнём.
Бой, тяжелейший бой за хлеб. Днём и ночью, днём и ночью…
Хождение по хрюку оказалось пустым: то он хрюк перепутает с каким-нибудь скрипом, то хозяева попадутся молчуны, то кормят одними лишь комбикормами… Теперь Леденцов шёл к какой-то Сосипатровне, названной «кулачкой первый сорт»: имела двух кабанов, и на седьмом десятке у неё вырос зуб. Её дом зеленел сочно, свежевыкрашенно. К левому боку какими-то уступами примкнули строения: хлев, сарай и сарайчики, кладовые и кладовочки. Большой земельный участок чернел после убранной картошки. Деревья и кусты оттеснились к забору, да ведь поросят яблоками и клубникой не прокормишь. Окошки, как всегда бывает в небольших домах, светились мягким и уютным светом; впрочем, их свет мог скрадываться дневным. Из трубы шёл дымок и стекал по крыше на влажную землю. И Леденцов подумал, что дымок этот тёпел и сух.
Калитка была не заперта. Он дошёл до крыльца и побарабанил в окошко, вызвав ответный лай где-то далеко, может быть, в хлеву. Мокрая дверь стукнула щеколдой и открылась широко, потому что женщина за ней тоже была широкой – она стояла, могуче загородив проход.
– Здравствуйте, Мария Сосипатровна.
– За шпиком?
– Нет, поговорить.
– А вы кто?
– Из милиции.
Она не смутилась и не вздрогнула, а лишь поправила на плечах белый пуховый платок.
– Тогда проходите.
Леденцов миновал полутёмные сени, разделся в уютной прихожей и ступил в большую комнату. Что-то его остановило у порога…
Пол горницы был устлан странным ковром, каких он ни у кого не видел: то ли вязанный из толстых ниток, то ли плетённый из цветного шпагата. Круглый стол покрывала странная голубая скатерть с какой-то опушкой по краям, которая шевелилась от дуновения, как бахромка у медузы. На стенах, на диване, на комоде висели и лежали плетёные, вязаные и вышитые салфетки, коврики и панно. И от их цветастой пестроты в комнате было весело, как на июльском лугу.
– Сама всё изготовила, – отозвалась она на удивлённый взгляд инспектора. – Скидывай ботинки.
– Как скидывай?
– Неужто пущу в грязи по чистоте?
– Я при исполнении, мне босиком нельзя.
– А ты в носках.
– Мария Сосипатровна, они ещё грязнее ботинок, с них торфяная жижа капает.
Она молча выстелила газетами путь к столу. Гость и хозяйка сели, ощупывая друг друга взглядами…
Ей было лет шестьдесят. Крупная голова на широких плечах, крупные руки с коричневыми выдубленными пальцами. Чёрные, ещё вроде бы не седые волосы прижаты косынкой. Карие глаза смотрели из-под встревоженных бровей ожидающе, но платок лежал на плечах независимо: подумаешь, милиция.
– Говорят, Мария Сосипатровна, у вас зуб вырос? – улыбнулся инспектор.
– А предъяви-ка, молодой человек, документ.
Леденцов извлёк удостоверение, ничуть не смягчив им хозяйку.
– Не знала, что милиция зубы на учёт берёт.
– Говорят, вам его бог послал?
– Ты мне, молодой человек, зубы не считай, то есть не заговаривай. Скажи, зачем пожаловал, – и привет.
Леденцов знал, что допрос нужно начинать исподволь, поэтому старался придумать нейтральную темку. Но старуха поворачивала разговор к главному.
– Я пришёл к вам насчёт хряка, то есть хрюка. Если во дворе хрюкает, то это же поросёнок?
– Неужто кошка захрюкает?
– К примеру, у вас хрюкает?
– Двое, не считая кролей, курей, коз, петуха и кошки.
– Ого! Вот почему вас кулачкой зовут.
Она встала, неслышно прошлась по ковру и оперлась руками на стол, обдав его волной запахов: трав, яблок и варёной картошки. Её лицо приблизилось к нему настолько, что он рассмотрел крепкую кожу щёк, дрожащую верхнюю губу и каризну глаз, как показалось ему, затянутых сизой злобной дымкой.
– Кулачкой зовут?! Потому что я не хожу с ними на винопой. Потому что я даже в воскресенье поднимаюсь в четыре утра, а они чухаются до девяти, да и встанут – не то идут, не то падают. Я веники вяжу, траву кошу, клетки чищу, землю буравлю, а они у теликов сидят. У меня всё своё: мясо, овощ, молоко… Я даже в аптеку не хожу – свои травы лечебные. Я людей кормлю. За деньги, а то как же. Они же всё с государства тянут. Так кто ж кулак выходит? Кто даёт иль кто к себе гребёт?..
– Мария Сосипатровна…
– Кто вкалывает, тот кулак, а кто у телика сидит, тот не кулак?
– Мария Сосипатровна, перейдём к другому вопросу.
– Перейдём, – успокоилась она.
– Все ваши четвероногие…
– А почему это четвероногие? – обидчиво перебила хозяйка.
– Кабанчики, кролики, кошка…
– У моих курей по две ноги.
– Все ваши четвероногие и двуногие…
– А петух у меня теперь одноногий, – вспомнила она. – Вчерась на дорогу скаканул, его колесом и шибануло.
Леденцов помолчал. Он догадался, что доверительной беседы не будет, не получится. И спросил, терпеливо и уже монотонно:
– Ваши четвероногие, двуногие и одноногие, наверное, кушают?
– Не кушают, а жрут да причмокивают.
– И чем вы их кормите?
Он сразу заметил, что вопрос остудил её. Она одёрнула независимый платок, отпустила взглядом его лицо и поёжилась, словно тёплый дом внезапно просквозило.
– Картошки подпол засыпала, комбикорм где куплю, сена накошу… Способы-то у меня домодедовские.
– Как понять «домодедовские»?
– Кормовая база слабовата.
– И как вы её восполняете?
Она схватила платок за края и растянула за спиной на раскинутых руках, как расправила крылья. Леденцов ждал каких-то последующих слов, но платок опал – птица испуганно сложила крылья. Хозяйка молчала.
– Не хотите отвечать? Или боитесь?
– А ты прямо спросить тоже боишься?
– Как так?
– Спроси прямо-то, зачем пришёл.
Инспектор поёрзал на стуле – совет старухи нарушил всю следственную тактику. Что бы на его месте сделали Петельников и Рябинин? Он ведь, инспектор, ведёт допрос, а не эта бабушка… Ничего не придумав, Леденцов спросил машинально, уже вослед вылетевших слов догадавшись, что он последовал-таки её совету:
– Свиней кормите хлебом?
– У меня боровы.
– Кормите боровов хлебом?
– Кормлю.
– Где берёте?
– В магазине, у Сантанеихи, продавщицы нашей.
– А почём?
– По госцене.
– А кто ещё берёт?
– Это ты, милок, сам поспрашивай.
– Вы много брали?
– Да уж не первую свинью откармливаю.
– Спасибо, Мария Сосипатровна.
– Прямо спрошено, прямо и отвечено. Аминь. Только хлебушек и горелый бывает.
– А откуда хлеб у Сантанеихи?
– Это уж вы сами ищите.
– А вы не поможете?
– Ну ты и ехидный! Прямо утконос!
Мария Сосипатровна опустилась на стул, как-то поникнув на нём. В горнице стало так тихо, что из хлева донеслось блеянье козы. Леденцов потёр ладонью лоб и щёки, разминая чуть стянутую кожу – так бывает после купанья, когда лицо обсыхает на ветру. Радость, уют и сытое тепло – с кухни пахло варёной, наверняка рассыпчатой картошкой – лишили инспектора сил. Видимо, от мокрых до колен брюк шёл пар. Ноги оставались в торфяной жиже, но теперь тёплой жиже.
– Щей похлебаешь?
– Щей… чего?
– Ну, поешь.
– Я при исполнении.
– А вам что – щи запрещено хлебать?
– У хороших людей разрешено, – улыбнулся он, догадавшись, что ему сейчас очень хочется похлебать щей, сваренных этой женщиной.
Мария Сосипатровна принялась степенно хлопотать. Леденцов смотрел на стол, где появлялись предметы и еда вроде ему известные, и вроде совсем другие: старомодные тарелки со смешными рисунками, деревянная солонка, помидоры небывалой величины, гусиные яйца, сахарная картошка…
– У Сантанеихи полюбовник есть, – сообщила Мария Сосипатровна как-то между прочим.
– Это законом не запрещено.
– Полюбовник-то с хлебного завода.
– А как его фамилия?
– Откуда мне знать, полюбовник-то не мой.
– Внешность описать можете?
– Да разве мужика внешность красит?
– А что красит мужика?
– Кем да как работает.
– Ну и кем работает этот полюбовник?
– Главным по механизмам.
Леденцов замер, словно увидел на столе жареного Змея Горыныча.
– Мария Сосипатровна, щи отменяются…
Говорят, что существует более трёхсот сортов хлеба. Каких только нет… А какими словами определяют его: вкусный, мягкий, тёплый, душистый, ситный, свежий, хрустящий…
Но больше всех мне нравится другое слово – насущный. Хлеб наш насущный…
Женщина оторвала пустой взгляд от пустого окна и повернулась. Бутылочные стекла колко блестели на полу, зелёный лук слегка повял, буханка хлеба казалась чёрствой… Женщина взялась за веник – второй день не убирается.
Звонок в передней удивил её. Надежда, которой хватило секунды пути от кухни до двери, отогрела лицо. Женщина открыла запор почти с улыбкой…
– Извините за позднее вторжение, – сказал Петельников.
– Вам кого?
– Николая Николаевича.
– А вы кто?
– Вот моё удостоверение. Утром вас не застал.
– Ребят у бабушки забирала…
Она поверила, не глянув в книжечку, будто ждала этого позднего гостя из уголовного розыска.
– Проходите на кухню, в комнате спят дети.
Инспектор шёл, стараясь не наступать на крупные осколки. Окинув взглядом стол, он понял, что тут отшумела какая-то буря.
– Николай Николаевич пировал? – улыбнулся Петельников.
– Нет.
– А кто же – вы?
Она тоже улыбнулась – натянуто, из вежливости. И помолчала, раздумывая, отвечать ли. Инспектор подождал, намереваясь свой вопрос повторить, поскольку ему очень захотелось узнать, кто же так примитивно гулял. Ведь не главный же механик?
– Приятель Николая вчера заходил, – как-то неуверенно ответила женщина.
Петельников хотел спросить, почему же со вчерашнего дня не убирается, но лишь пристально вгляделся в её лицо – зачем спрашивать?
– Фамилию приятеля знаете?
– Башаев.
– Водитель с хлебозавода?
– Он…
– Что же их связывает?
– Красивая жизнь.
– Башаев… и красивая жизнь? – удивился инспектор.
Женщина зло повела рукой, показывая на стол и на битые стёкла:
– Вот для него красивая жизнь.
Петельников сел на подвернувшуюся табуретку – к концу дня ноги принимались гудеть. Но женщина не села, выжидательно замерев посреди кухни. Инспектор встал:
– Мне нужен ваш муж.
– Его нет.
– А где он?
– Наверное, на заводе.
– На заводе его нет второй день.
– Тогда не знаю.
– Жена – и не знаете?
– А вы про свою жену всё знаете?
– Я не женат, – улыбнулся инспектор, снимая её раздражение.
– Вот женитесь, тогда узнаете.
– Тогда я лучше повременю.
Он прошёлся по кухне. Уголовное преступление частенько шло рядом с семейной драмой; видимо, человек морально опускается не по частям, что ли, а весь, целиком, как тонет в болоте. Для него, для инспектора, это всего лишь расследование противоправного действия, а для женщины – несчастье…
И, как бы подтверждая инспекторскую мысль, под ботинком пустым орехом хрустнуло стекло.
– Просишь, сигналишь… И никто внимания не обращает. А потом… Что он натворил?
– Так он и дома не ночует? – ушёл от вопроса Петельников.
– Уже больше месяца.
– Где же он живёт?
– Не знаю.
– Подумайте, где он может быть. Вы же его знаете…
– Я его знала давно.
Инспекторский взгляд остановился на полочке. Рука, почти без его воли, повинуясь подспудной мысли, поднялась и сняла книгу.
– Что это? – глупо спросил он, потому что теперь им командовала она, подспудная мысль, которая вроде бы не управлялась интеллектом.
– Книга, – удивилась женщина.
– Ваша?
– Конечно, моя. Вернее, Николая.
– Николая Николаевича?..
– Это его любимая книга.
– Теперь я знаю, где искать вашего мужа, – уверенно сказал инспектор и поставил «Женщину в белом» на полку.
Вроде бы о хлебе пишут часто. Но где книга… Нет, не о сухариках из корок и не о пирожных из крошек, не о кулинарных рецептах, не о процентах и тоннах… Ведь есть же занимательные книги о камнях, о физике, о животных, об астрономии… А о главном, о хлебе? Была же более века назад выпущена книга «Куль хлеба и его похождения», которой зачитывалось юношество.
Где же сегодняшняя книга, в которой о хлебе было бы всё-всё, начиная с истории и кончая молекулярным строением; и о сухариках было бы, и о пирожных, и о тоннах с процентами; где эта книга, которой зачитывались бы, как детективом?
Пишется она? Или уже написана? Или её автор отвратил свой взгляд от земного колоса и, глянув в небо, сел писать о модных летающих тарелках?
От Марии Сосипатровны инспектор Леденцов сразу пошёл к продавщице Сантанеевой. Рабочий день кончился, на поселковой улице давно стемнело, но он припас фонарик и лужи миновал успешно – не хотелось мочить уже подсохшие ноги…
Клавдия Ивановна встретила притушенной улыбкой и галантным радушием. Инспектор прикинулся социологом, переписывающим парнокопытных, рогатых, хрюкающих и кукарекающих. Таковых у Сантанеевой не оказалось – даже кошки не держала. Леденцов успел кинуть цепкие взгляды по всем углам и убедиться, что механика тут нет. Провожала Сантанеева ещё галантнее.
Инспектор вышел на шоссе, на асфальт, и неопределённо зашагал к лесу, размышляя…
Ведь к дому её он подошёл стремительно, сразу застучал в дверь, которая тут же открылась – убежать или спрятаться механик бы не успел. Тогда откуда заготовленная улыбка, какая-то вымученная галантность, какая-то готовность в глазах… Ждала? Конечно, ждала. Механика. Тогда и Леденцов подождёт. Хотя бы в этом ельнике. И он свернул в него, как в яму завалился.
Чёрная ночь поглотила его, поглотила этот лесок и посёлок. Казалось, что мокрая тьма затопила весь мир и нет и никогда не будет солнца; нет и никогда не было ни жарких пляжей, ни тёплых стран, ни раскалённых пустынь. Брюки, подсохшие было в избе, мгновенно отяжелели. Некошенная здесь трава, какие-то высоченные дудки с зонтиками стояли в свете фонаря, как тощие Дон-Кихоты. Задетые еловые ветки брызгали водой.
Но через полчаса Леденцов сообразил, что стоит он зря, поскольку прихода механика ему тут не увидеть. С таким же успехом можно найти укромное местечко у дома Сантанеевой. Леденцов раздвинул ельник, добрёл до шоссе и облегчённо ступил на асфальт, где хоть не было ям и луж. Этот путь был короток – минут через пять он сошёл с асфальта и свернул на дорогу, залитую зыбкой торфяной грязью. И пошёл медленно, с потушенным фонарём, высоко поднимая ноги и брезгливо топя их в жиже…
Дома Сантанеевой он не увидел, пока не наткнулся на изгородь. Все окошки черны. Рано, часов восемь. Неужели легла спать не дождавшись? Да ведь механик может и постучать.
Инспектор перелез через штакетный заборчик и чуть не вскрикнул – рука погрузилась в самую гущу куста крыжовника. На ощупь, ногтями стал он отыскивать и дёргать впившиеся иголки. Потом споткнулся о ведро, которое звякнуло глухо, мокро. Затем была какая-то бочка, вкопанная в землю. Какой-то лилипутский заборчик, какая-то поперечная жердь… Видимо, он попал в ягодный кустарник, и нужно свернуть на пустые грядки.
По вскопанной земле, прибитой дождями, пошлось свободнее. Он сделал несколько шагов и вдруг почувствовал, что перед ним кто-то стоит. Инспектор качнулся вперёд, и тут же поля чужой шляпы упёрлись ему в переносицу – человек был ниже его. Леденцов мгновенно поднял руку – для обороны ли, для удара ли – но тот поднял свою, и инспекторский кулак хлестнул по рукаву чужого пиджака. Можно было осветить его, но проиграть во времени и показать себя. Поэтому инспектор приёмом перехватил его поднятую руку и тут же потерял силу – под тканью ощутилась безмускульная костяная рука. Леденцов отпустил её и, догадываясь, ощупал голову своего врага – вместо головы холодел чугунок, прикрытый шляпой.
– Идиот, – шёпотом обругал себя инспектор, вытирая с холодного лба мелкий пот.
И пошёл по участку слепо и тихонько, ногой проверяя каждый сантиметр земли. Добравшись до крыльца, он опустился на какой-то скользкий ящик. Плащ придётся отдать в чистку. Или выбросить.
Наступил поздний вечер. Он ничем не разнился от раннего. Может быть, только дождём – теперь он капал сеточкой, редкой, уставшей. К инспектору пришёл озноб. Волглая одежда ничуть не грела. А ведь в его рабочем кабинете лежала одежда, припасённая именно для таких случаев – водонепроницаемая тёплая куртка и резиновые сапоги. Знать бы, где упасть, соломки бы…
Инспектор подумал, что с убийством возни бывало меньше, чем с этим хлебом…
И ещё он не понимал той страсти, с которой Рябинин и Петельников вели это дело. Ну, хлеб. А разве копать руду, пилить лес или колоть уголёк легче? Кстати, а работать в уголовном розыске легче? Они рассуждали так, будто нет ни научно-технической революции, ни прогресса. Ходить по хрюку… Ещё немного, и он сам захрюкает.
В ботинках от жидкого торфа слиплись пальцы. Мокрая рубашка старалась обсохнуть от малого тепла спины. Сырая шляпа давила на лоб, как солдатская каска. Щипало исколотую крыжовником руку… Интересно, воспаление лёгких бывает отчего?
Те звуки, которым удавалось пробить толщу тьмы, шли из Посёлка. Здесь, на отшибе, мертвела тишина.
Где-то и кто-то выругался, но так далеко и так нереально, что вполне могло донестись и с луны. Где-то неохотно тявкнула собака. Проурчал и затих мотор. Вскрикнул приёмник. Поблизости дважды цокнуло, как маленьким копытцем, – сосновые шишки падали на асфальт со стекольным звоном.
Леденцов не курил и поэтому молекулу табачного дыма мог уловить за десятки метров. Вроде бы запахло. Он огляделся, что имело не больше смысла, чем задышать в воде. Наверное, почудилось. Но минут через десять его нос вновь задрожал, как у охотничьей собаки. Где-то курили. Не из Посёлка же несёт. А может быть, из сарая?
Инспектор встал и походкой водящего в жмурках пошёл к сараю. Видимо, от усталости тучи истончились, поэтому иногда – нет, не просвет, а вместо черноты приходило какое-то осветление воздуха, в котором очерчивался угол дома, деревья, колодец… И сарай. Леденцов подошёл к нему, ощупывая дверь и нюхая воздух. Дымом не пахло, на двери висел замок.
Тогда он решил обойти вокруг дома, что оказалось делом не лёгким. К фундаменту была приставлена и привалена разная рухлядь. Какие-то кастрюльки, дощечки, горшочки, цветочки…
– Бесхозяйственная дура, – тихо выругался Леденцов, ударившись коленом о лестницу, положенную на ребро.
Держась за угол дома, он повернулся к окну. И в этот миг прохудившаяся туча отпустила Посёлку лунного света чуть больше, чем отпускала до сих пор. Позабыв про боль, инспектор отпрянул – за стеклом белело лицо. Леденцов вскинул фонарь, как пистолет, и нажал кнопку…
Худой и небритый человек покойником смотрел на него, даже не мигнув от яркого света. В комнате зажгли электричество, вместе с которым пропал и человек-покойник.
Леденцов хотел ринуться в дом, но за его спиной мокро стукнула калитка – в свете, павшем из окна, он разглядел женскую фигуру. Инспектор спрятался за угол.
Я видел мальчишек, собиравших хлебные колоски: довольные, весёлые, разгорячённые… Я видел мальчишек, пинавших по двору буханку хлеба вместо футбольного мяча: довольные, весёлые, разгорячённые… Чем эти похожие мальчишки отличаются? Главным – сопричастностью жизни взрослых.
Клавдия Ивановна Сантанеева оцепенела, приготовившись к громовому стуку в дверь. Но там поскреблись по-кошачьи, знакомо. Она задышала свободнее. Неужели до сих пор не дышала?
Сантанеева открыла дверь. Скуластая Катерина опустила платок с головы на плечи и неуверенно спросила:
– Спишь, что ли? Света вроде бы не было…
– Гасила на минутку. Показалось, кто-то ходит под окном.
– Никого нет, – заверила Катерина.
– Проходи, соседка. Давно не захаживала.
– Так ведь дела…
Катерина прошла в комнату, щурясь от хрустального света, от обилия стекла, от пышно накрытого стола. Она присела на краешек кресла неуверенно, готовая вскочить и бежать.
– Спички все исчиркала. Одолжи коробок…
– Не спеши. Я тебе стаканчик сладкого вина налью.
– Господь с тобой! На ночь вино пить.
– Ну хоть пепсы.
– Чего?
– Пепси-колы, водички.
Сантанеева торопливо схватила бутылку, опасаясь, что гостья откажется и от воды. Катерина оглядывала дом, но не с любопытством, а с каким-то ждущим выражением – так человек отыскивает потерянную вещь, – даже еле приметная улыбка была на губах.
– Когда была жива тётка Анна, твоя мать… Мы тут ели драчены с топлёным молоком из русской печки…
– Печку я разобрала.
– Щами пахло, картошкой, теплом… В хлеву корова мычала. Котята играли, ребятишки кричали… А теперь вот… эту соску пьём.
– Не соску, а пепсу. Её во всех странах пьют.
– Из резины делают, что ли… – поморщилась Катерина.
Сантанеева отодвинула бутылку и побегала взглядом по столу, не зная, чем угостить соседку. Но на столе были лишь солёные закуски, мясо, рыба – всё подобающее к двум бутылкам, высоким, прозрачным, с винтовыми пробками. Взгляд Сантанеевой помимо её воли соскользнул со стола на окно, на улицу – там была осенняя тьма.