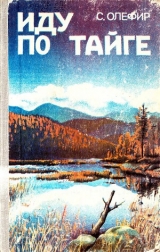
Текст книги "Иду по тайге"
Автор книги: Станислав Олефир
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
И стали каждую весну здесь кулики на отдых садиться. Придешь вечером к торфянику – тут тебе и перевозчики, и улиты, и турухтаны. Вдоль канавы бегают, дерутся, червяков из земли длинными клювами добывают. Шумно, колготно.
Так что теперь у нас появилась и куличиная станция. А называется она Васькины ключи. Хорошо называется, не правда ли?
Зуек и трясогузки
Канава у торфяника длинная. В самом ее начале глубокая яма, в конце перекат. За перекатом уже речка. На ее берегу гора пней. Их Чирок выгреб бульдозером из торфяника. На пнях любят отдыхать совы и ястребы. Как только прилетят кулики, эти разбойники тут как тут.
Во многих местах стенки канавы оплыли, и получились уютные пляжики. Солнца сколько угодно, а ветер почти не залетает.
Кулики прибывают небольшими стайками. Опустятся на берег, и сейчас же каждый принимается отыскивать себе удобное местечко.
Плавунчикам хорошо. Они прямо на воду садятся. Там и едят, там и отдыхают. Первая появившаяся на воде мошка им достается. Турухтанам-самчикам, наверно, и в пустыне Сахаре будет тесно. Чуть что – в драку. Им бы отдохнуть с дороги, а они целый день канаву делят. То в одном месте сцепятся, то в другом.
Бекасы жмутся поближе к прошлогодней траве. Трава рыжая, бекасы рыжие – поди разгляди.
Самые миролюбивые из всех куликов турухтаны-самочки и песочники. Собьются в стайку у самой воды и дремлют тихонько.
Большому улиту, что стоит на одной ноге у переката, такая картина действует на нервы. Он направляется к стайке и пристраивается рядом с песочниками. Те потеснятся: пожалуйста, мол, очень рады. А улит чуть постоит и ни с того ни с сего крылья как распахнет! Они у него огромные. Одним махом куликов в воду столкнет. Те в крик. А он радостно так: «ули-ули-ули!», описал круг и сел у переката…
Хуже всего зуйку. Его обижают все, кому не лень. Это, наверное, от того, что на груди у зуйка нарядный галстук, на глазах очки-полумаска. Словно на бал-маскарад собрался. Остальные кулики по сравнению с ним замарашки. Вот они его и гоняют. Турухтаны клюют, песочники клюют, даже перевозчик и тот норовит ущипнуть.
Искал-искал зуек себе место, потом отчаялся, взлетел и сел на снег, что по обе стороны от канавы лежит. А по снегу трясогузки бегают, комариков собирают. Зуек им приветливо: «пиу-пиу», они в ответ: «цвик-цвик» – давай, мол, к нам. Зуек приосанился, даже выше стал и принялся вместе с трясогузками за комарами гоняться.
С куликами не ужился, так хоть среди трясогузок своим себя почувствовал.
Драчуны
Ночью все кошки серы – зимой все турухтаны друг на друга похожи. Кулики как кулики. Пестренькие, голенастые. Тихие, мирные. Весной же самцы преображаются. Вокруг клювов у них вздуваются розовые бородавки, на шеях вырастают пышные ожерелья, по бокам головы невесть откуда поднимаются пучки длинных перьев – «ушей». И самое интересное, что наряд-то у каждого петушка особый. У одного он белый, у другого фиолетовый, у третьего еще какой-то.
Иным становится и характер самца. Чуть заметит самочку – заволнуется. Потом распустит воротник и давай бегать по берегу. Бегать негде – он на месте вертится. То присядет, то расправит крылья, а то трястись начнет, словно пыль стряхивает.
Самочка стоит в стороне, будто это ее и не касается. Но это так только кажется. Гляди, около самого азартного плясуна собрались уже три самочки, а у того, что лишь ногами шевелит, – ни одной…
Утром было холодно. Редкие снежинки падали в коричневую воду, и прилетевшие на Васькины ключи турухтаны вели себя спокойно. Прохаживались, склевывали тощих комариков или просто отдыхали. Правда, держались друг от друга отдельно. Турухтан с белым воротником – у переката, черный, словно пират, занял самое уютное место у обрыва, рыжий скромно пристроился в конце косы.
Но разгорелось солнце, вода покрылась невесть откуда взявшимися мошками, и турухтаны будто проснулись. Да и как не проснешься, когда только что у воды опустились четыре самочки? К тому же сели они как раз между белошеим и «пиратом». Те сразу же перья на себе взъерошили и в драку. Кружат, пыжатся, чтобы страшнее казаться. «Уши» у них поднялись рогами, клювы как пики торчат – держись! Белошеий первым ухватил соперника за воротник и дернул так, что тот еле удержался на ногах. «Пират» мотнул головой, вырвался и щипнул белошеего за крыло. Больно щипнул. Тот аж запищал. Затем, озлившись, притиснул «пирата» к обрыву, ткнул несколько раз клювом и поймал его… за язык. «Пират» сразу же крылья к земле – сдаюсь значит. А белошеему этого мало. Ухватился покрепче и давай таскать бедного турухтана по берегу.
Пока они вот так хороводились, рыжий их сосед подкрался к самочкам, что-то им хрюкнул и увел в самый конец канавы – отсюда и не видно.
Наконец белошеий отпустил язык «пирата», оглянулся, а самочек нет. Он подозрительно так уставился на соперника, но тот и сам ничего не поймет.
Сели турухтаны рядом, отдыхают. И невдомек им, что на другом конце канавы рыжего проныру в это самое время таскает за воротник турухтан с зеленым ожерельем, а к уведенным им курочкам воровато приближается красавец в фиолетовом наряде.
Хирург
Я с утра сидел у канавы и наблюдал за мородункой. Этот буроватый, покрытый пестринами кулик у нас редок. Примечателен он своим клювом. Слишком уж он курнос. Прямо крючком вверх загнулся. Любопытно было посмотреть, как мородунка таким клювом добывает червей. И еще я хотел угостить ее мухами.
Но мородунка не интересовалась едой. С криком «пузыри-пузыри» все время носилась вдоль канавы, словно кого-то искала. Потеряла пару, а может, отроду так непоседлива.
Неожиданно в пяти шагах от меня опустился хрустан. Почти каждый кулик имеет какое-то прозвище. Бекаса называют чиком или лесным барашком, веретенника – улиткою, а хрустана – глупой сивкою. Слишком уж он дурной, значит. Севший у канавы хрустан, по-видимому, был самочкой. Эти кулики вообще симпатичны, а самочки в особенности. Ярко-коричневая шапочка, белые полоски над глазами и на груди, аккуратный клювик делали птицу прямо вызывающе красивой.
Птица сразу же принялась за поиски редких мошек. И тут я заметил, что она хромает. На левой лапке у нее темнел какой-то комок. Кажется, это обрывок сети. Бедная птичка! Стоит ей зацепиться за куст, и она погибла! А что, если ее выручить? Совсем недавно мы с Генкой ловили здесь бекаса, приспособленный под ловушку ящик так и остался лежать на берегу.
Устанавливаю насторожку, высыпаю под ящик десяток мух и протягиваю нитку к засидке. Птицы уже привыкли к ящику и совсем его не боятся. Два крупных песочника сразу же забрались в ловушку и клюют мух. Следом за песочниками под ящик нырнул и хрустан. Дергаю нитку – и добыча в руках.
Нет, на лапке не сетка, а какая-то трава. Намоталась она давно и вся перемазалась илом. Осторожно отдираю, тонкие стебельки. Что это? На середине ножки у хрустана утолщение. Похоже, она совсем недавно была повреждена. Точно. Примерно месяц тому назад хрустан сломал ногу и сам себе наложил шину. Сделал он это умело, как настоящий хирург…
Слышал ли кто-нибудь, чтобы хоть один из славившихся смекалкой зверей сам себе перевязал лапу? Я не слышал. Вот тебе и глупая сивка!
А тот стебелек, что был на лапке у хрустана, я храню и сейчас. Ведь месяц тому назад хрустан был еще в Африке или Египте. И может быть, вырос стебелек на берегу самого Нила.
Плавунчики и чирки
Говорят: любит воду как утка. А кулик? Что кулик? Это же болотная дичь. Ему воды всего-то чуть-чуть и нужно. Лишь бы клюв сполоснуть. Утка совсем другое дело. Недаром ее водоплавающей зовут…
Сижу у канавы и наблюдаю за плавунчиками. Их восемь. Растянулись цепочкой поперек канавы и ловят водяных клещей. Ручей лениво так струится в сторону реки, несет их прямо под клювы плавунчикам. Хватай, не зевай! Те и не зевают. Взмах кругленькой головки на высокой шейке, тюк – и нет клеща. Снова – тюк, тюк, тюк… Я снял часы и принялся считать, наблюдая за самым ближним плавунчиком. За минуту он тюкнул восемьдесят шесть раз. И не промахнулся ни разу. А завтракали они более получаса. Перемножил я и сам себе не поверил. Ну и ну!
Чуть в стороне кормятся чирки. Эти головы у самого берега в воду сунули, ил через клювы процеживают и таскают на завтрак всевозможные корешки. Поели, на берег выбрались, друг на дружку головы положили и уснули. Ну и пусть спят. Им к ночи снова в путь отправляться.
Кулики тоже наелись, спустились к перекату и принялись купаться. Перья на себе взъерошили, крылья расставили и бултых в воду. Вынырнули и заплескались. Машут головами, крутят шеями, трясут крыльями. Только брызги в стороны летят. И, кажется, такое блаженство испытывают, словно сто лет воды не видели.
Закончили кулики купаться, домываться стали. Зачерпывают клювиками воду и промывают перышки на груди, животе, под крыльями. Серьезные, ужас!
Но вот, кажется, помылись. С легким паром вас! Пора бы и отдохнуть. Рядом сухой берег, трава. Выбирайся из канавы и спи себе на здоровье. Так нет же. Гляжу, самый крайний что-то по перекату высматривает. Отыскал лежащий под водой камушек, уцепился за него лапкой и начал укладываться. Голову под крыло сунул, несколько раз качнулся, словно устраивался получше, и задремал. Спит и лапкой за камушек держится. Он плавунчику якорем служит, чтобы во сне водой не унесло.
Так кто, скажите мне, больше воду любит – утки или вот эти плавунчики? Кто из них самые водоплавающие?
Два старичка
Есть у меня два знакомых старичка. Один – Петрович, дворник наш. Как-то я заглянул к нему в гости. Сидит он у окна, чай с брусничным вареньем пьет. Хорошо у него, В печке дрова горят, пощелкивают, на стене часы-ходики минуты отсчитывают, на подоконнике кот умывается.
– Здравствуй, – говорит Петрович. – Молодец, что дорогу не забываешь. Я как увидел, Мурлыка умывается, даже чашку для тебя приготовил. Наливай чаю да садись, отведай моего варенья.
Стал я чай наливать, а на плите рядом с кастрюлями лежит камень. Обыкновенный плоский голыш с тарелку величиной.
– Зачем это ты, Петрович, булыжник здесь держишь?
Дворник хитро так прищурился и отвечает:
– Не булыжник это, а доктор мой. Как спина заболит, я камень нагрею, к спине приложу – и все как рукой снимет.
– Но для этого же грелка есть.
– Что мне твоя грелка? Вода да резина. Камень – другое дело. В нем тепло нутреное. И держится долго, и отдается равномерно…
В начале лета приехал я к Васькиным ключам. Пусто там. Все кулики кто куда разлетелись: турухтаны с песочниками в тундру, черныши с кроншнепами в тайгу, хрустаны в сопки.
Подошел я к перекату, и вдруг из-под самых ног зуек-галстучник: «фр-р-р». Метров десять пролетел и сел у воды. Глянул я на землю, а там галстучников гнездо. Вернее, никакого гнезда нет. Просто маленькая ямка, а в ней яички, вперемешку с камушками лежат.
«Вот это лодырь, – подумал я. – Даже камни не убрал. Дай-ка я тебе подсоблю».
Наклонился, один камушек в руку взял, а он теплый, прямо горячий. Тут я и вспомнил Петровича. Да ведь зуек эти голыши специально в гнезде держит. Есть ему захочется, нужно с гнезда слетать. А на Севере лето холодное. Яички вмиг застынут. Вот он эти камушки и приспособил под грелку. Греет кулик яички, а оставит гнездо, камни свое тепло яичкам отдают.
Вот какие мудрые кулики у нас водятся!
– А где же другой старичок? – спросишь ты.
Видел ли когда-нибудь, как зуек на берегу сидит? Нахохлится, голову втянет, спину сгорбит. Ну настоящий тебе старичок…
Перевал
К озеру Алык ведут две дороги. Одна идет по распадку, другая через Глухариный перевал. За перевалом еще один поворот – и уже озеро. Та дорога, что в распадке, намного длинней, зато легче. Шлепай себе по напоенному талой водой мху да поглядывай, чтобы не влететь прямо в лапы отощавшему после зимней спячки хозяину тайги. Выбравшись из берлоги, медведи совершают здесь переходы из Буюндинской долины к нерестовой реке Яме. Там растут ели и снег сходит еще в начале апреля. Вот они и торопятся встретить весну чуть ли не на полмесяца раньше.
Через перевал дорога короче, но на спуске зима оставила такие глубокие снежники, что в самом, казалось бы, безопасном месте можно сломать себе шею.
Я долго стою у развилки, не зная, то ли спускаться в распадок, то ли заворачивать к перевалу. Наконец решаю, что медведь все же страшнее, и карабкаюсь на сопку.
Гребень перевала покрыт одеялом колкого ягеля, из которого выглядывают темно-зеленые лапы кедрового стланика. На чахлых ветках желтеют оставшиеся с осени шишки. Там, внизу, их давным-давно собрали бурундуки и кедровки.
Иду по вершине гребня, срываю шишки и поглядываю по сторонам. Слева от меня северный склон – сивер, справа – увал. На увале весна в полном разгаре. Журчат ручьи, качается поднявшийся в полный рост кедровый стланик, цветут первоцветы и даже помигивает крыльями бабочка. А уж птиц! Зеленые коньки, пеночки, дрозды, кедровки. Тенькают, свистят, порхают.
По левую руку самая настоящая зима. Сверкающий под солнечными лучами снег, мерзлые угрюмые лиственницы, тонкие прутики карликовой березки. Но и на сивере постукивают дятлы, скрипят кедровки, о чем-то распевает неугомонная кукша. Кажется, чего проще – взмахни пару раз крыльями и перелетишь в весну. Они же не догадываются об этом. А может, здесь их родина и они терпеливо ждут, когда и сюда придет весна?
Только что к ним присоединилась трясогузка. На снегу россыпь невесть откуда взявшихся ногохвосток, и снежная плешина кажется трясогузке скатертью-самобранкой. Крестики от птичьих лапок – кружевные узоры, веточки карликовой березки – бахрома, а ногохвостки – мед-пиво и гуси-лебеди, поданные на стол заморской гостье.
Вот на снегу пробитая каким-то зверьком дорожка. Следы мне незнакомые. У белки они гораздо крупнее, у полевки мельче. Дотянувшись до суховерхой лиственницы, следы обрываются. У самого корня отпечатки широких крыльев и клочок светло-коричневой шерсти. Бурундук! Захотел прогуляться из весны в зиму, пробежал всего лишь чуть-чуть и попал в когти к сове.
В конце гребня лежит большой серый камень, сразу за ним начинается крутой спуск. Пробую валенком, крепок ли наст, последний раз гляжу на залитый солнцем южный склон и, улегшись на живот, качу прямо в зиму.
Трясогузкины сны
Весна, теплынь. Одна за другой плывут источенные водой и солнцем льдины по спрятавшемуся в тальниковые заросли Сурчану. Сразу за поворотом он вливается в полноводную реку Буюнду.
На маленькой реке тихо и уютно, на большой гуляет ветер.
У самой кромки большой льдины, что качается посередине Сурчана, сидит возвратившаяся из далекой Африки трясогузка. Она уже наелась, пригрелась и дремлет. Вода медленно кружит льдину, вместе с ней кружится и трясогузка. То одним боком повернется к солнцу, то другим. Хорошо!
Но вот «птичий кораблик» доплыл до большой реки, волны качнули его, трясогузка проснулась, вспорхнула и полетела вверх по тихому Сурчану на поиски новой льдины. Пропустила несколько, на мой взгляд, совершенно замечательных льдин и скрылась в зарослях. Я думал, она улетела совсем, но минут через пять сверху выплыл настоящий айсберг, а на нем знакомая мне длиннохвостая птичка. Пристроилась на самую вершину, втянула голову и спит. Наверное, ей сейчас видятся берега Голубого Нила.
Как совсем недавно там, в далекой Африке, снились трясогузке окруженная заснеженными сопками тайга, склонившаяся над рекой лиственница и плывущие по воде ноздреватые льдины…
Родничок
На спуске к Горелым озерам, как раз посреди тропы, пробивается родничок. Серьезный! Обычно голос у родничков звонкий, веселый. Этот же ворчит, словно старый дед: «бум-бурум, бум-бурум!»
Рядом разлилось «озерко». Вода в нем прозрачная, дно желтыми песчинками усыпано. Из-за этих-то песчинок «озерко» далеко видно, будто солнце на тропе играет.
Как-то в сторону Горелых озер прошел небольшой медведь. Где ногой ступил, следы оставил: на болоте только ямки, на косогоре уже пальцы пересчитать можно, а в «озерке» и коготки заметны. Я, как след увидел, насторожился. Обычно малыш в одиночку не гуляет, встретиться же с медведицей – радости мало. Но ничего, обошлось.
На другой год, как только прошумел первый майский дождь, я прихватил удочки и отправился к озерам. Вода давно размыла все следы, кроме отпечатка медвежьей лапы в «озерке». След четкий, словно час назад оставлен. Вот круглая пятка, чуть впереди пальчики веером развернулись, у каждого пальчика коготь бороздку провел.
Вот она какая, вода! В одном месте следы начисто уничтожила, в другом – как будто на память сберегла. Мне даже представилось, как дождинки солдатиками над этим следом выплясывали, а достать не смогли.
Постоял я у «озерка», полюбовался отпечатками медвежьей лапы, а потом вдруг взял да и встал в «озерко» Сапогом. Пусть, мол, и мой след вода сбережет.
Кедровка, что наблюдала за мной с ближней лиственницы, аж подпрыгнула от возмущения. Смотрю на нее, слушаю, а что она кричит, не пойму. Может: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней»? А может, ей обидно, что оставить свой след рядом с медвежьим раньше меня не догадалась?
Июнь

Первый месяц короткого северного лета. Самый светлый, самый радостный, самый звонкий месяц года. От зари до зари поют возвратившиеся из теплых краев птицы, деревья и кустарники одеваются в изумрудные одежды, появляется потомство у большинства живущих в тайге зверей и птиц.
Белка
В гривке высокоствольных лиственниц тишина. Только позванивает приблудившийся с ближнего болота комар да чуть слышно журчит спрятавшийся в зарослях ольховника ручеек. Почти у самой вершины разлапистой лиственницы темнеет гайно. Сегодня на рассвете в нем народилось трое бельчат. Слепые, голые и беспомощные, сбились они под животом матери-белки и спят, согретые ее теплом. Растут и развиваются бельчата медленно. Только на тридцатый день откроют они глаза, а из гнезда выйдут почти в двухмесячном возрасте. Все это время белка будет держаться возле малышей. Отлучится на минутку утолить голод, попить из ручейка воды и снова в гнездо. Да все тихо, все тайно, словно и нет ее.
Вороны
Зимой браконьеры убили лося и привезли в поселок. Мясо съели, а шкуру и потроха вывалили в яму, что рядом с Щучьим озером. Росомахи и лисы так близко к человеческому жилью подходить опасаются, поэтому никто, кроме вездесущих кедровок, к останкам лося не заглядывал. В апреле о браконьерской утайке проведала пара воронов и невдалеке от ямы свила гнездо. Сейчас от лося остались только россыпь светло-серой шерсти да проломленный в двух местах череп.
В гнезде четверо крупных воронят. Они требуют еды, и ворон мечется над тайгой в поисках поживы. А еще ворониха. С той поры, как на мягкой подстилке появилось первое яичко, до сегодняшнего дня она лишь изредка покидала гнездо, предоставив ворону заботиться о пище для всей семьи. Теперь голодная птица решила, что можно на час-другой оставить птенцов. Глядишь, за это время удастся добыть нескольких полевок. Но ворон никак не хочет с этим согласиться. Лишь только самка с гнезда, он с угрожающим карканьем мчится к ней, бьет крылом и гонит к воронятам.
Крик и гам стоят у Щучьего озера…
Снежные бараны
Всю зиму возле Горелых озер держалось небольшое стадо снежных баранов. Днем эти грациозные животные отдыхали среди нависших над долиной скал, а утром и вечером паслись. Долго и старательно выщипывали редкую травку по склонам сопок или спускались к самым озерам и рыли в снегу глубокие ямы-копанки. Здесь трава побогаче. Среди осоки и пушицы встречались кустики иван-чая, продолговатые листья дикого щавеля, тройчатые листочки клевера. По другую сторону озер поднимался густой лиственничник, он закрывал обзор, и привыкшие к простору животные чувствовали себя у богатых копанок неуютно. Чуть попасутся и сразу же убегают на взгорок. Стоят, вглядываясь в частокол деревьев, тянут воздух, а в больших темных глазах тревога.
К скалам бараны возвращались одной и той же тропой, и на склоне сопки легла далеко заметная выбитая бараньими копытцами дорожка.
В стаде снежных баранов три взрослые овцы, ярочка и четверо ягнят. Ярочка и ягнята ложились за одну из гранитных глыб, овцы устраивались здесь же, но поближе к вершине. Одна из них поднималась на скальный выступ и сторожила всех. Со временем ее заменяла другая овца.
Молодым охрану почему-то не доверяли, да, по-видимому, они и не стремились к этому. Лежат, жуют жвачку или дремлют, положив головы на покрытые теплой шерстью бока.
Весной овцы оставили ягнят. У них скоро должны были появиться другие малыши, и годовалым баранам пришло время заботиться о себе самим. Ярочка недели две походила за поредевшим стадом, затем тоже направилась в сторону синеющих на востоке сопок.
Теперь травы сколько угодно. Свежая и сочная, она покрывает сопки от подножия до самой вершины. Молодые бараны быстро наедаются и отправляются на отдых, но не в скалы, а к темнеющей чуть выше озер каменистой осыпи. Ложатся на продуваемый теплым ветром бугорок и спокойно спят.
А охрана?
Есть и охрана. В осыпи колония пищух-сеноставок. Подвижные, зверьки все время начеку. Прошумит ли над водой стайка уток, забредет ли в долину одинокий лось – сразу заметят и поведают об этом всему миру.
Спят молодые бараны и, кажется, не обращают никакого внимания на пересвист беспокойных пищух. Но вот у озера появился человек: в руках удочка, за спиной ружье. Одна из пищух вопросительно свистнула, другая ответила ей, и тотчас баранов-засонь как ветром сдуло. С кочки на кочку, с камня на камень – и уже у скал. Стоят, тянут воздух, стараются узнать, от кого же это они убегали?
Человек немного порыбачил и ушел. Опять пищухи сообщили об этом всему миру, бараны цепочкой спустились к осыпи и снова спят, подставляя бока июньскому солнцу.
Лисицы и утка
Чуть ниже озер старая вырубка. Она успела покрыться карликовой березкой, ольховником и мелким лиственничником. Выбитые гусеницами тягачей многочисленные дороги взялись густой пушицей, а в ее зарослях нашли убежище целые колонии полевок.
Под штабелем потемневшего от времени тонкомера – тонких жердей – лисья нора. Быстроглазая и пышнохвостая лиса-сиводушка, сопровождаемая огромным светло-рыжим лисом, спустилась сюда с Ледникового перевала, и теперь старая вырубка – ее владения. Неделю назад сиводушка принесла шестерых лисят, кормит их, вылизывает, греет своим телом. Лис еще не видел малышей. Услышав их писк, он сунулся было в нору, но сиводушка зарычала и показала острые зубы. Тот обиженно посмотрел на нее и побежал охотиться на полевок.
А с другой стороны вытекающего из озер ручейка гнездо чирка. В нем девять небольших с зеленоватым отливом яиц. Утка давно заметила лис – до штабеля тонкомера не больше пятидесяти шагов, – но гнездо покидать и не подумала.
От лисьей норы несет резким неприятным запахом. Нет, лиса – зверь аккуратный, и взрослого зверя трудно учуять даже самому чуткому носу. Но вот лисята, те даже не пахнут, а просто воняют.
Весь год, и в жаркую погоду и в холодную пору, утка старательно смазывала свои перья нежным ароматным жиром, теперь же словно забыла о своем ежедневном «туалете». Перо потеряло блеск, потемнело. Если случается дождь, оно намокает, и утке холодно. Кажется, долго ли смазать перья? Так нет же, терпит.
Вчера вдоль ручья брел тощий медведь. Он заметил лисью нору и сделал несколько шагов в сторону штабеля, но тут же остановился и замотал лобастой башкой. Даже голодному медведю запах лисят показался слишком отвратительным.
Затаившейся утки медведь не учуял, хотя был от нее в каком-то метре и ветер тянул в его сторону. А уж от утиных яиц косолапый лакомка не отказался бы…
Хариус
В начале лета начинается нерест хариуса. Эта рыба любит холодную чистую воду и встречается почти во всех реках и озерах Севера. Хариус – близкий родственник горбуши, кеты, форели, мальмы, тайменя, ленка и других представителей замечательного семейства лососевых. Продолжительное время ученые даже числили их вместе, но потом решили, что хариус все же имеет отличительные признаки, и выделили его в отдельное семейство.
Для одних людей хариус – всего лишь ароматная и вкусная уха, для других – встреча с рыбой-молнией, рыбой-радугой, рыбой-плясуньей. В Ягоднинском районе есть красивое озеро, у которого в теплые летние вечера можно любоваться танцующими хариусами. Охотясь за мотыльками, комарами и мошками, хариусы свечой выскакивают из воды и со звонким всплеском падают обратно. Вода кипит от танцующих рыбин; просвечиваемые тучами заходящего солнца брызги играют радужными цветами; потревоженная мошкара вьется над озером, словно тоже захвачена неистовой пляской. Это озеро так и называется – озеро Танцующих Хариусов.
Хариус – одна из самых пестрых и красивых рыб, населяющих водоемы нашей страны. Верх его прогонистого тела темный, бока и живот серебристо-белые. Серо-зеленая спина несет плавник удивительной величины и окраски. Здесь все цвета: черный, оранжевый, красный, фиолетовый, зеленый, желтый. Разнообразны по расцветке и остальные плавники. Бока хариуса украшены россыпью черных, как будто покрытых смолой пятнышек, нередко эти пятнышки переходят и на спинной плавник. Любопытно, что в одной и той же реке можно поймать серебристо-стального, желтого, пестрого, как попугай, и почти черного хариусов.
В наших озерах и реках водится восточно-сибирский хариус. У него самая мелкая чешуя, спинной плавник сильнее смещен к переднему концу, он больше других хариусов варьирует в окраске.
Очень похож на него американский хариус, населяющий реку Юкон и реки Канады. Многие ученые считают, что этих хариусов стоит объединить в один вид.
Чаще всего на удочки рыболовов попадают хариусы весом не более одного килограмма. Но иногда встречаются и очень крупные экземпляры. Известен случай, когда поймали хариуса весом почте в пять килограммов.
А если это любовь!
На склонах сопок уже расцвели фиолетовые прострелы, но озеро еще покрыто толстым ноздреватым льдом. Лишь у истока темнеет небольшая проталина. Там мелко. И весь плес можно перейти в болотных сапогах.
К полудню вода в проталине прогревается, и сюда устремляются легионы хариусов. Крупные оранжевоперые рыбы неторопливо плавают вдоль берега, подставляя солнцу настывшие за зиму спины. Сейчас утро. Проталина пустует, и мне особенно некуда торопиться. Развожу костер, набираю в чайник воды и, лежа на смолистом лапнике, любуюсь баранами. Два толсторога в пышных шубах, чуть приседая на задние ноги, взбираются на скалистый выступ. До животных метров триста, может, немного больше. Их отлично видно даже без бинокля. Бараны не успели вылинять, и светлая зимняя шерсть соседствует с более темной – летней. Позади длинная голодная зима, но что-то не очень заметно, чтобы они похудели.
Всплеск у края проталины. Хариус! Хватаю удочку и, стараясь не греметь сапогами, подкрадываюсь к плесу. Вижу на дне россыпь мелких камней, обкоренную лиственницу, но хариуса нет. Куда же он подевался? Подтянув отвороты сапог, ступаю в воду и бреду к середине плеса. Ага, вот он! Ну и рыбина! Рядом еще одна. Он и она. У него возле рта белые пятнышки, она чуть темнее и меньше его. Постояли немного, затем неторопливо направились в обход плеса. Она чуть впереди, он все время прижимается к ее боку.
Поправляю наживку и забрасываю удочку навстречу рыбам. Лишь только обманка коснулась воды, один из хариусов стремительно метнулся к ней. Я быстро подсек, и удилище заиграло от сильных и частых рывков. В воде мне с этой добычей не справиться. Отступаю к берегу, стараясь одновременно утомить рыбу. Наконец сапоги шуршат о прибрежные кусты, и вскоре хариус у меня в руках.
Ура! Я с ухой. Что может быть вкуснее сваренной на рыбалке ухи? Опускаю рыбу в висящую через плечо сумку и снова лезу в воду. Не ушел бы второй. Нет, гуляет, красавец. Туда-сюда плавает, словно меня ищет. Забрасываю приманку, хариус кидается к мормышке, но, даже не коснувшись ее, поворачивается и плывет ко мне. Застываю на месте, чтобы неосторожным движением не вспугнуть рыбу. Подплыла и остановилась как раз подо мною. Потыкалась в один сапог, затем в другой и замерла. Ну и великан. Спинной парус не меньше ладони. Коричневые перышки перехвачены яркими изумрудными перетяжками. Эти перетяжки отсвечивают. Плавник на широкой спине напоминает гребень доисторического ящера.
Хариус направляется к затопленному дереву и принимается описывать там неширокие круги. В это время над водой пролетела трясогузка, и ее тень быстро заскользила по каменистому дну. Хариус вздрогнул и метнулся за тенью. Он догнал ее у берега, но тень вдруг исчезла, и рыбина растерянно закружилась на месте.
Трясогузка поймала на приплеске пару мошек и снова неторопливо полетела над водой. Опять хариус кинулся за тенью и у берега остался ни с чем.
Придерживая отвороты сапог, я направился к хариусу, но стоило мне чуть плеснуть водой, как он оказался у моих ног.
Здесь меня осенило. Торопливо расстегиваю сумку, вынимаю уже уснувшую рыбину и осторожно кладу ее на воду. Хариус стоит рядом, не обращая на мои движения никакого внимания. А может, как раз они и привлекают его? Мертвая рыбина, чуть качнувшись, ушла в воду и опустилась на камни. Хариус мгновенно бросился к ней, несколько раз боднул, словно старался разбудить. Но та лишь покачивалась от его толчков, оставаясь безучастной и к хариусу и ко всему окружающему миру.
Я протянул руку, норовя поймать хариуса, но в этом месте было слишком глубоко, и мои пальцы лишь коснулись широкого плавника. Это касание заставило опомниться оранжевоперого великана, и он, сверкнув серебристым брюшком, исчез.
Долго стоял я среди плеса, вглядываясь в воду, но хариус больше не появился.
Ухи в тот день я так и не попробовал.
Перевоспитанные воспитатели
Нужно было готовиться к новому сенокосу, и я отправился рубить бревенчатые настилы для стогов сена. Начать решил с Хитрого ручья. От дома недалеко, а главное, представлялась возможность заняться тамошними хариусами. Очень уж они разноцветные, да и повадками друг на друга не похожи.
Ручей назвали Хитрым, потому что на протяжении какого-то километра он умудряется четыре раза спрятаться под землю. Сначала он течет, как всякий обыкновенный ручей. Где глубже, где шире. Рыба в нем плавает, ручейники по дну ползают. И вдруг возле тополиной рощи он ныряет в россыпь камней и исчезает. Был ручей, и нет его. Пройдешь немного и опять на ручей натыкаешься. Снова он с рыбой, снова с козявками разными. Словно и не думал прятаться.
Я спрашиваю у косарей: каким образом рыба попадает в верховья Хитрого? Они говорят, что ничего особенного в этом нет. Мол, там под землей такие тоннели – человек пронырнет. Вот рыба туда-сюда и плавает.








