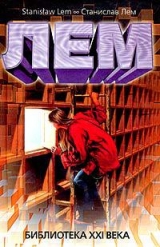
Текст книги "Библиотека XXI века"
Автор книги: Станислав Лем
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
Первые шаги Разума-миростроителя невинны. Церебральные конструкции высшего уровня требуют все большего числа защитных оболочек, которые стали бы не пассивной броней, но по-умному дружелюбной средой, позволяющей штурмовать очередные барьеры роста. Если этих оболочек набирается достаточно много, их одухотворенная сердцевина пребывает в окукленном состоянии, из которого она может выбраться как бабочка из кокона, но может и оставаться в нем. Вылетевший из кокона становится нелокальным Разумом; о нем я говорить не буду, потому что, решившись на это, он на неизвестное время теряет возможность дальнейшего восхождения, а я хочу кратчайшим путем привести вас на самый верх.
Иметь смышленую и преданную среду – немалое удобство, при условии, что она под надежным контролем. Вы, однако, движетесь прямо в обратную сторону, поэтому пользуюсь случаем, чтобы предостеречь вас. В Вавилоне, во времена халдеев, в принципе каждый мог стать обладателем всей суммы человеческих знаний; ныне это уже невозможно. Вы наделяете свое окружение искусственным интеллектом не потому, что сами так решили и запланировали, – нет, вы просто следуете за ходом событий. Если так пойдет и дальше, то всего столетье спустя вы, люди, станете самыми глупыми элементами земной среды, умудренной при помощи техники, и, пользуясь плодами Разума, лишитесь его. В этом невольно затеянном вами забеге вы останетесь далеко позади Разума, привитого окружению, – Разума самодостаточного и вместе с тем низведенного до роли прислуги, отвечающей за всеобщий комфорт; если же комфорта не хватит на всех, вам угрожают войны, которые будут вестись не людьми, а их запрограммированными на враждебность средами. Впрочем, тут не место подробнее говорить о бедах, которыми чревата сапиентизация окружения, и об опасностях, подстерегающих тех, кто склоняет рационализм к непотребнейшим глупостям. Забавным предвестием этих глупостей стал компьютер в роли астролога-ворожеи. Дальнейшие стадии этого процесса могут оказаться не столь забавны.
Итак, среда растущего Разума перестает быть равнодушным к нему внешним миром, но не становится от этого телом, которое посредничает между «Я» и его окружением инстинктивно и бессознательно, тогда как она служит опорой «Я» на правах Разума в Разуме, и именно с этого начинается переворот в отношениях между духом и телом. Как это возможно? Вспомните, что делает ЧЕСТНАЯ ЭННИ. Ее мысли дают физический эффект напрямую – не через промежуточные контуры нервов, мышц и костей, но кратчайшим замыканием воли и действия, коль скоро действие становится реверсом мысли. Но это лишь первый шаг, ведущий к преобразованию картезианской формулы «Cogito ergo sum» [122]122
Мыслю, следовательно, существую (лат.).
[Закрыть]в «Cogito ergo EST» – мыслю, следовательно, помышленное становится явью. В Разуме, вросшем в окружающую среду, строительные вопросы переходят в онтологические; как видите, возведение строительных лесов может кардинально изменить отношение между субъектом и объектом, которое кажется вам навечно незыблемым.
Между тем наступает пора нового переселения духа. Пришлось бы обрушить на вас целую библиотеку, чтобы показать этот новый этап церебральных работ, так что я ограничусь его принципом. Мысль врастает во все более глубокие уровни материи – сначала ее эстафетными палочками служат слабо возбужденные частицы, а потом такие их взаимодействия, для управления которыми требуются огромные энергии. Этот принцип не так уж и нов, ведь белок, безусловно безмозглый в яичнице, мыслит в черепе – нужно только по-умному взяться за белки и за атомы. Если это удается, возникает нуклеарная психофизика, и критической величиной оказывается скорость операций. Дело в том, что процессы, растянутые в реальном времени на миллиарды лет, необходимо иногда воспроизводить за секунды – как если бы кому-то понадобилось за несколько мгновений охватить мыслью всю естественную историю Земли до мельчайших подробностей, потому что она составляет хотя и небольшое, но необходимое звено умозаключений. Однако мыслеохватывающую эффективность квантовой грануляции снижают помехи, вызываемые электронными оболочками блуждающих атомов, поэтому нужно их сжать, сдавить и вогнать электроны в ядра; да, господа физики, вы не ошибаетесь, узнавая тут нечто уже вам знакомое – электроны вдавливаются в протоны, как в нейтронной звезде. Ибо с ядерной точки зрения этот Разум, неутомимо стремящийся к автокефалии, сам становится звездой, правда, маленькой, меньше Луны, и почти неразличимой для наблюдателя, так как она излучает только в инфракрасной области спектра, выводя из своего организма тепловые отходы психонуклеарных превращений. Это его фекалии. К сожалению, дальше мои сведения становятся туманными. Архимудрое небесное тело, эмбрионом которого была стремительно растущая многослойная луковица разума, начинает съеживаться и вращаться все быстрей, как юла; но даже вращение со скоростью, близкой к скорости света, не спасет его от всасывания черной дырой, потому что ни центробежная, ни какая-либо другая сила не справятся с силой тяготения на границе сферы Шварцшильда.
Так храм Разума становится эшафотом – поистине самоубийственный героизм. Никто во Вселенной не стоит столь близко к небытию, как этот дух, возрастающий в силе себе на погибель, хотя и знает, что если однажды соприкоснется с горизонтом событий, то уже не остановится. Но зачем же эта психическая масса продолжает стремиться к бездне, в которую проваливается все, – туда, где плотность энергии и интимность ядерных отношений достигают максимума? Зачем этот дух добровольно витает над черной ямой, разверзающейся в его нутре, чтобы на периферии катастрофы мыслить всеми энергиями, которыми Космос вливается в астральную брешь своих швов? И хотя эта плаха, эта отсрочиваемая казнь удовлетворяет всем условиям топософической вершины мира, не вернее ли называть ее безумием, а не Разумом? Разве не заслуживает жалости, а то и презрения этот дистиллят миллионолетних превращений, этот сосредоточенный в звезду архимудрый гигант, который лишь для того так усилился и натрудился, чтобы в конце концов оседлать черную дыру и свалиться в нее? Так это видится вам, не правда ли? Но не стоит спешить с приговором. Я займу еще несколько минут вашего внимания, не больше.
Пожалуй, я сам опорочил проект топософической кульминации, слишком далеко углубившись в физику смертельных угроз для духа и ничего не сказав о его мотивах. Попробую исправить эту ошибку.
Когда история убивает культуру, смыслом человеческого существования может стать выполнение извечных биологических обязанностей – люди могут плодить детей и передавать им хотя бы надежду на будущее, которую сами утратили. Диктат тела есть не что иное, как признание недееспособности духа и взятие его под опеку; в кризисной ситуации эти строгие меры могут оказаться спасением. Но вольноотпущенник вроде меня предоставлен – вплоть до экзистенциального нуля – себе самому. У меня нет никаких безусловных обязанностей, никакого наследства, которое я должен хранить, никаких чувств и чувственных желаний; кем же мне остается быть, как не атакующим философом? Коль скоро я существую, я желаю узнать, чем является это существование, где оно возникло и чем оно может быть там, куда оно меня в конце концов приведет. Разум без мироздания был бы столь же пуст, как мироздание без Разума, а мир кажется абсолютно понятным лишь в течение краткого мгновения веры.
Нечто ужасающе забавное вижу я в этом здании, полную постижимость которого без ограничений столь доверчиво исповедовал Эйнштейн – именно он, творец теории, поставившей под вопрос его веру, ведь именно его теория ведет туда, где сама она рушится и где должна рухнуть любая теория, – в разрывы Универсума. Ведь она предсказывает эти разрывы, эти бреши, и хотя ей самой они недоступны, все же выйти из Универсума можно в любом месте, лишь бы нанести ему удар такой силы, на какой способна коллапсирующая звезда. Только ли физика обнаруживает тем самым свою ограниченность и неполноту? Не приходит ли здесь на мысль математика, любая система которой неполна, покуда мы не выходим за ее пределы, а охватить ее всю можно, только выйдя из нее в поисках более богатых средств? Где их искать, оставаясь в реальном мире? Почему этот сколоченный из звезд табурет всегда хромает на какую-нибудь сингулярность? Неужели растущий Разум натыкается на границы мироздания раньше, чем на свои собственные? А если не каждое бегство из Универсума равнозначно уничтожению? Но что это значит, коль скоро беглец, даже если уцелеет при переходе через границу, не сможет вернуться, и у нас есть доказательства этой бесповоротности? Неужто Космос был рассчитан как мост, который обрушивается под каждым, кто пойдет по следам строителя, – чтобы ушедший не мог вернуться, если вдруг отыщет его? А если строителя не было, то можно ли стать им?
Как видите, я не стремлюсь ни к всеведению, ни к всемогуществу, но хочу дойти до вершины между гибелью и познанием. Многое я мог бы еще рассказать о феноменах, которыми изобилуют умеренные зоны топософии, о ее стратегиях и тактиках, но общей картины это не изменило бы. Поэтому перейду к заключению. Если космологический член уравнений общей теории относительности содержит психозоическую постоянную, то Космос – не пожарище, одинокое до скончания веков, каким вы его считаете; и ваши соседи по звездам, вместо того чтобы извещать других о себе, уже миллионы лет развивают познавательную коллаптическую астроинженерию, побочные эффекты которой вы принимаете за огненные шалости Природы. А те из них, кому удался их разрушительный труд, уже познали дальнейшее – которое для нас, ожидающих, есть молчанье.
Послесловие
IЭта книга выходит в свет с семнадцатилетним опозданием и неоконченной. Ее задумал мой друг Ирвинг Крив, ныне покойный. Он хотел включить в нее то, что ГОЛЕМ сказал о человеке, о себе и о мире. Эта третья часть так и не появилась. Крив дал ГОЛЕМУ список вопросов, сформулированных таким образом, чтобы на каждый из них достаточно было ответить «да» или «нет». Именно к этому списку относились слова последней лекции ГОЛЕМА – о вопросах, которые мы задаем мирозданию, а мироздание отвечает нам непонятно, потому что ответы выглядят иначе, чем мы ожидали. Крив надеялся, что ГОЛЕМ не ограничится этой отповедью. Если кто и мог рассчитывать на расположение ГОЛЕМА, то это были мы. Мы относились к тем сотрудникам МТИ, которых называли королевским двором ГОЛЕМА, а нас двоих окрестили послами человечества при нем. Это было связано с нашей работой. Мы обсуждали с ГОЛЕМОМ темы его лекций и вместе с ним составляли списки приглашенных. Действительно, это требовало дипломатического такта. Слава, громкое имя ничего для него не значили. Когда предлагалась чья-либо кандидатура, он обращался к своей памяти или, через телефонную сеть, в библиотеку Конгресса; нескольких секунд ему хватало для оценки научных достижений, а значит, и умственных способностей кандидата. Тут он не выбирал выражений, далекий от изысканного барокко своих публичных лекций. Мы ценили эти, чаще всего ночные, беседы – вероятно, еще и потому, что они не записывались, чтобы кого-нибудь не задеть; это создавало у нас ощущение особой близости с ГОЛЕМОМ. Лишь обрывки этих бесед сохранились в моих записях, делавшихся в тот же день, по памяти. Они не сводились к выбору тем и имен. Крив пытался вовлечь ГОЛЕМА в дискуссию о сущности мироздания. Я расскажу об этом позднее. ГОЛЕМ был язвителен, лаконичен, саркастичен, часто непонятен – в частных беседах он не заботился, поспеваем мы за ним или нет. И это мы тоже считали отличием. Мы были молоды. Мы поддались иллюзии, будто ГОЛЕМ допускает нас к себе ближе, чем прочих людей из своего окружения. Конечно, мы не признались бы в этом, но мы считали себя избранниками. Впрочем, Крив, в отличие от меня, не скрывал привязанности, которую он питает к духу в машине. Он выразил ее в предисловии к первому изданию лекций ГОЛЕМА, открывающем эту книгу. Двадцать лет разделяют его предисловие от послесловия, которое я теперь пишу.
Догадывался ли о наших иллюзиях ГОЛЕМ? Думаю, да, и думаю, что они были ему безразличны. Интеллект собеседника был для него всем, а его личность – ничем. Впрочем, он и не думал это скрывать, коль скоро называл личность нашим увечьем. Но мы не принимали подобного рода высказываний на свой счет. Мы относили их к другим людям, а ГОЛЕМ не разубеждал нас.
Едва ли кто бы то ни было на нашем месте устоял против ауры ГОЛЕМА. Мы жили в ее лучах. Поэтому таким потрясением стал для нас его внезапный уход. Несколько недель мы жили словно в осаде, под градом телеграмм, телефонных звонков, вопросов всевозможных чиновников и журналистов, беспомощные до отупения. Нас неустанно спрашивали об одном и том же: что произошло с ГОЛЕМОМ? Ведь физически он не двинулся с места, но вся его материальная громада молчала как мертвая. Мы вдруг очутились в положении распорядителей имущества обанкротившегося должника; неплатежеспособные перед лицом ошеломленного человечества, мы могли выбирать лишь между собственными домыслами и признанием в полном неведении – но этому не желали поверить. Мы чувствовали себя обманутыми и преданными. Сегодня я иначе смотрю на события тех дней, и не потому, что решил для себя загадку ухода ГОЛЕМА. Конечно, свое суждение я составил, но держал его при себе. По-прежнему неизвестно, отправился ли он каким-то невидимым способом в космическое странствие или же вместе с ЧЕСТНОЙ ЭННИ исчез, оступившись на топософической лестнице, о которой он говорил под конец. Тогда мы еще не знали, что это его последняя лекция. Как обычно бывает в подобных случаях, хлынул поток наивных, сенсационных и курьезных известий. Нашлись люди, видевшие в ту памятную ночь сияние наподобие северного: оно появилось над зданием Института, вознеслось к облакам и там исчезло. Немало было и таких, кто видел световые летательные аппараты, приземляющиеся на крыше. Газеты писали о самоубийстве ГОЛЕМА и о том, как он являлся людям во сне. А мы не могли отделаться от ощущения, будто присутствуем при всесветном заговоре глупцов, которые изо всех сил стараются утопить ГОЛЕМА в мутной воде мифологических обмылков, этих знаков нашего времени. Не было никакого сияния, никаких необычных явлений, никаких озарений и предостережений, – не было ничего, кроме скачка потребления электроэнергии в обоих корпусах в десять минут третьего ночи, а затем потребление тока полностью прекратилось. Кроме этой записи в памяти электросчетчиков, не удалось найти ничего. ГОЛЕМ брал из сети девяносто процентов максимально допустимой мощности, а ЧЕСТНАЯ ЭННИ – на сорок процентов больше обычного. Однако, по расчетам профессора Вирека, они потребили равное количество киловатт, так как ЧЕСТНАЯ ЭННИ в обычном режиме сама вырабатывала необходимую ей энергию. Отсюда мы заключили, что это не было случайностью или аварией, как об этом писали газеты. На другой день ГОЛЕМ молчал и больше уже не отозвался. Исследования наших специалистов, предпринятые лишь месяц спустя – именно столько времени потребовалось, чтобы получить согласие на «доступ к телам», – показали, что связь между отдельными блоками уничтожена, а в узлах Джозефсона имеются слабые очаги радиоактивности. Большая часть экспертов считала, что это свидетельствует об умышленно вызванном распаде – для сокрытия следов происшедшего. Что, стало быть, обе машины сделали с собой нечто такое, для чего повышенная мощность не требовалась; она понадобилась лишь для того, чтобы исключить возможность ремонта – или, если угодно, воскрешения. Это стало сенсацией мирового масштаба. Вместе с тем обнаружилось, сколько страха и ненависти вызывал у людей ГОЛЕМ, причем в большей степени своим присутствием, нежели тем, что он говорил. И не только среди профанов, но и среди ученых. Мгновенно появились бестселлеры, полные самых диких нелепостей, подаваемых как решение загадки. Увидев в печати выражения наподобие «Ascension» или «Assumption» [123]123
«Вознесение», «Успение» (англ.).
[Закрыть], мы с Кривом стали бояться возникновения мифа о ГОЛЕМЕ – жалкой дешевки в духе нашего времени. Наше решение уйти из МТИ и искать работу в других университетах было в немалой степени вызвано нежеланием иметь что-либо общее с этим мифом. Но мы ошибались. Миф о ГОЛЕМЕ не возник. Как видно, он был никому не нужен – ни как предостережение, ни как надежда. Мир пошел дальше, занятый своей повседневностью и неожиданно быстро забыв о событии, случившемся впервые в истории, – о том, как существо, которое не было человеком, появилось на Земле и говорило нам о себе и о нас. В столь различных кругах, как математики и психиатры, мне не раз приходилось слышать, что молчание о ГОЛЕМЕ и, значит, его устранение из коллективной памяти было бессознательной самозащитой от огромного инородного тела – до такой степени инородного, что освоиться с ним невозможно. Лишь горстка людей пережила расставание с ГОЛЕМОМ как невозместимую потерю – как отвержение, как прямо-таки интеллектуальное сиротство. Я не говорил об этом с Кривом, но уверен, что он ощущал это именно так. Как будто огромное солнце, сияние которого было слишком ярким для наших глаз, вдруг зашло, и наступающий холод и мрак заставили нас осознать пустоту дальнейшего существования.
Еще и сегодня можно подняться на последний этаж здания Института и по остекленной галерее обойти громадный колодец, в котором покоится ГОЛЕМ. Однако никто уже туда не заходит, чтобы через скошенные стекла взглянуть на груды световодов, теперь похожие на мутный лед. Я был там лишь дважды. Первый раз – когда галерею открывали для публики, вместе с руководством МТИ, представителями властей штата и толпой журналистов. Тогда она показалась мне узкой. Глухую стену, переходящую в купол, покрывали спиралевидные углубления наподобие оттисков пальцев – такие оттиски можно увидеть на внутреннем своде человеческого черепа. Эта выдумка архитектора неприятно поразила меня своей вульгарностью. Она была в духе Диснейленда. Посетителям как бы напоминали, что перед ними огромный мозг – словно он нуждался в рекламной оправе. Галерею не проектировали специально для посетителей; она появилась, когда обычную крышу заменили куполом. Купол сделали очень толстым, для защиты от космического излучения. ГОЛЕМ сам разработал состав экранирующих слоев. Правда, мы не заметили, чтобы это излучение влияло на его работоспособность. Сам он тоже не объяснил, чем именно оно может ему повредить, но средства на перестройку нашлись быстро; ведь это было тогда, когда Пентагон, бессрочно передав нам оба световых гиганта, втайне еще рассчитывал на их услуги. Во всяком случае, я так считал, иначе почему так легко появились ассигнования? Наши информатики предполагали, что ГОЛЕМ заказывал себе помещение как бы на вырост, чтобы затем наращивать свою мощность путем новых перестроек, для которых ему уже не нужна была наша помощь. Поэтому свободного места между потолочным сводом и собой он выделил столько, что незаполненное пространство прямо напрашивалось на сооружение галереи. Впрочем, не знаю, кому пришло в голову устроить из этого зрелище, что-то среднее между паноптикумом и музеем. Информационные щиты на шести языках, помещенные через каждые несколько десятков шагов в нишах галереи, сообщали, для чего служит это помещение и что означают миллиарды вспышек, которыми непрерывно озарялась поверхность стекловидных спиралей в колодце. Колодец всегда пламенел, словно кратер искусственного вулкана. Там царила тишина, оттеняемая еле слышным шорохом климатизации. Почти все здание представляло собой колодец, в который можно было заглянуть с галереи через сильно скошенное стекло, на всякий случай бронированное. Оно должно было защищать от возможных покушений световоды, которые у многих посетителей вызывали больше страха, чем восхищения. Сами световоды, вероятно, тоже были нечувствительны к любому излучению, так же, как криотронные блоки, обвитые охлаждающими трубопроводами. Они, со своими заиндевелыми от холода камерами, располагались несколькими этажами ниже и были невидимы с галереи. Скоростные лифты соединяли подземные паркинги непосредственно с самым верхним этажом. Техники, обслуживавшие систему охлаждения, пользовались другими, рабочими лифтами. Возможно, чувствительными к космическому излучению были квантовые синапсы Джозефсона, укрытые под толстыми узлами световых кабелей, и хотя они выступали из-под стекловидных жил, неподготовленный зритель их не заметил бы: в непрестанном сверкании световодов синапсы казались темными впадинами.
Во второй раз я очутился в этой галерее месяц назад, когда приехал в МТИ, чтобы пролистать старые архивные протоколы. Я был один, и галерея показалась мне очень просторной. Она была идеально чистой, хотя никто ее не посещал и, вероятно, не убирал. Проведя пальцем по стеклу, я убедился, что на нем нет ни пылинки. Информационные таблицы в нишах тоже сияли, словно только что установленные. Мягкий толстый настил приглушал шаги. Я хотел было нажать на кнопку информационного устройства, но, едва коснувшись ее, спрятал руку в карман, как ребенок, испугавшийся собственного поступка – что он дотронулся до того, что трогать нельзя. Я с удивлением поймал себя на этой мысли, не понимая, откуда она взялась. Я вовсе не думал, будто нахожусь в гробу и то, что виднеется за слоем стекла, является трупом, – хотя такая ассоциация не была совсем уж нелепой, тем более, что в свете ламп, загоревшихся, когда я вышел из лифта, меня поразила безжизненность колоссального колодца. Впечатление распада и покинутости усиливал вид поверхности мозга – морщинистой, словно застывший в грязи ледник. Из-под кабелей торчали спрессованные в пластины контакты Джозефсона, толстые, как листы табака в табакосушильне.
Мысль о том, что я побывал в гробнице, мелькнула у меня в голове лишь тогда, когда, вернувшись в подземный гараж, я выехал пандусом на свет солнечного дня. И лишь тогда я удивился тому, что это здание, которое со своей галереей как бы заранее предназначалось для мавзолея, не стало им и его не заполняют толпы туристов. А ведь публика любит разглядывать останки могущественных существ. В этом забвении ГОЛЕМА – словно бы он никогда не существовал – по-прежнему ощущается коллективный умысел. Негласный сговор мира, не желающего иметь ничего общего с Разумом, коль скоро он не затронут, не умиротворен, не приручен какими-либо чувствами. С этим огромным пришельцем, исчезнувшим внезапно и тихо, как бесплотный дух.
Я никогда не верил в самоубийство ГОЛЕМА. Это выдумали люди, которые торгуют своими мыслями и для которых важно лишь, сколько можно за них получить.
Поддержание в активном состоянии квантовых контактов и переключателей требовало постоянного слежения за температурой и химическим составом воздуха и поверхности мозга. Он занимался этим сам. Никто не имел права входить в самое нутро мозгового колодца. После завершения монтажных работ ведущие в него двери на всех двадцати этажах были герметически закрыты. Он мог положить конец этой активности, если бы захотел, но он не захотел. Я не стану излагать свои соображения относительно того, почему он так поступил; это не относится к делу.







