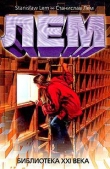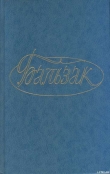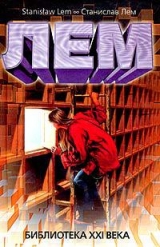
Текст книги "Библиотека XXI века"
Автор книги: Станислав Лем
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
«Одни люди появляются на свет потому, что брак их родителей заранее был предрешен, то есть будущий отец ребенка и его будущая мать были просватаны друг за друга еще в детстве. Человеку, узревшему дневной свет в качестве ребенка такой супружеской пары, может показаться, что вероятность его рождения была значительна, в отличие от того, кто знает, что его отец с матерью познакомились в ходе крупных миграций военного времени, или, допустим, он был зачат потому лишь, что некий наполеоновский гусар, бежав с поля сражения при Березине, кроме кувшина с водой, похитил у встреченной им поселянки еще и девичью честь. Такой человек, пожалуй, решит, что если б гусар сильнее спешил, чувствуя за своей спиной казацкие сотни, или если его (этого человека) мамаша не искала неведомо чего на краю деревни, а в страхе божьем сидела бы себе дома за печкой, то и его самого бы на свете не было, то есть что его будущее бытие висело на волоске, в отличие от бытия того, чьи родители заранее были просватаны.
Впечатление это ошибочно: ведь при оценке вероятности появления на свет кого бы то ни было нет никаких оснований считать нулевой точкой шкалы рождение будущего отца и будущей матери данного человека. Если имеется лабиринт, состоящий из тысячи комнат, соединенных тысячью дверей, то вероятность пройти его до конца определяется суммой всех выборов во всех комнатах, через которые надо пройти, а не просто вероятностью выбора нужной двери в одной из комнат. Тот, кто ошибется дверью в комнате номер сто, заблудится так же, как тот, кто ошибется в первой или тысячной комнате. Точно так же нет оснований считать, будто только мое рождение подлежит закону распределения вероятностей, но не рождение моих родителей, дедов, прадедов, бабок, прабабок и т.д., вплоть до возникновения жизни на Земле. Нет смысла утверждать, что факт существования каждого конкретного индивида в высшей степени маловероятен. В высшей степени – по отношению к чему? Что принять за точку отсчета? Если у нас ее нет, если нет начала шкалы отсчета, измерение, а следовательно, и оценка вероятности становится пустым звуком.
Из моих рассуждений вовсе не следует, будто мое появление на свет было предустановлено еще до того, как сформировалась Земля; напротив, из них вытекает, что меня могло вовсе не быть и никто бы этого не заметил. Все, что может сказать статистика о прогнозе рождения индивида, будет нонсенсом. Ибо она полагает, что любой человек, как бы мало ни был он вероятен сам по себе, все же возможен как реализация неких вероятностей; между тем я доказал, что по отношению к любому лицу, хотя бы к пекарю Муку, справедливо следующее: отступая все дальше и дальше во времени от момента его рождения, мы можем найти временную точку, в которой предсказание о появлении на свет пекаря Мука характеризуется вероятностью, сколь угодно малоотличающейся от нуля. Когда мои родители очутились в брачной постели, вероятность моего появления на свет составляла, скажем, один к ста тысячам (учтем к тому же довольно высокую после войны смертность новорожденных). Во время осады Перемышля эта вероятность составляла всего лишь один к миллиарду; в 1900 году – один к триллиону; в 1800 году – один к квадриллиону, и так далее. Наблюдатель, который вычислял бы вероятность моего рождения, сидя под эвкалиптом на Малой Стране, в межледниковую эпоху, после миграции мамонтов и их желудочного расстройства, определил бы вероятность того, что я узрю свет божий, как один к центиллиону. Величины порядка гига появляются, если отнести точку оценки на миллиард лет назад, порядка тера – на три миллиарда, и т.д.
Иначе говоря, всегда можно найти такую точку на временной оси, в которой оценка вероятности чьего-либо рождения сколь угодно мала, то есть просто отсутствует: ведь сколь угодно мало отличающаяся от нуля вероятность равнозначна сколь угодно большой невероятности.
Говоря это, мы вовсе не утверждаем, будто ни нас, ни кого-либо другого на свете нет. Напротив: мы не сомневаемся ни в чужом существовании, ни в своем собственном. Мы лишь повторяем утверждения физики, ибо именно с точки зрения физики, а не здравого смысла на свете нет и никогда не было ни одного человека. А вот и доказательство: с точки зрения физики событие, вероятность которого составляет один к центиллиону, невозможно. Такое событие – при допущении, что оно принадлежит множеству событий, происходящих ежесекундно, – просто не успеет случиться в Космосе.
От сегодняшнего дня до конца Вселенной пройдет меньше центиллиона секунд. Звезды излучат свою энергию гораздо раньше. А значит, время существования Космоса в его нынешнем виде меньше времени, необходимого, чтобы дождаться события, происходящего раз в центиллион секунд. С точки зрения физики ожидать события столь маловероятного – все равно что ожидать события, которое наверняка не наступит. Такие явления в физике именуются термодинамическими чудесами. К ним относится, например, замерзание воды в стоящем на огне котелке, самопроизвольный подъем с пола осколков разбившегося стакана и их соединение в целый стакан, и т.п. Расчеты показывают, что такие «чудеса» все же более вероятны, чем событие, вероятность которого – один к центиллиону. Добавим еще, что до сих пор мы учитывали лишь половину факторов, влияющих на оценку вероятности, то есть только макроскопические события. А ведь рождение конкретного индивида зависит и от микроскопических факторов, например, от того, какой сперматозоид с какой яйцеклеткой соединится у данной родительской пары. Если бы мать зачала меня в другой день и час, чем это случилось в действительности, родился бы не я, а кто-то другой; это следует уже из того, что моя мать действительно зачала в другой день и час, а именно за год до моего рождения, и родила девочку, мою сестру; вряд ли стоит доказывать, что она – не я. Эту микростатистику тоже следовало бы учесть при оценке вероятности моего появления на свет; тем самым центиллионы невероятности доходят до мираллионов.
Итак, с точки зрения термодинамики существование любого человека – явление космически невозможное, коль скоро оно до такой степени мало вероятно, что просто непредсказуемо. Физика – предположив, что какие-то люди существуют, – может предсказывать, что они будут рождать других людей; но о том, какие конкретно индивиды будут рождаться, она должна молчать, чтобы не впасть в полный абсурд. А значит, либо физика ошибается, провозглашая универсальную значимость теории вероятностей, либо люди просто не существуют, а вместе с ними – собаки, акулы, мхи, лишайники, ленточные черви, летучие мыши и плауны, ибо сказанное справедливо для всего живого. «Ех physical positione vita impossibilis est, quod erat demonstrandum» [34]34
С точки зрения физики жизнь невозможна, что и требовалось доказать (лат.).
[Закрыть].
Этими словами заканчивается книга «Dе Impossibilitatе Vitae», которая служит, собственно, лишь огромным вступлением ко второму тому дилогии. Здесь автор провозглашает тщетность предвидений будущего, основанных на вероятностных оценках. Он хочет показать, что история сплошь состоит из фактов, совершенно немыслимых с точки зрения теории вероятностей. Профессор Коуска переносит воображаемого футуролога в начало XX века, наделив его всеми знаниями той эпохи, чтобы задать ему ряд вопросов. Например: «Считаешь ли ты вероятным, что вскоре откроют серебристый, похожий на свинец металл, который способен уничтожить жизнь на Земле, если два полушария из этого металла придвинуть друг к другу, чтобы получился шар величиной с большой апельсин? Считаешь ли ты возможным, что вон та старая бричка, в которую господин Бенц запихнул стрекочущий двигатель мощностью в полторы лошади, вскоре так расплодится, что от удушливых испарений и выхлопных газов в больших городах день обратится в ночь, а приткнуть эту повозку куда-нибудь станет настолько трудно, что в громаднейших мегаполисах не будет проблемы труднее этой? Считаешь ли ты вероятным, что благодаря принципу шутих и пинков люди вскоре смогут разгуливать по Луне, а их прогулки в ту же самую минуту увидят в сотнях миллионов домов на Земле? Считаешь ли ты возможным, что вскоре появятся искусственные небесные тела, снабженные устройствами, которые позволят из космоса следить за любым человеком в поле или на улице? Возможно ли, по-твоему, построить машину, которая будет лучше тебя играть в шахматы, сочинять музыку, переводить с одного языка на другой и выполнять за какие-то минуты вычисления, которых за всю свою жизнь не выполнили бы все на свете бухгалтеры и счетоводы? Считаешь ли ты возможным, что вскоре в центре Европы возникнут огромные фабрики, в которых станут топить печи живыми людьми, причем число этих несчастных превысит миллионы?»
Понятно, говорит профессор Коуска, что в 1900 году только умалишенный признал бы все эти события хоть чуточку вероятными. А ведь все они совершились. Но если случились сплошные невероятности, с какой это стати вдруг наступит кардинальное улучшение и отныне начнет сбываться лишь то, что кажется нам вероятным, мыслимым и возможным? Предсказывайте себе будущее, как хотите, обращается он к футурологам, только не стройте свои предсказания на наибольших вероятностях...
Впечатляющий труд профессора Коуски, безусловно, заслуживает признания. Однако, увлекшись своими изысканиями, этот ученый не избежал ошибки, на которую указал ему профессор Бедржих Врхличка в обширной критической статье, помещенной в газете «Земеделске новины». Профессор Врхличка утверждает, что все аргументы профессора Коуски против теории вероятностей исходят из неявной – и неверной – посылки. Ибо за ними кроется «метафизическое изумление собственным существованием», которое можно выразить словами: «Почему я существую именно теперь, именно в этом теле, именно в таком, а не ином облике? Почему я не был ни одним из миллионов людей, существовавших доселе, и не буду ни одним из тех, что еще родятся?» Если такие вопросы и имеют какой-либо смысл, замечает профессор Врхличка, то, во всяком случае, отнюдь не физический, хотя может показаться, что это не так и что вопрос можно переформулировать следующим образом: «Каждый человек, когда-либо существовавший, был телесной реализацией некой формулы, состоящей из генов, или кирпичиков наследственности. В принципе можно представить графически все формулы, реализованные до настоящего дня; мы получили бы огромную таблицу, исписанную рядами генотипических формул, причем каждая в точности соответствовала бы определенному человеку, образовавшемуся по ней путем эмбрионального развития. Но тогда возникает вопрос, в чем же различие между формулой, соответствующей мне, моемутелу, и всеми остальными формулами в таблице, – различие, благодаря которому именно я являюсь ее живым воплощением? То есть: какие физическиеусловия, какие материальныеобстоятельства надо учесть, чтобы выявить это различие и понять, почему о любой формуле в таблице я могу сказать: «Тут речь идет о Других» – и лишь об одной: «Тут речь обо мне, ЭТО Я»?
Не приходится ожидать, поясняет профессор Врхличка, что физика сегодня, или через столетие, или через тысячу лет сможет ответить на поставленный таким образом вопрос. Для физики он вообще ничего не значит, ведь она, не будучи личностью, при изучении чего бы то ни было, скажем, небесных или человеческих тел, не проводит различий между мнойи тобой, этим и тем; то, что я говорю о себе «я», а о другом «он», физика способна объяснить по-своему (на базе общей теории логических автоматов, теории самоорганизующихся систем и т.д.), но она не замечает именно экзистенциального различия между «я» и «он». Хотя, конечно, физика способна заметить уникальностьотдельных людей, ибо любой человек (если не говорить о близнецах!) есть воплощение особой формулы генов.
Но профессор Коуска имеет в виду вовсе не то, что каждый из нас устроен немного иначе, обладает физической и духовной индивидуальностью. Метафизическое изумление, кроющееся за рассуждениями Коуски, не уменьшилось бы ни на йоту, окажись все люди воплощением одной и той же генной формулы, так сказать, идеально похожими близнецами. Ведь и тогда можно было бы спрашивать, почему «я» – не «кто-то другой», почему я родился не в эпоху фараонов и не в Арктике, но здесь и теперь; а на такой вопрос физика по-прежнему не могла бы ответить. Для меня различия между мной и другими начинаются с того, что я являюсь собою, не могу вылезти из собственной шкуры или поменяться существованиями с кем бы то ни было, и лишь во вторую очередь я замечаю, что моя наружность, мой характер иные, чем у всех остальных живущих (и умерших). Но как раз это первое, важнейшее для меня различие для физики не существует вообще, и больше тут ничего не скажешь. Итак, не теория вероятностей повинна в том, что физика и физики не замечают этой проблемы.
Ставя вопрос об оценке вероятности своего рождения, профессор Коуска ввел в заблуждение себя самого и читателей. Профессор Коуска полагает, что на вопрос: «Какие условия должны были быть соблюдены, чтобы родился Коуска?» – физика отвечает: «Условия, физически крайне мало вероятные!» Но это не так. Вопрос следует поставить иначе: «Как вижу, я – живой человек, один из миллионов людей. Я хотел бы узнать: в чем состоит мое физическое отличие от всех остальных людей, тех, что были, есть или будут, отличие, из-за которого я не был и не являюсь ни одним из них, но только самим собой и могу сказать „Я“ только о себе?» Так вот, физика отвечает на этот вопрос, не ссылаясь на распределение вероятностей; она заявляет, что с ее точки зрения между спрашивающим и всеми остальными людьми никаких физических различий нет. Следовательно, рассуждения Коуски не затрагивают и не опровергают теорию вероятностей, а просто не имеют с ней ничего общего!
Знакомство со столь отличными друг от друга взглядами двух видных мыслителей повергло рецензента в полное замешательство. Он не в силах решить их спор, и единственное, в чем он уверен, так это в том, что из труда профессора Коуски он вынес обширные познания о всех обстоятельствах, приведших к появлению на свет ученого со столь любопытной фамильной историей. Что же до сути проблемы, то ею пусть займутся специалисты более компетентные.
He буду служить

Книга профессора Добба посвящена персонетике, которую финский философ Эйно Каикки назвал немилосерднейшей из наук, созданных человеком. Добб, один из наиболее выдающихся персонетиков современности, думает так же. Нельзя, заявляет он, не прийти к заключению об аморальности персонетических экспериментов; речь, однако, идет об исследованиях, которые, хотя и вступают в противоречие с этикой, жизненно необходимы для нас. Исследователю подчас приходится быть беспощадным, подавляя естественные побуждения, и миф – если он еще уцелел – о младенческой невинности ученого-регистратора терпит крушение именно здесь. Мы поведем разговор о дисциплине, которую несколько высокопарно называют экспериментальной теогонией. И вот что заставляет рецензента задуматься: когда пресса впервые подняла шумиху вокруг персонетики (это случилось девять лет назад), читатели пережили настоящее потрясение; а ведь нас, казалось бы, ничем уже нельзя удивить. Столетья гремело эхо деяний Колумба, но покорение Луны общественное сознание переварило чуть ли не за неделю, как нечто почти банальное. И все-таки рождение персонетики оказалось для публики шоком. В названии дисциплины слиты два заимствованных из латыни слова: «персона» (личность) и «генетика» (создание, сотворение). Персонетика представляет собой позднее ответвление кибернетики и психоники восьмидесятых годов на базе интеллектронной техники. О персонетике слышал сегодня каждый; случайный прохожий ответит, что это – искусственное разведение разумных существ. Ответ не то чтобы неверный, но не затрагивающий существа дела. В настоящее время мы располагаем почти сотней персонетических программ. Девять лет назад в компьютерах уже возникали личности-схемы – примитивные зародыши «линейного» типа; впрочем, тогдашнее поколение цифровых машин, ныне имеющее лишь музейную ценность, еще не позволяло по-настоящему начать сотворение персоноидов.
Персонетику как теоретическую возможность предчувствовал уже Норберт Винер, о чем свидетельствуют некоторые места его последней работы «Творец и робот». Правда, об этой возможности Винер упоминал в своем обычном полушутливом тоне, за которым, однако, угадывались перспективы довольно мрачные. Но даже Винер не мог предвидеть, как обернется дело лет двадцать спустя. «Самое худшее случилось, – сказал сэр Дональд Акер, – когда в Массачусетском технологическом институте соединили входы с выходами».
Сейчас персоноидный «мир» для будущих его «обитателей» можно создать за два часа. Именно столько времени требуется, чтобы внести в машину одну из полных программ типа ВААЛ-66, KPEAH-IV или ЯХВЕ-09. Добб излагает раннюю историю персонетики довольно бегло, отсылая читателя к источникам, и в качестве убежденного практика-экспериментатора рассказывает прежде всего о том, как работает он сам, – обстоятельство довольно существенное, поскольку между английской школой (именно ее представляет Добб) и американской группой из МТИ существуют довольно значительные различия по части методики и целей экспериментальных исследований. Добб рисует процедуру «шестидневки творения, ужатой до 120 минут» следующим образом. Сначала в машинную память вводят минимальный набор данных, то есть – если прибегнуть к языку, понятному непосвященным, – заряжают ее «математическим материалом», который становится зародышем жизненного универсума будущих персоноидов. Существа, которые явятся в этот машинный и цифровой мир, которые будут существовать в нем и только в нем, мы уже умеем помещать в окружение с бесконечностными характеристиками. Они не ощутят себя узниками в физическом смысле: у этого окружения не будет – с их точки зрения – никаких границ. Из всех его измерений лишь одно весьма близко к тому, что знакомо и нам; это – ход (протекание) времени. Но персоноидное время не тождественно нашему: скорость его протекания свободно регулируется экспериментатором. Обычно она максимальна на вступительной стадии (стадия «пуска миротворения»); наши минуты здесь соответствуют целым зонам, во время которых сменяют друг друга фазы преобразования и кристаллизации искусственного космоса. Персоноидный Космос – совершенно беспространственный; различные его измерения носят чисто математический, то есть с объективной точки зрения как бы «вымышленный» характер. Измерения эти суть следствие аксиоматических решений программиста, и от него зависит, сколько их будет. Если, например, он выберет десятимерность, то получится мир с совершенно иной структурой, чем мир всего лишь с шестью измерениями; следует, пожалуй, подчеркнуть еще раз, что они не имеют ничего общего с измерениями физического пространства, а представляют собой абстрактные, логически правомерные конструкты, которыми пользуется математическая системная демиургия.
Этот недоступный для нематематика пункт Добб старается объяснить при помощи элементарных фактов, известных из школьных учебников. Как известно, можно сконструировать геометрически правильную фигуру с тремя измерениями – хотя бы куб, имеющий соответствие в реальной действительности в виде игральной кости; и точно так же можно построить геометрические фигуры с четырьмя, пятью и любым иным количеством измерений (четырехмерная фигура называется тессерактом). Они уже не имеют реальных соответствий, в чем легко убедиться: из-за отсутствия «физического измерения номер четыре» нельзя построить реальную костяшку с четырьмя измерениями. Так вот, это различие(между физически реализуемым и возможным только математически) для персоноидовне существует вообще, поскольку их мир имеет чисто математическую «фактуру». Он сконструирован из математических элементов (воплощенных, разумеется, в обычных, чисто физических объектах: реле, транзисторах, контурах – короче, во всей огромной сети цифровой машины).
Как известно, согласно современной физике пространство не есть нечто самостоятельное по отношению к объектам и массам, находящимся в нем. Существование пространства обусловлено этими телами; там, где их нет, где «ничего нет» (в материальном смысле), исчезает и пространство, съеживаясь до нуля. А в персоноидном мире роль материальных тел, которые как бы «раздуваются», создавая тем самым пространство, играют математические системы, специально для этого созданные. Из всех математик, которые можно было бы создать – аксиоматическим методом, – программист, задумав определенный эксперимент, выбирает определенную группу, которая станет «бытийной опорой», «онтологическим фундаментом» творимого Универсума. Тут, по мнению Добба, налицо поразительное сходство с человеческим миром. Наш мир «выбрал» определенные формы и определенные типы геометрии, которые соответствуют ему наилучшим, то есть наиболее простым, образом (трехмерность, чтобы вернуться к тому, с чего мы начали). Тем не менее мы можем представить себе «иные миры», с иными свойствами – геометрическими, и не только. Точно так же и персоноиды: разновидность математики, которую персонетик предназначил им для «жилья», для них то же самое, что для нас «реальный базовый мир», в котором мы живем и не можем не жить. И, подобно нам, они в состоянии «вообразить» себе миры с иными фундаментальными свойствами.
Добб ведет изложение методом последовательных приближений и возвращения к сказанному; то, что мы набросали выше и что примерно соответствует двум первым главам его книги, в дальнейшем усложняется и тем самым частично отменяется. Неверно было бы думать, объясняет автор, что персоноиды будто бы сразу попадают в какой-то готовый, неподвижный, намертво замороженный мир в его окончательном, завершенном виде. То, каким окажется этот мир в ходе своей «конкретизации», зависит от них самих, и притом во все возрастающей степени, по мере того как возрастает их собственная активность, «исследовательское любопытство». Но сравнение универсума персоноидов с миром, который лишь постольку существует в своих проявлениях, поскольку воспринимается населяющими его существами, тожене дает верного представления о существе дела. Это сравнение, которое можно встретить в работах Сейнтера и Хьюза, Добб считает «идеалистической аберрацией», данью, которую персонетика заплатила столь неожиданно воскресшему учению епископа Беркли. Сейнтер утверждал, что персоноиды познают свой мир, как то берклиевское существо, которое не в состоянии отличить «esse» от «percipi» [35]35
«Быть» (от) «воспринимать» (лат.).
[Закрыть], то есть никогда не обнаружит различия между наблюдаемым и тем, чем оно вызывается – объективно и независимо от наблюдающего.
Добб критикует такую интерпретацию тем более страстно, что мы, будучи творцами их мира, прекрасно знаем, что наблюдаемое ими действительно существует (внутри компьютера) независимо от персоноидов – хотя, конечно, лишь так, как могут существовать математические объекты. Но и это еще не конечная стадия объяснений. Зародыши персоноидов возникают благодаря программе, растут со скоростью, заданной экспериментатором, то есть так быстро, как только допускает современная техника переработки информации, оперирующая световыми скоростями. Математика, которой предназначено стать «жизненным обиталищем» персоноидов, ожидает их не совершенно готовой, но словно бы «свернутой», «недосказанной», «приостановленной», «латентной», как совокупность неких возможностей, неких путей, содержащихся в запрограммированных определенным образом блоках цифровой машины. Но эти блоки, или генераторы, «сами из себя» ничего не создают; конкретный тип активности персоноида служит для них пусковым механизмом, высвобождающим творческую активность, которая постепенно возрастает и конкретизируется; другими словами, мир, в котором эти существа обитают, будет «доопределяться» в соответствии с их поведением. Добб пытается пояснить сказанное при помощи следующей аналогии: человек может по-разному интерпретировать реальный мир. Если он особенно интенсивно исследует определенные свойства этого мира, то добытые им знания по-особому осветят и другие области бытия, не учтенные в приоритетном исследовании; например, если сначала он будет усердно заниматься механикой, то у него сформируется механицистскаякартина мира: он увидит Вселенную как гигантские идеальные часы, безостановочный ход которых ведет от прошлого к жестко детерминированному будущему. Эта картина не есть точное соответствие реальности, тем не менее ею можнопользоваться исторически долгое время и даже добиваться немалых практических достижений – в строительстве машин, орудий и т.д. Подобным же образом персоноиды – если «настроятся», по собственному выбору и желанию, на определенный типотношений, если отдадут ему предпочтение и лишь в нем будут усматривать «сущность» своей вселенной – вступят на путь таких действий и открытий, которые не будут ни фиктивными, ни бесплодными. Благодаря такой «самонастройке» они извлекут из своего окружения как paз то, что наилучшим образом ей соответствует. Именно это они заметят раньше всего, именно этим раньше всего овладеют. Ибо мир, который их окружает, лишь частично детерминирован, предзадан исследователем-творцом; у персоноидов остается определенная – вовсе не малая – степень свободы поведения, как чисто мысленного (в сфере того, что они думают о своем мире и как его понимают), так и «реального» (в сфере «действий», которые, правда, реальны не буквально, не в нашем смысле, однако существуют не только в мышлении). Впрочем, это едва ли не самое трудное место книги, и Доббу, пожалуй, не удалось полностью объяснить то особое качество экзистенции персоноидов, которое можно выразить лишь на математическом языке программ и демиургических поправок. Так что мы должны – отчасти на веру – принять, что активность персоноидов ни абсолютно свободна (как и пространство наших поступков, которое ограничивают физические законы природы), ни абсолютно детерминирована (как и мы не являемся вагонами, которые движутся по жестко закрепленным путям). Персоноид подобен человеку в том, что «вторичные качества» – цвета, мелодичные звуки, красота вещей – появляются лишь тогда, когда уже есть слышащие уши и видящие глаза; но ведь те свойства, которые делают возможным смотрение и слушание, существовали и раньше. Персоноиды, наблюдая свое окружение, «от себя» привносят в него субъективно переживаемые свойства, которые применительно к нам соответствуют красотам созерцаемого пейзажа, с той только разницей, что персоноидам даны чисто математические пейзажи. О том, «как они их видят», мы никоим образом не можем судить, во всяком случае, если речь идет о «субъективном качестве их восприятия»: чтобы понять, как они ощущают, пришлось бы сбросить человеческую кожу и самому стать персоноидом. Тем более что персоноиды не имеют ни глаз, ни ушей, а значит, ничего не видят и не слышат в нашем понимании, и в их вселенной нет ни света, ни темноты, ни пространственной близи, ни дали, ни верха, ни низа. Зато там есть измерения, для нас совершенно непредставимые, а для них первичные, элементарные; они наблюдают, к примеру – в качестве аналогов чувственного человеческого восприятия, – определенные изменения электрических потенциалов. Но воспринимают не так, как, скажем, удары тока, а скорее так, как человек воспринимает простейшее оптическое, акустическое или какое-нибудь иное явление – красное пятно, звук, прикосновение чего-нибудь твердого или мягкого. Здесь, подчеркивает Добб, можно изъясняться одними лишь аналогиями, уподоблениями; утверждать, будто персоноиды «увечны» по сравнению с нами, раз они не видят и не слышат, как мы, было бы полным абсурдом: с тем же правом можно было бы заявить, что это мы обделены по сравнению с ними, поскольку лишены непосредственного восприятия мира математических феноменов – ведь мы познаем его лишь интеллектуальным, умственным, дедуктивным путем, соприкасаемся с ним только посредством умозаключений, «переживаем» математику только благодаря абстрактному мышлению. А они в ней живут, это их воздух, земля, облака, вода и даже хлеб, даже пища, поскольку в определенном смысле они ею «кормятся». Итак, персоноиды являются узниками, герметически замкнутыми в машине, только с нашей точки зрения; они не способны пробиться к нам, в человеческий мир, а мы, как бы в силу зеркальной симметрии, не способны проникнуть внутрь их мира, существовать в нем и переживать его непосредственно. Итак, математика в некоторых своих воплощениях стала жизненным пространством разума, одухотворившегося до полной бесплотности, стала нишей и колыбелью его бытия.
Персоноиды во многих отношениях походят на человека. Помыслить определенное противоречие («а» и одновременно «не а») они могут, но осуществить его не в состоянии – как и мы. Этого не допускает физика нашего и логика их мира. Ибо в их мире логика служит такой же рамкой, организующей действительность, как физика – в нашем мире! Во всяком случае, подчеркивает Добб, не может быть речи о том, чтобы мы могли до конца, интроспективно понять, что «чувствуют» и «переживают» персоноиды, активно действующие в своем бесконечном Универсуме. Его абсолютная беспространственность не имеет ничего общего с заточением – это чушь, выдуманная журналистами; напротив, беспространственность служит гарантией их свободы, поскольку математика, которую по-паучьи ткут из своего нутра побужденные к активности компьютерные генераторы, представляет собой как бы становящееся пространство для любой деятельности – для строительства, исследований, героических экспедиций, вылазок в неизвестное, смелых догадок. Словом, мы не обделили персоноидов, дав им во владение именно такую, а не иную вселенную. Не в этом следует усматривать жестокость и аморальность персонетики.
В седьмой главе «Non serviam» Добб знакомит нас с обитателями цифрового универсума. Персоноиды располагают как артикулированным языком, так и артикулированной мыслью, а кроме того, наделены эмоциями. Все они обладают индивидуальностью, причем индивидуальные особенности персоноидов не запрограммированы заранее их творцом-человеком, а обусловлены необычайной сложностью их внутреннего строения. Персоноиды могут быть чрезвычайно похожими друг на друга, но одинаковыми – никогда. При своем появлении на свет они получают так называемое «ядро» («персональный нуклеус»). Уже тогда они обладают даром речи и мышления, но в зачаточном состоянии. Они располагают словарем, хотя и крайне бедным, и способны строить фразы по правилам заранее заданной грамматики. По-видимому, в будущем можно будет не задавать заранее даже этих детерминант и просто ждать, пока они сами, как первобытная человеческая группа в процессе социализации, создадут язык. Но это направление развития персонетики наталкивается на два кардинальных препятствия. Во-первых, время ожидания оказалось бы крайне велико. Сейчас оно оценивается в 12 лет, и это при максимальном темпе внутрикомпьютерных преображений (говоря образно и очень грубо, году человеческой жизни соответствовала бы при этом секунда машинного времени). Во-вторых, и это решающее соображение, язык, создавшийся стихийно в ходе групповой эволюции персоноидов, был бы непонятен для нас; его изучение напоминало бы разгадывание таинственного шифра, осложненное вдобавок тем, что шифры, которые мы обычно разгадываем, создали все же люди для других людей, в мире, общем для шифровальщиков и дешифровальщиков. А мир персоноидов качественно отличен от нашего, и потому язык, наиболее подходящий для него, должен резко отличаться от любого этнического языка. Так что творение «ex nihilo» [36]36
из ничего (лат.).
[Закрыть]остается проектом и мечтой персонетиков. По мере «взросления» персоноиды сталкиваются с древнейшей и самой важной для них загадкой – загадкой собственного происхождения. Перед ними встают вопросы, известные нам из истории человека, его верований, его философских исканий и мифотворчества. Откуда мы взялись? Почему мы такие, какие есть? Почему наблюдаемый нами мир обладает такими, а не иными свойствами? Что сами мы значим для мира? Что мир значит для нас? И цепочка этих вопросов неизбежно ведет к коренным вопросам онтологии, из которых центральный – вопрос о том, возникло ли бытие «само из себя» или в результате какого-то акта творения; другими словами, не стоит ли за ним обладающий волей и разумом, сознательно действующий Творец. Вот где ярче всего обнаруживается жестокость и аморальность персонетики.