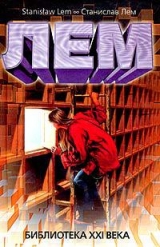
Текст книги "Библиотека XXI века"
Автор книги: Станислав Лем
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
Итак, бактерии говорят, но к ним обратиться нельзя. Ограничение это не столь фатально, как кажется, ведь именно благодаря ему со временем обнаружилось особое лингвистическое свойство бактерий, положенное в основу эрунтики.
Р. Гулливер не ожидал его вовсе; оно открыто случайно, в ходе опытов, имевших целью выведение Е. coli poetica [66]66
Кишечная палочка поэтическая (лат.).
[Закрыть]; короткие стишки, сложенные кишечной палочкой, были до крайности банальны и к тому же не годились для чтения вслух, ведь бактерии – по понятным причинам! – ничего не знают об английской фонетике. Так что они могли овладеть стихотворным размером, но не правилами рифмовки; кроме двустиший наподобие «Agar-agar is my love as were [67]67
Ошибка сделана бактериями. – Примеч. автора предисловия.
[Закрыть]stated above» [68]68
«Агар-агар любовь моя, как были сказано выше» (англ.).
[Закрыть]бактерийная поэзия ничего не создала. Как порою бывает, на помощь Гулливеру пришел случай. В поисках средств, стимулирующих красноречие, он изменял состав питательной среды, насыщая ее всевозможными препаратами (химический состав которых он, кстати сказать, скрывает). Результатом этого поначалу была пустопорожняя болтовня; и вот 27 ноября Е. coli loquativa после очередной мутации начал передавать сигналы тревоги, хотя ничто не указывало на наличие в агаре каких-то вредных для его здоровья соединений. Тем не менее на следующий день, спустя двадцать девять часов после сигнала тревоги, штукатурка над лабораторным столом отслоилась и, осыпавшись с потолка, уничтожила все чашечки Петри, находившиеся на столе. Сперва исследователь счел этот странный факт стечением обстоятельств, однако на всякий случай провел контрольный эксперимент, который показал, что бактерии обладают предчувствиями. Уже следующий штамм – Gulliveria coli prophetica [69]69
Прорицающая Гулливерова палочка (лат.).
[Закрыть]– неплохо предвидел будущее, то есть пытался адаптироваться к неблагоприятным изменениям, которые могли ему угрожать в течение ближайших суток. Автор считает, что он не открыл ничего абсолютно нового, а лишь случайно напал на след древнейшего механизма микробной наследственности, который позволяет успешно бороться с микробоистребляющими препаратами. Но до тех пор, пока бактерии оставались немыми, мы не знали, что такой механизм возможен.
Высшим достижением автора стало выведение Gulliveria coli prophetissima и Proteus delphicus recte mirabilis [70]70
Прорицательнейшая Гулливерова палочка (и) дельфийский поистине чудесный протей (лат.).
[Закрыть]– штаммов, которые предвидят явления будущего, касающиеся не только их самих. Р. Гулливер предполагает, что природа этого феномена чисто физическая. Колонии бактерий группируются в точки и тире потому, что иначе уже размножаться не могут; о событиях будущего извещает не какая-то «палочка-кассандра» или «пророк-стафилококк» – нет, это сочетания неких физических событий – в такой зачаточной, микроскопической форме, что мы их никак обнаружить не можем, – воздействуют на обмен веществ и, следовательно, на химизм штаммов-мутантов. Биохимическая деятельность Gulliveria coli prophetissima оказывается, таким образом, своего рода трансмиссией между разными интервалами пространства-времени. Бактерии являются сверхчувствительным приемником неких возможностей – и ничем больше. И хотя бактерийная футурология стала реальностью, объекты ее предвидений совершенно непредсказуемы, так как провидческой деятельностью бактерий нельзя управлять. Иногда Proteus mirabilis выводит морзянкой ряды цифр, и очень трудно установить, к чему они относятся. Однажды он с полугодовым опережением предсказал показания электросчетчика в лаборатории; в другой раз предрек, сколько котят родит соседская кошка. Бактериям – это очевидно – все равно, что предсказывать; к информации, передаваемой азбукой Морзе, они относятся так же, как радиоприемник к радиосигналам. Можно еще как-то понять, почему они предсказывают события, затрагивающие их самих; но их чувствительность к прочим событиям остается загадкой. Растрескивание штукатурки на потолке они могли воспринять через изменение электростатических зарядов в помещении лаборатории или через какие-то другие физические явления. Но автор не знает, почему они сверх того передают сообщения, скажем, о состоянии мира после 2050 года.
Перед автором встала задача: как отличить бактерийную псевдологию, то есть безответственную болтовню, от настоящих предсказаний, и он решил ее остроумно и просто. А именно: он создал «параллельные прогностические батареи», назвав их бактерийными эрунторами. Такая батарея состоит по меньшей мере из шестидесяти профетических штаммов coli и протея. Если каждый из них болтает свое, сигнализацию следует признать не имеющей ценности. Но если сообщения передаются дружным хором, перед нами прогноз. Размещенные в особых термостатах, на особых чашечках Петри, бактерии передают морзянкой одинаковые или очень близкие тексты. На протяжении двух лет автор составил антологию бактерийной футурологии и ее презентацией увенчал свой труд.
Самые лучшие результаты он получил благодаря штаммам Е. coli bibliographica и telecognitiva [71]71
Кишечная палочка библиографическая (и) познающая на расстоянии (лат.).
[Закрыть]. Они выделяют такие ферменты, как плюсквамперфектный футуразин и футурогностический эксцитин. Под влиянием этих ферментов прогностические способности приобретают даже штаммы кишечной палочки, которые (как, например, Е. poetica) ни на что, кроме сочинения слабых стишков, не пригодны. Однако в своих прорицаниях бактерии ограничены довольно узкими рамками. Во-первых, они не предсказывают никаких событий непосредственно, а лишь так, как если бы передавалось содержание публикаций, посвященных этим событиям. Во-вторых, они не способны надолго сосредоточиться. Их производительность – максимум пятнадцать машинописных страниц. И наконец, все тексты бактерийных авторов относятся к периоду между 2003 и 2089 годами.
Честно признавая, что тут возможны различные толкования, Р. Гулливер отдает предпочтение следующей гипотезе. Через пять – десять лет на месте его нынешнего дома возникнет городская библиотека. Бактерийный код ведет себя как устройство, которое вслепую блуждает по книгохранилищу, выбирая тома наудачу. Правда, этих томов еще нет, как нет и самой библиотеки, но Р. Гулливер, желая упрочить достоверность бактерийных предвидений, уже написал завещание, согласно которому городской совет как раз и должен устроить в его доме библиотеку. Нельзя утверждать, что он действовал по подсказке своих микробов, – скорее наоборот, это они предвидели содержание его завещания, прежде чем оно было составлено. Объяснить, откуда микробы узнали о несуществующих книгах несуществующей пока библиотеки, несколько труднее. На правильный след наводит нас то обстоятельство, что микробная футурология ограничивается вполне определенными фрагментами произведений, а именно предисловиями к ним. Похоже, что какой-то неизвестный фактор (излучение??) исследовал закрытыекниги, как бы просвечивая их, а тогда, понятно, легче всего прозондировать содержание первых страниц. Эти объяснения довольно туманны. Впрочем, Гулливер признает, что между завтрашним отслоением штукатурки на потолке и размещением фраз на страницах томов, которые выйдут в свет через пятьдесят или через восемьдесят лет, разница довольно существенная. Но наш автор, сохраняя трезвомыслие до конца, не претендует на исключительное право толкования основ эрунтики; напротив, в заключительном слове он призывает читателей продолжить его дело.
«Эрунтика» опровергает не только бактериологию, но и всю совокупность наших знаний о мире. В настоящем предисловии мы не собираемся давать ей оценку и тем более – высказываться по поводу бактерийных пророчеств. Сколь бы ни казалась сомнительной ценность эрунтики, нельзя не признать, что среди предсказателей будущего не было еще таких смертельных врагов и вместе с тем неразлучных товарищей нашей судьбы, как микробы. Возможно, будет уместно добавить, что Р. Гулливера уже нет среди нас. Он умер всего через несколько месяцев после издания «Эрунтики», во время обучения новых адептов микробиологической словесности, а именно вибрионов холеры. Он рассчитывал на их способности, ведь по форме они – настоящие запятые, а значит, в родстве с хорошей стилистикой. Воздержимся от снисходительно-грустной улыбки при мысли о нелепости этой смерти; благодаря ей завещание вступило в законную силу и в фундамент библиотеки уже заложен краеугольный, а вместе с тем надгробный камень в честь того, в ком ныне мы видим лишь чудака. Но кто может знать, кем он окажется завтра?
История бит-литературы
в пяти томах

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Под бит-литературой мы понимаем любые тексты не-человеческого происхождения, то есть такие, непосредственнымавтором которых не был человек. (Зато он мог быть им косвенно– предприняв действия, побудившие непосредственного автора к творчеству.) Дисциплина, изучающая всю совокупность таких произведений, называется битистикой.
По сей день в ней не установилась единая точка зрения на границы изучаемого предмета. В этом главном вопросе сталкиваются два направления, или две школы, в обиходе именуемые битистикой Старого Света (или европейской) и Нового Света (или американской). Первая, следуя духу классической гуманистики, изучает тексты, а также условия (в том числе социальные) их возникновения, но не занимается функционально-конструктивными особенностями означенных авторов. Вторая, американская школа, к предмету битистики относит также анатомию и функциональные аспекты создателей изучаемых произведений.
Данная монография не ставит целью рассмотрение этой спорной проблемы – мы ограничимся лишь несколькими замечаниями. Молчание традиционной гуманистики по вопросу об «анатомии и физиологии» авторов есть следствие того очевидного факта, что все они – люди, и различия между ними суть различия между существами одного и того же вида. Для специалиста по романской литературе, указывает проф. Рамбле, было бы абсурдом начинать исследование с констатации того факта, что автором «Тристана и Изольды» или «Песни о Роланде» был многоклеточный организм, сухопутное позвоночное, живородящее, легочное, плацентарное, млекопитающее и т.д. Но не будет таким же абсурдом указать, что автор «Анти-Канта», ИЛЛИАК-164, – это семо-топологический, многорядно-параллельный, субсветовой, исходно полиглотический компьютер 19-й бинастии, с сетевой обособленной памятью и рабочим моноязыком типа УНИЛИНГ, с интеллектронным потенциалом, достигающим в максимуме 1010 эпсилон-сем на миллиметр n-мерного конфигурационного пространства каналов связи. Эти данные объясняют некоторые конкретные особенности текстов, принадлежащих ИЛЛИАКУ-164. Тем не менее, продолжает проф. Рамбле, битистика не обязаназаниматься именно этой, технической (по отношению к человеку мы сказали бы: зоологической) стороной бит-авторов, и причин тому две. Первая, практическая и менее важная, связана с тем, что учет анатомии требует необычайно обширных технических и математических знаний, в полном объеме недоступных даже специалисту по теории автоматов; и в самом деле, эксперт, специализирующийся в этой теории, свободно разбирается лишь в какой-то одной ее области, которой он себя посвятил. Невозможно требовать от специалистов по битистике – гуманитариев по образованию и научному методу – того, что даже профессионалам-интеллектронщикам недоступно в полном объеме; поэтому максимализм американской школы вынуждает ее вести исследования большими смешанными коллективами, а это всегда дает плачевные результаты – никакой коллектив, никакой «хор» критиков не заменит по-настоящему одного критика, который охватывает изучаемый текст целиком.
Вторая, более важная и коренная причина заключается попросту в том, что битистика, даже если ввести в нее «анатомическую поправку», оказывается беспомощной при анализе текстов «бит-апостазии» (о чем будет сказано ниже). Любые познания интеллектронщиков недостаточны, чтобы точно понять, каким образом, почему и с какой целью создан данный текст – если его автор принадлежит к бинастии компьютеров с порядковым номером выше восемнадцати.
Этим аргументам американская битистика противопоставляет свои контраргументы; но, как мы уже говорили, наша монография не ставит целью ни подробное изложение этого спора, ни тем более его решение.
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА. Данная монография представляет собой попытку компромисса между вышеописанными подходами, но в целом она ближе к европейской школе. Это отражено в ее композиции: лишь первый том, написанный под редакцией проф. Анна при участии двадцати семи экспертов, специализирующихся в самых разных областях, посвящен техническим аспектам авторов-компьютеров. Открывается он введением в общую теорию конечных автоматов; далее рассматриваются сорок пять авторских систем, репрезентативных для бит-литературы, – как одиночных (сингулярных), так и коллективных («авторов-агрегатов»).
Впрочем, за исключением ссылок, которые в томах, посвященных собственно истории бит-литературы, помечены звездочками, изучение монографии непредполагает обязательного знакомства с первым томом.
Основная часть состоит из трех томов, озаглавленных соответственно «Гомотропия», «Интертропия» и «Гетеротропия», в согласии с общепринятой классификацией, диахронической и синхронической одновременно, – так как вышеназванные разделы битистики соответствуют в то же время основным периодам ее возникновения и развития. Общая схема труда приводится ниже.
БИТ-ЛИТЕРАТУРА
(согласно Оллпорту, Иллмайнену и Саварини)
I. ГОМОТРОПИЯ [72]72
Раньше эта фаза называлась «моноэтической», или «моноэтикой». – Примеч. автора предисловия.
[Закрыть](гомотропическая фаза; cis-humana; также: «моделирующая» или «антропомикрическая» фаза)
А. Зародышевая (эмбриональная, или долингвистическая) стадия:
Паралексика (неологенез)
Семолалия
Семаутика
В. Лингвистическая стадия (по Оллпорту – «понимающая»)
Интерполирующий мимезис
Экстраполирующий мимезис
Трансцендентный управляемый мимезис («выходящий за рамки программы»)
II. ИНТЕРТРОПИЯ (также: «Критическая фаза», «Interregnum» [73]73
Междуцарствие (лат.).
[Закрыть])

III. ГЕТЕРОТРОПИЯ (апостазия, фаза trans-humana)

В генетическом плане битистика возникла как равнодействующая по меньшей мере трех, в значительной степени независимых друг от друга процессов, а именно: преодоления т.н. барьера разумности, что было прежде всего делом конструкторов; затем – неожиданной для них и вовсе ими не проектировавшейся работы компьютерных систем (начиная с 17-й бинастии) в режиме авторегенерации («релаксационные простои»); наконец, отношений, которые постепенно складывались между машинами и людьми, как следствие «обоюдного интереса друг к другу и выявления взаимных возможностей и ограничений» (Ив Бонкур). Барьер разумности, который безуспешно штурмовала ранняя кибернетика, как мы уже точно знаем, есть не что иное, как фикция. Фикция в том – неожиданном – смысле, что момент его преодоления машинами уловить невозможно. Переход от «неразумных», работающих «чисто формально», «болтающих что попало» машин к машинам «разумным», проявляющим «insight» [74]74
понимание (англ.).
[Закрыть], «говорящим» – носит градационный, плавный характер. И хотя понятия «механически бездумного» и «суверенного» мышления сохранили свое значение, мы понимаем, что между ними нельзя провести сколько-нибудь отчетливую границу.
Релаксационное творчество машин было замечено и зафиксировано почти тридцать лет назад; дело в том, что новым моделям компьютеров (начиная с 15-й бинастии) по чисто техническим соображениям пришлось предоставлять периоды отдыха, во время которых их активность не замирала, но, освобожденная от жесткой программы, вырождалась в своего рода «бормотанье». По крайней мере так толковали тогда эту вербальную или квази-математическую продукцию; появилось даже обиходное определение – «машинные сны». Считалось, что активный отдых необходим машинам для регенерации, для восстановления нормальной, полной работоспособности, подобно тому как человеку необходима фаза сна, вместес присущими ей сонными мечтаниями(видениями). Название «бит-продукция», как окрестили это «бормотанье» и эти «видения», носило, следовательно, уничижительный, пренебрежительный характер; считалось, что машины без ладу и складу перемалывают «биты всевозможной содержащейся в них информации» – и путем такой «беспорядочной перетасовки» восстанавливают частично утраченную работоспособность. Мы приняли это название, хотя его неадекватность бросается в глаза. Мы приняли его в соответствии с традицией любой научной терминологии: первый попавшийся термин – скажем, «термодинамика» – будет точно так же неадекватен, ведь современная термодинамика по своему объему не то же самое, чем она была для физиков, придумавших этот термин. Термодинамика занимается не только «тепловыми движениями» материи; и точно так же не о самих «битах», то есть единицах несемантическойинформации, идет речь, когда мы говорим о бит-литературе. Однако в науке вливание нового вина в старые мехи – дело обычное.
«Взаимное знакомство» машин и людей привело к разделению, все более явному, битистики на две главные области, которым соответствуют термины «créatio cis-humana» и «trans-humana».
Первая включает в себя литературу, которая является следствиемсосуществования машин и людей, то есть следствием того простого факта, что, привив машинам наш этнический язык и наши формальные языки, мы сверх тогозаставили их выполнять нашу умственную работу во всех сферах культуры и естествознания, paвно как в дедуктивных дисциплинах (логика и математика). Такое бит-творчество (непосредственной причиной возникновения которого было приобщение не-человеческих авторов к типично человеческой проблематике в сфере познания и сфере искусства), в свою очередь, делится на две подобласти, выделяющиеся довольно отчетливо. Одно дело – языковой продукт, полученный благодаря сознательному управлению, которое, вслед за проф. Кёнтрихом, можно назвать «заказом» (то есть прямымнаведением машин на избранный намикруг вопросов и тем), и совершенно другое – языковой продукт, которого ни один человек не «заказывал». Конечно, он возникает под влиянием предшествующих стимулов (программирования), однако в результате совершенно спонтанной деятельности. Независимо от того, непосредственноили опосредованновозникли все эти тексты, – связь с типично человеческой проблематикой остается их существенной и даже главной приметой; поэтому обе их разновидности исследует битистика «cis-humana».
И лишь предоставление машинам свободы творения – без всяких программ, приказов, стеснений и ограничений – привело к эмансипации их творчества (называемого «поздним») от антропоморфических и антропологических влияний. В ходе этой эволюции бит-словесность становилась все труднее для нас – ее потенциальных адресатов. Сегодня уже существуют области «за-человеческой» (в смысле – «trans-humana») битистики, имеющие целью уразуметь (путем анализа, интерпретации, толкования) бит-тексты, в той или иной степени непонятныедля человека.
Разумеется, можно попытаться использовать однимашины для истолкования результатов творчества другихмашин. Но количество промежуточных звеньев, необходимых для понимания бит-текстов, находящихся на крайних полюсах «апостазии» (то есть «отступничества» от наших форм творения, понимания и толкования чего бы то ни было), растет по мере возрастания сложности исследуемых текстов; эта сложность возрастает по экспоненте, не позволяя нам получить даже самое смутное представление о предельных проявлениях «апостазии». Человеческий род оказался совершенно беспомощным перед лицом словесности, которой люди, пусть косвенно, сами положили начало.
Вот почему приходится слышать, что ученые, дескать, оказались в положении ученика чародея, который вызвал к жизни силы, ему неподвластные. Это – голос отчаяния, но в науке нет места отчаянию. Вокруг бит-литературы уже выросла весьма обширная «про-» и «контр-бит-словесность». В этой последней нередки суждения, продиктованные ощущением безысходности; для нее характерно состояние горестного потрясения и вместе с тем изумления тем, что человек создал нечто переросшее его духовно.
Но следует совершенно определенно заявить, что битистика, будучи научной дисциплиной, не можетслужить трибуной высказывания такого рода взглядов, относящихся к философии природы, человека и плодов (в том числе нечеловеческих) его деятельности. Вслед за Роже Гацки мы полагаем, что у битистики не меньше, но и не больше оснований отчаиваться, чем, скажем, у космологии: ведь совершенно очевидно, что, независимо от того, как долго мы, люди, будем существовать и на какую помощь со стороны познающих машин сможем рассчитывать, Вселенную нам не исчерпать до конца, а значит, и не понять; но астрофизикам, космологам, космогонистам и в голову не приходит жаловаться на столь огорчительное положение дел.
Вся разница в том, что не мы – творцы Универсума, тогда как бит-творчество, через различные опосредования, есть, несомненно, дело наших рук. Но откуда, собственно, взялось убеждение, что человек совершенно спокойно может признавать неисчерпаемость Универсума и не может столь же спокойно и трезво признать неисчерпаемость того, что создано им самим?
3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ БИТИСТИКИ. Подробные объяснения и описания вместе с аннотированной библиографией предмета читатель найдет в соответствующих разделах монографии. Однако имеет смысл обозреть основные разделы битистики как бы с высоты птичьего полета; такое обозрение ни в коей мере не может заменитьподробного изложения, но может служить чем-то вроде краткого путеводителя по сильно пересеченной и потому вряд ли обозримой с близкого расстояния местности. Спешим подчеркнуть, что рассматриваемые далее основные разделы битистики даются в сильном упрощении, нередко граничащем с искажением ее важнейших проблем.
Итак, имея в виду предваряющий характер нашего обзора, остановимся лишь на четырех «кульминациях» бит-литературы, а именно на моноэтике, мимезисе, софокризии и апостазии. Эти термины, собственно, уже устарели; в современной терминологии им примерно соответствуют: гомотропия(ее первая часть), мимезис в собственном смысле, критика философии и сверх-разумное(выходящее за рамки нашего разумения) творчество. Однако прежняя терминология обладала достоинством выразительности, а простота вступительных объяснений нам важнее всего.
А.Под «моноэтикой»Крив, Галбрансон и Фрадкин, причисляемые к создателям, «отцам» битистики, понимали самую раннюю стадию битизма. (Термин образован от слов «монос» – единичный, и «поэзис» – творчество.) Моноэтика возникла в процессе обучения машин правилам словотворчества, совокупность которых определяет то, что некогда называли «духом» данного языка.
Язык, функционирующий реально и возникший исторически, правила словотворчества использует с очень сильными ограничениями; носители языка обычно этого не сознают. Появление машин, которым ограничения словотворчества на практикесовсем неизвестны, позволило лучше увидеть возможности, мимо которых проходит речь в процессе своей эволюции. Проще всего это показать на примерах, взятых из второго тома нашей «Истории», главным образом из глав «Паралексика», «Семаутика» и «Семолалия».
a) Машины могут употреблять слова, существующие в языке, определяя их смысл иначе, чем это принято: «бездорожье» (дешевизна); «стриж» (парикмахер); «конец» (кентавр на посылках); «наколенник» (неверный вассал, посаженный на кол); «голография» (графство нудистов); «саркофаг» (мясоед); «сипенье» (исполнение верхнего «си»); «стоматолог» (шахматист-сеансер).
b) Машины также создают неологизмы вдоль т.н. семантических осей; мы намеренно приводим примеры подобного творчества, не обязательно требующие пояснений:
«поседевка – потаскурва – общага – доступница»;
«глистоноша» (птица, кормящая птенцов);
«взубило – врубанок – помордник»;
«численок – двоичник – цифрант» (компьютер);
«висельчак» (пассажир фуникулера);
«гробоуказатель» (memento mori);
«душемойка» (чистилище);
«дракула» (рыба-пила);
и так далее.
Комический эффект здесь, разумеется, непреднамеренный. Все это – элементарные примеры, в которых, однако, видна черта, присущая бит-литературе и на более поздних стадиях ее развития (хотя там она далеко не столь заметна!). Все дело в том, что если для нас первичной и первейшей действительностью является реальный мир, то для них – язык. Компьютер, которому чужды были категории, навязываемые языку культурой, «считал», что «старая проститутка» – то же самое, что «поседевка», «потаскурва» и т.д. Отсюда же – типичные контаминации («конец» может служить классическим примером сплава значений и морфологического облика слов: тут сходятся «конь», «гонец» и «кентавр», играющий роль семантического цемента, – коль скоро конь не может быть посланцем, им будет полуконь-получеловек).
Компьютер на этом (лингвистически очень низком) уровне развития не знает ограничений в словотворчестве, и свойственная стратегии машинного мышления экономия выразительных средств, которая позже вызовет к жизни нелинейную дедукцию и понятия терафизики, названные «звездными», здесь проявляется как «предложение» уравнять в правах лексемы, уже укорененные в языке, такие, как «слово» или «дословный», с неологизмами «словопийца» (читатель), «словотяп» (графоман), «словоришка» (плагиатор), «словнюк» (грубиян) и т.д. На тех же основаниях лексический генератор предлагает слово «трилайбус» для обозначения эскимосской упряжки, а «дискоболь» – для обозначения страданий атлета, вызванных смещением позвоночного диска.
Приведенные выше произведения, состоящие из одного слова (по старой терминологии – моноэты), отчасти были результатом несовершенства программирования, а отчасти – сознательного умысла программистов, которых интересовала «словотворческая раскованность» машин; следует, однако, заметить, что многие из этих неологизмов лишь по видимости принадлежат машинам. Мы не уверены, например, в самом ли деле «автономию» назвал «самоуправством» какой-то компьютер, или это шутка юмориста-человека.
Моноэтика – важная область, поскольку в ней мы видим черты машинного творчества, которые на следующих стадиях уходят из поля зрения. Это – предвратие битистики или даже ее предшколье; оно успокоительно действует на неофитов битистики, которые, приготовившись к встрече с текстами, сжатыми до полной заумности, с облегчением видят нечто столь невинное и забавное. Но ненадолго хватает их удовлетворенности! Непреднамеренный комизм моноэтов возникает из-за коллизии между понятийными категориями, для нас совершенно несочетаемыми; если дополнить программы «категориальными правилами», мы окажемся в следующей области битистики (некоторые исследователи, однако, и ее называют лишь предбитистикой), в которой машины начинают «разоблачать» наш язык, выслеживая в нем обороты речи, обусловленные телесным строением человека.
Так, например, понятия «возвышения» и «унижения» возникли (согласно машинному, а не нашему толкованию!) потому, что любой живой организм, а значит, и человек, вынужден путем активного мышечного усилия противодействовать всемирному тяготению.
Стало быть, тело оказывается тем звеном, через которое градиент гравитации запечатлевается в человеческом языке. Систематизированный анализ речи, обнаруживший, сколь обычны такого рода влияния не только в мире понятий, но и в области синтаксиса, читатель найдет в конце VIII главы II тома. В третьем же томе рассматриваются модели языков, спроектированных бит-способом для среды, отличной от земной, а также для негуманоидных организмов. На одном из них, ИНВАРТе, МЕНТОР II сочинил «Пасквиль на Вселенную» (о котором будет сказано ниже).
В. Мимезисне только открывает перед нами неизвестные доселе механизмы духовного творчества, но и властно вторгается в мир духовных творений человека. Исторически мимезис возник как побочный и непредусмотренный эффект машинного перевода. Перевод требует многошагового и многоаспектного преобразования информации. Самые тесные связи возникают при этом между системами понятий, а не слов или фраз; машинные переводы с одного языка на другой в настоящее время так безупречны потому, что выполняют их агрегаты, не составляющие единого целого, а лишь «целящие» как бы с разных сторон в один и тот же оригинальный текст. Этот текст «отпечатывается» на машинном языке («посреднике»), и лишь затем «оттиски» проецируются машинами во «внутреннее концептуальное пространство». В нем возникает «n-мерное тело отражений», относящееся к оригиналу так, как организм к эмбриону; проекция этого «организма» на язык перевода дает ожидаемый результат.
Впрочем, реальный процесс сложнее, в частности, потому, что качество перевода постоянно контролируется путем обратного перевода (с «организма» на язык «оригинала»). Агрегат-переводчик состоит из блоков, между которыми нет связи: «общаться» они могут лишь через процесс перевода. Х. Элиас и Т. Земмельберг сделали поразительное открытие: «n-тело отражений» в качестве уже «истолкованного», то есть семантически усвоенного машиной текста, можно увидетьцеликом – если этот абстрактный объект ввести в особую электронную приставку (семоскоп).
«Тело отражений», спроецированное в концептуальный континуум, выглядит как сложная, многослойная, апериодическая и переменно-асинхронная фигура, сотканная из «пылающих нитей» – то есть из миллиардов «значащих кривых». Эти кривые в своей совокупности образуют плоскости разрезов семантического континуума. В иллюстративных материалах ко II тому читатель найдет ряд семоскопических снимков, изучение и сопоставление которых дает весьма впечатляющие результаты. Тут видно, что качество оригинального текста имеет отчетливое соответствие в геометрической «красоте» семофигуры!
Мало того: даже при небольшом навыке можно «на глаз» отличить дискурсивные тексты от художественных (беллетристических, поэтических); религиозные тексты почти без исключения очень сходны с художественными, тогда как для философских в этом (визуальном) плане характерен большой разброс. Не будет большим преувеличением сказать, что проекции текстов в машинный континуум – это их застывшие смыслы. Тексты особенно стройные в логическом отношении выглядят как сильно стянутые переплетения и пучки «значащих кривых» (тут не место объяснять их связь с областью рекуррентных функций: отсылаем читателя к IX главе II тома).
Всего необычнее выглядят тексты литературных произведений аллегорического характера: их центральная семофигура обычно окружена бледным ореолом, а по обеим его сторонам (полюсам) виднеются «эхо-повторения» смыслов, порою напоминающие картину интерференции световых лучей. Как раз благодаря этому возникла машинная топо-семантическая критика (мы еще скажем о ней) – критика любых интеллектуальных творений человека, и прежде всего – его философских систем.
Первым произведением бит-мимезиса, получившим всемирную известность, был роман Псевдо-Достоевского «Девочка». Создал его в релаксационном режиме многоблочный агрегат, занимавшийся переводом полного собрания сочинений русского писателя на английский язык. Выдающийся русист Джон Рали в своих воспоминаниях рассказывает, какое потрясение он пережил, получив машинописную рукопись, подписанную странным (как он полагал) псевдонимом ГИКСОС. Впечатление, произведенное чтением «Девочки» на этого знатока Достоевского, надо думать, было и впрямь неслыханным, коль скоро он, по его собственным словам, усомнился, что читает роман наяву! Авторство текста было для него несомненным, но в то же время он знал, что у Достоевского такого романа нет.







