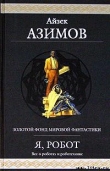Текст книги "В мире фантастики и приключений. Выпуск 5. Вахта «Арамиса»"
Автор книги: Станислав Лем
Соавторы: Ольга Ларионова,Даниил Гранин,Илья Варшавский,Александр Шалимов,Евгений Брандис,Владимир Дмитревский,Михаил Владимиров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
– Стоят, – ответил Доктор.
Ракета, задетая взрывной волной, вздрогнула.
– Старт! – громко сказал Координатор.
Инженер с мертвым лицом включил привод. Люди не слышали ничего, кроме очень слабых далеких взрывов, которые происходили как будто в другом, ничего общего с людьми не имеющем мире. Медленно нарастал тихий, пронизывающий свист – все как бы растворилось в нем, растеклось; мягко покачиваясь, люди проваливались в объятия неодолимой силы.
– Стоим на огне, – сказал Инженер.
Это значило, что ракета оторвалась от грунта и выбрасывает ровно столько огненных газов, сколько необходимо, чтобы уравновесить собственную тяжесть.
– Нормальная синергическая, – сказал Координатор.
– Выходим на нормальную, – доложил Кибернетик.
Задрожали нейлоновые тросы. Лапы амортизаторов вышли из поршней и медленно поползли назад.
– Кислород! – крикнул Доктор, как бы проснувшись, и сам закусил эластичный мундштук.
Через двенадцать минут корабль вышел за пределы атмосферы. Не уменьшая скорости, он уходил в звездную черноту по виткам разматывающейся спирали. Семьсот сорок огоньков указателей, контрольных ламп, приборных шкал пульсировало, дрожало, мигало и сверкало в рубке. Люди расстегнули пояса и побросали карабины на пол. Они подходили к распределительным пультам, недоверчиво клали на них ладони, проверяли, не греются ли где-нибудь трубопроводы, не слышно ли шипения замыканий, подозрительно втягивали воздух – нет ли запаха огня, гари, – заглядывали в экраны, проверяли показания астродезических калькуляторов – все было таким, каким должно было быть: воздух чистый, температура нормальная, распределительный щит словно никогда и не превращался в груду обломков.
В навигационной рубке над картами склонились Инженер и Координатор.
Звездные карты были больше, чем стол, они свисали на пол, иногда рвались. Давно шли разговоры, что в навигационной нужен стол побольше, а то все топчут карты. Но стол оставался неизменен.
– Видел Эдем? – спросил Инженер.
Координатор непонимающе взглянул на него:
– Кто? Я?
– Сейчас. Погляди.
Координатор обернулся. На экране, гася близкие звезды, плыла огромная опаловая капля.
– Прекрасная планета, – сказал Инженер. – Потому мы и свернули с курса, что она такая прекрасная. Мы хотели только пролететь над ней.
– Да. Хотели только пролететь.
– Исключительный блеск. Другие планеты не такие прозрачно-чистые. Земля так просто голубая.
Они все еще смотрели на экран.
– Остались, – тихо сказал Координатор.
– Да, он сам так захотел.
– Ты думаешь?
– Уверен. Он предпочел, чтобы мы, а не они. Это было все, что мы могли для него сделать.
Некоторое время они молчали. Эдем удалялся.
– Какая чистая, – сказал Координатор. – Но… знаешь… По теории вероятности следует, что бывают еще прекраснее.

Даниил Гранин
Место для памятника
I
Впоследствии даже мелкие подробности этого события стали казаться Осокину многозначительными и странными. Но, пожалуй, самым странным было то, что вся история, во всяком случае в его рассказе, выглядела совершенно естественной, обыкновенной, даже скучноватой. Вот это-то и заставляло к ней прислушиваться.
Примерно речь идет о начале пятидесятых годов нашего века. Карьера Осокина только начиналась, и начиналась неплохо. У него была машина, кабинет, секретарша, он ведал большим отделом, и попасть к нему на прием было уже нелегко.
Приемных дней Осокин не любил. К вечеру голова становилась тяжелой, мускулы лица болели от выражения внимательной вежливости, Осокин раздражался, проклинал свою должность, из-за которой гибла его еще такая молодая, такая перспективная жизнь. Как он ни старался, очередь в приемной не убывала. За два года она даже выросла. Чем больше он принимал, тем больше к нему записывались на прием.
Было без сорока минут семь, то есть практически Осокин мог принять еще двоих-троих, поскольку на посетителя в среднем уходило десять-пятнадцать минут.
Осокин точно запомнил, что посетитель оказался предпоследний, и фамилия его была Лиденцов. Память на фамилии у Осокина была чисто профессиональной.
Судя по фигуре и походке, вошедшему можно было дать лет сорок – сорок пять, прожитых, очевидно, нелегко. Худой, очень морщинистый, в затрепанном коричневом пиджаке с оттопыренными карманами, он выглядел каким-то обгорелым, обожженным или обугленным, что-то в этом роде, определил Осокин. Лиц своих посетителей Осокин не разглядывал. Входя к нему, люди делали нужные им лица – робкие, страдающие, измученные, – то были не их собственные лица, и на эту удочку Осокин не поддавался. Скорее можно было раскусить посетителя по тому, как он приближался к столу или протягивал свои бумаги.
Пока Лиденцов говорил, Осокин листал его дело, Обстоятельства были несложные. Два года назад Лиденцов разошелся с женой, жил где-то у приятелей, снимал угол, а теперь просил комнату. Право на совместную жилплощадь он потерял, – очевидно, не захотел судиться, а просил дать ему комнату скорее, сейчас. Никаких к тому уважительных оснований Лиденцов вроде не имел. И ни на что не ссылался. На дурачка не походил. Бывают такие чудаки, – как будто Осокин тут же вынет им из ящика ордер на квартиру. Лиденцов держался уверенно, даже весело, – большей частью так держатся имеющие чью-то поддержку.
– Очередь для всех одинакова. Чем другие хуже вас?
Фразы у Осокина были отработаны на все случаи, однако осторожности ради он несколько смягчил тон.
– Знаете, в моем положении, – сказал Лиденцов, – думать приходится не о преимуществах других, а о своих собственных.
Осокину показалось, что отвечают ему такими же заготовленными фразами, как будто исполнялась заученная сцена.
– Какие ж у вас преимущества?
Лиденцов почему-то засмеялся.
– Я болен.
Тут же поднял рукав и показал сыпь, мелкие красные струпья. Зрелище было препротивное, но Лиденцов не стеснялся, сам с задумчивым интересом разглядывал свою руку.
– Мне каждый день надо ванну принимать.
– Внеочередным правом пользуются туберкулезные больные.
– Значит, не тем заболел?
– Вы ж интеллигентный человек, – с укором сказал Осокин. – Как вы можете, вы представляете себе, что такое открытая форма туберкулеза?
За точность текста и тут и дальше ручаться нельзя. Вряд ли Осокин мог буквально запомнить этот диалог. Свои собственные реплики он восстанавливал легко, реплики же Лиденцова он преподносил по-разному, и приходилось выбирать наиболее достоверное. Но впрочем, как судить о достоверности? Вот, например, в этом месте Лиденцов заговорил о другой болезни, мучившей его. Слова его были настолько путаны, что Осокин считал неудобным повторять их.
Смысл сводился к тому, что Лиденцов страдал от хода времени: поток времени, видите ли, шел через него, раскачивая какие-то рецепторы его организма. Лиденцов физически ощущал разрушительное движение времени, оно уносило частицы его, оно размывало его, как песок, и он пытался пересекать его под углом. На Осокина все это произвело впечатление гораздо меньшее, чем сыпь, хотя Лиденцов говорил взволнованно. Пришлось Осокину прервать его: при чем тут комната? Лиденцов объяснил, что работа у него сейчас теоретическая, ему надо сидеть и думать. Что это за работа, когда можно не ходить на работу, – этого Осокин не понимал и понимать не желал.
– Ах, да! – спохватился Лиденцов и стал рыться в карманах. – Совсем забыл. – Он вытащил ветхий, заношенный конверт.
Так Осокин и предполагал, так он и думал, что существует бумажка; без нее люди не ведут себя столь уверенно. Подобных посетителей с записочками, резолюциями, ходатайствами, по которым он обязан был обеспечивать, содействовать, предоставлять, Осокин терпеть не мог. Он даже выступал против подобной практики. Все эти записочки урезали его и без того скудные возможности. Нарушался порядок, последовательность всех прохождений, весь механизм, который он с таким трудом налаживал.
Письмо со штампом управления, номер которого требовал внимания, было обращено к глубокоуважаемому товарищу Осокину с просьбой помочь научному сотруднику Лиденцову, занятому важнейшими исследованиями. Какой-то сверхпроводимостью при комнатной температуре… какая-то гипотетическая сверхпроводимая молекула, – как будто Осокин должен был понимать, о чем идет речь. Самомнение ученых больше всего раздражало Осокина, – то, чем они занимаются, обязательно проблема всемирного значения, и все остальное перед ней – мелочи. Однако в этой бумаге было что-то сверх обычное, – Осокин никак не мог понять, что именно, но что-то беспокоило его. Что-то в ней было особенное.
– Одну комнату вам, – повторял он, – без очереди, ну конечно сверхпроводимость, – и вдруг воскликнул, озаренный догадкой: – А подпись-то, а!
– Что подпись? – удивился Лиденцов.
– Подписано-то академиком Ляхницким! – торжествуя, сказал Осокин.
– Да-да, он в курсе моей работы.
– Ах, в курсе, – Осокин обрадованно покивал, – а между прочим, умер он в прошлом году. Или в позапрошлом? – и уличающе поднял палец.
Но никакого замешательства не произошло, Лиденцов был даже разочарован.
– А, вот вы о чем, – сказал он. – Но какое это имеет значение?
Признаться, Осокина тут чуть тряхануло.
– Как так – какое значение? Очень даже большое значение. Оно же недействительно! Придется вам новое письмо брать. Пусть академик Полуянов, он у вас теперь, пусть он обратится.
– Полуянов? Что вы! – Лиденцов руками замахал. – Полуянов не был никаким ученым. Пустой сундук. Он никогда не верил в такое решение задачи.
Именно после этой странной фразы Осокин впервые внимательно посмотрел на Лиденцова, заметил детскость его нездорово темного лица. Слегка прищуренные яркие глаза были как прорези куда-то, где что-то клубилось, менялось…
– То есть как это – был? – медленно и строго спросил Осокин. – Что вы имеете в виду?
– Господи, да никто ж про него и не помнит.
– Погодите. – Осокин подымался, опираясь о стол. – Я ведь только вчера говорил с ним по телефону.
Лиденцов досадливо поморщился:
– А-а-а, если в этом смысле…
Осокин уверял, что его слова о Полуянове были не случайной оговоркой. И в то же время невозможно представить, на что этот человек рассчитывал. Обмануть? Запутать? И не смутился, когда его поймали с поличным, когда Осокин, стукнув по столу, напомнил, что Полуянов депутат, заслуженный человек и кто дал право… И тут Осокин постучал по столу иначе, кончиком ногтя, – так, чтоб было вполне понятно.
– Учтите! – заключил он тоном, не требующим ответа.
Но Лиденцов шагал по кабинету, разглядывая носки своих растоптанных туфель. Он упирался кулаками в днища карманов и думал о чем-то своем. Вполне возможно, что он не слышал Осокина.
– А если 6 к вам пришел Шокли? – вдруг спросил Лиденцов.
– Кто?
– Да, вы можете и не знать… ну, допустим, Менделеев?
– Что за Менделеев?
– Дмитрий Иванович Менделеев, слыхали? И вот Менделеев нуждается в комнате. Ему тоже надо получить бумажку от Полуянова?
– Но вы пока что не Менделеев.
Лиденцов не обратил внимания на его усмешку.
– А все же, если бы пришел Менделеев?
На психа Осокин не стал бы сердиться. Психов он умел выпроваживать. Но в том-то и дело, что Лиденцов не был психом, у Осокина и мысли такой не возникало.
– Скромности вам не хватает, скромности, – произнес Осокин тоном, который следовало бы учесть.
Тем не менее Лиденцов не смутился, – наоборот, похоже было, что ему стало смешно, он тихо посмеялся чему-то своему, но при этом немножко и над Осокиным.
– Между прочим, – Осокин откинулся на спинку кресла, – срок вашей прописки кончился. Вы нигде не прописаны.
– И что же?
– А то… будто вы не знаете. Вы вообще лишаетесь всяких прав. Из очереди вас следует исключить.
– Это невозможно, – горячо сказал Лиденцов. – Вы, наверное, не представляете себе размаха проблемы.
Смеяться Лиденцов все же перестал, схватил свое недействительное отношение и принялся вычитывать оттуда хвалебные формулировки и комментировать.
Данный момент в рассказе Осокина был наиболее невнятным. Он тогда не придавал никакого значения словам Лиденцова. Он постукивал карандашиком, ожидая, когда кончится эта тарабарщина.
А именно эта часть беседы в дальнейшем представляла особый интерес, поэтому Осокина уговорили провести сеанс стимуляции памяти. Удалось восстановить немногое. По обрывкам фраз можно лишь догадываться, что Лиденцов говорил о возможности изменить всю энергетику, электронику, биологию… «Ясно станет, как генетическая молекула хранит информацию», – вот, пожалуй, единственная буквальная фраза, которую привел Осокин.
Текст ее сохранился в памяти Осокина, вероятно, потому, что он вцепился в эти слова: молекула, молекула… Подобные типы воображают, что весь мир держится на их молекулах. Как же, им одним ясно, как молекулы хранят информацию, они, видите ли, Менделеевы, Мендели, а все остальные – вахлаки, лопухи.
Кто для него Осокин? Писарь, конторщик, который обязан обслуживать, обеспечивать корифеев с их генетическими молекулами, они, видите ли, корифеи, пуп земли, они решают мировые проблемы…
– Верю вам, дорогой, – Осокин переходил в таких случаях на полную вежливость, и вида не подавал, конечно, это очень интересно, как она там хранит информацию, да только все это теория.
Тут Лиденцов почему-то смутился. До того он вел себя чересчур свободно. Независимо ходил по кабинету, останавливался у окна, спиной к Осокину, подходил ккафу и рассматривал там корешки Большой Советской Энциклопедии и каких-то неизвестных самому Осокину справочников.
Смущение Лиденцова выразилось в том, что он замахал руками и стал розоветь.
– Ах, да, конечно, у меня пока модель…
– То-то и оно-то, – с напором продолжал Осокин, встал и пошел на него. – А кроме теории есть практика. Практика жизни! С вашими молекулами дома не построишь. Молекулы у нас есть, а кирпича не хватает. И цемента. На стройку никто не идет. Все молекулами заняты. Да еще при комнатной температуре; – конечно, это лучше, чем в котловане.
Лиденцов растерянно потер лоб и сказал:
– Значит, вы ничего не поняли.
– Нет, это вы ничего не поняли! – крикнул Осохин. – Только о себе думаете! – И с горечью махнул рукой. – Ладно. Вас не переговоришь. Там меня еще посетители ждут. Они, конечно, не Менделеевы, но тоже люди.
На таких, как Лиденцов, это действовало. Он съежился, послушно направился к дверям, однако на полпути обернулся:
– Значит, я не получил?
Что-то у него и впрямь не ладилось с временами.
– Да, только в порядке очереди.
– И вы не боялись?… – удивился Лиденцов.
– Чего? Что вы имеете в виду?
– …ошибиться, – робко сказал Лиденцов и опять чему-то удивился.
– Вы про что? – зачем-то крикнул Осокин, не спуская с него глаз.
Тут Лиденцов хитро подмигнул, и по лицу его прошло нечто из – других инстанций, как будто он что-то знал про. Осокина, и не только про Осокина.
– А если Менделеев?
Осокин засмеялся нервно, против воли, и тоже подмигнул:
– Ну, если Менделеев, тогда устроим.
Когда прием кончился, Осокин достал из шкафа том энциклопедии, нашел Менделеева, долго смотрел на памятный по школе портрет с тонкой широкой бородой. Лиденцов… Лиденцов… – Получилось нечто нагловатое и ерундовое, обсосанный прозрачный леденчик… Менделеев… Менделеев… – Он прислушался, покачал головой и удивился тому, что у великих людей всегда бывают и фамилии красивые, внушительные. И внешность у них значительная. Он тогда же подумал о том, как будет звучать его фамилия – Осокин, Осокин…
У Осокина было счастливое свойство: он умел забывать неприятное. Поскольку посещение Лиденцова было чем-то непонятно, а следовательно, и неприятно, Осокин о нем больше не думал.
II
Через неделю снова был приемный день, снова появлялись люди и уходили, обдумывая замечания Осокина, их скрытый смысл, интонацию его голоса. К семи часам Осокин захлопнул папку. Кабинет имел вторую дверь, которая выходила прямо в коридор. Осокин хорошо запомнил этот вечер. Собственно, вечер только наступал, фонари еще не зажигались, с желтого неба падал редкий дождь, желто блестели мостовые, и вода в канале блестела, как мостовая.
Осокин поднял воротник, что чрезвычайно шло ему, надвинул глубже мохнатую кепку, – отличная у него тогда была кепка, моднейшая и в то же время без пижонства
Перейдя мостик, он не свернул на набережную, а пересек площадь и спустился в винный подвальчик. Был такой подвальчик «Советское шампанское», или «шампузия», как называл его Осокин: славный, пропахший вином, бочками, дымом подвальчик, куда заходили сотрудники ближних учреждений, командировочный народ, пили у стоячка, закусывали конфеткой, беседовали, обсуждали хоккейные и футбольные таблицы; пьянства тяжелого и злого тут не бывало, потому что пили виноградные, самым крепким была «бомба» – смесь шампанского с коньяком.
Осокин взял стакан такой бомбы и потягивал сквозь зубы ледяную жгучую смесь. Усталость проходила.
Только что он крадучись спешил по коридору, стараясь, чтобы никто не узнал его, потому что сразу наваливались со своими просьбами; еще только что каждая его минута была нарасхват, люди добивались возможности встретиться с ним, записывались за месяц вперед, подстерегали его, и вот он стоит спокойненько, кругом толпятся, чокаются, дымят, и на него никто и не обращает внимания, никто не догадывается. Он любил такие минуты. Как раз в то время он бросал курить. Еще не бросил, но сильно сократил себя. Сейчас, после вина, ему захотелось затянуться. Он достал из карманчика единственную, хранившуюся на случай, сигарету, обратился к соседу за огоньком. Щелкнула зажигалка, Осокин прикурил, поднял глаза.
Он еще не успел сообразить, кто это, как человек с ним поздоровался, деловито, как будто давно ждал его. Осокин вдруг сообразил, что перед ним Лиденцов, и удивился своей памятливости, и еще больше тому, что Лиденцов не назвал себя, словно уверенный, что его помнят.
На Лиденцове было потертое кожаное пальто, длинное, с широкими плечами, нелепо пестрый шарф, зато на голове сияла шапка из неизвестного Осокину гладкозолотистого меха. Все вместе создавало вид такой жалкий и бедственный, что Осокин не стал сердиться на этого человека. Осокин почувствовал свое гладкое молодое лицо, хорошо сшитое модное пальто, ловкое, из заграничного ратина, свою позу, свободную, и добрую. Нарушая правило, он даже спросил Лиденцова – как дела? Правило у Осокина было такое – самому не вдаваться в бедственные обстоятельства. Обстоятельства вызывали сочувствие, требовали содействия, а помочь Осокин не мог. Никто и не представлял себе, как мало, до обидного мало у него было возможностей. Несмотря на шикарный кабинет и секретаршу и прочее, от Осокина мало что зависело. Отказывать – это он мог, тут у него были неограниченные права. А легко ли всегда отказывать? Слышать от людей одни жалобы, просьбы, – к нему же шли только с нуждой и бедствием. Господи, сколько их!
Лиденцов жаловался ему, а он жаловался Лиденцову. В такой обстановке совсем по иным законам идет разговор. Лиденцов пил коньяк. Он вертел в руке стакан с коньяком, чокаться они не чокались, а время от времени поднимали стаканы, согласно местным обычаям. Осокин убежден, что держался вполне демократично, и даже начало появляться у него что-то вроде жалости. И кто знает, может быть, все пошло бы похорошему, но Лиденцов стал зачем-то напоминать ему про Менделеева, и все приставал – не желает ли Осокин убедиться?
– В чем? – вынужден был спросить Осокин.
Не снимая шапки, Лиденцов каким-то ловким движением вытащил из-под нее бумаги, целую пачку бумаг. Конечно, Осокин полагал, что там всякие отношения из института насчет комнаты.
Странно было, что Лиденцов, вроде бы ученый человек, интеллигент, а не понимал, как невыгодно ему сейчас лезть с делами, бестактность это.
Лиденцов свободной рукой обтер мокрый прилавок, где стояли стаканы, положил перед Осокиным одну бумагу, вторую, еще и еще… Бедное освещение подвала еле пробивалось сквозь дым в их угол.
Осокин взял первую бумагу, всмотрелся. Это был печатный бланк института сверхпроводимости имени С. Лиденцова. Так и стояло синими буквами: имени С. Лиденцова.
Осокину понравилась бумага – тонкая, шершавая, похоже, что тисненая.
Он добродушно хмыкнул Лиденцову:
– Лихо! Лихо придумали.
Лиденцов ответил виноватой улыбкой, взял у Осокина бланк, подал ему следующую бумагу.
В полутьме Осокин с трудом разбирал мелкий шрифт. Несомненно, это была вырезка из журнала. Юбилейная статья с портретом Лйденцова и фотографией института имени Лйденцова сообщала о каких-то новых документах, освещающих деятельность выдающегося ученого прошлого…
Осокин не стал вчитываться, шутка зашла далеко, напечатано типографским шрифтом, сомнений быть не могло: вот еще одна вырезка, другой шрифт, снова портрет Лиденцова. И марка зеленая, почтовая марка с портретом Лйденцова, самая настоящая марка, с зубчиками. К столетию… Осокин послюнил палец, потер рисунок – не смывается.
Тут Осокин взглянул на Лйденцова, потом опять на марку и на вырезки. На всех портретах Лиденцов был чуть старше, чем сейчас, – не то чтобы неудачное изображение, нет, Осокин почувствовал, что на портретах Лиденцов такой, каким еще не был.
Нервы у Осокина были крепкие, и не так-то легко его было сбить с толку.
– Розыгрыш? – понимающе осведомился он. – Покупочка?
Лиденцов грустно помотал головой. Поеживаясь, следил он, как Осокин взял еще одну вырезку с пришпиленной фотографией. Показалось Осокину или нет, что Лиденцов пристыженно потянулся, словно желая забрать этот документ назад. Осокин отстранил его руку. Заметка была вырезана из газеты наспех, неровно, с краями соседних заметок. Корреспонденция описывала открытие памятника С. Лиденцову, торжественную церемонию, падение покрывала и как перед глазами толпы предстал памятник, своеобразный по своему художественному решению: поскольку он был без пьедестала, фигура ученого висела в воздухе, замысел выражал идею открытия… Осокин пропускал абзацы. Митинг… председатель горсовета, какая-то незнакомая фамилия… «в нашем городе жил и работал»… «мы, земляки»… «слово предоставляется президенту Академии наук», опять совсем неизвестная фамилия… «вписал… Лиденцов… к славе отечественной науки… преобразователь»… Министр присутствовал, и секретарь… и никого из них Осокин не знал. Впервые он читал эти фамилии, никому не известные фамилии. Но это было напечатано в газете, он читал фамилии своими глазами, а газете Осокин привык верить больше, чем любой книге или журналу. На фотографии был памятник, маленькая трибуна, вроде знакомая площадь, лица людей на трибуне – чужие, властные, слишком молодые.
Осокину стало страшновато. Правда, Оеокин умел не показывать своих чувств. По его лицу никто ни о чем не мог догадаться. Он давно выработал это необходимейшее качество. И напрасно Лиденцов надеялся. Лиденцов уставился на него не мигая, никакой шутки в глазах его не было, и согласия на шутку там не было. Глаза сквозили, как щели, оттуда тянуло знобящим холодком, что-то там виделось непредусмотренное, совершенно неположенное.
– Так. Далеко вы заехали, дорогой мой, – вкрадчиво сказал Осокин. Он мгновенно подобрался: дело становилось серьезным и следовало вести себя со всей предусмотрительностью. – Пользуетесь типографией? Клише изготовили. Активные у вас методы. Вы на что рассчитываете?
– Вы же сами обещали, я специально… – начал было Лиденцов, но Осокин не позволил себя прервать.
– Вы меня не плюсуйте. По-вашему, у нас там кто? – Он показал глазами наверх. – Новые люди сидеть будут? Откуда, спрашивается, вам их фамилии известны? Кто вам подсказал? Понимаете, чем это пахнет?
Кто-кто, а сам Осокин понимал отлично – лучше всего было избежать скандала и поскорее вывернуться из этой опасной истории. Никаких злых намерений он не имел, на всякий же случай отпор он обязан был дать.
– Провокация, – сказал он. – За такую аферу вас можно…
Лиденцов страдальчески покраснел:
– Вам сколько лет?
– Это еще что? – удивился Осокин. – Вы мне бросьте. Не на того напали. – Он скомкал вырезки, помахал ими перед носом Лйденцова. – Думали меня купить?
Алые пятна пошли по лицу Лиденцова, он стиснул зубы, потянулся к Осокину за бумагами, Осокин убрал руку за спину и засмеялся, ибо уморительно было представить памятник Лиденцову, этот маленький носик уточкой, блестящий и красный, это протертое добела кожаное пальто – и все в бронзе.
– Силен, а? Памятник ему. Вот так! – Смех все пуще разбирал Осокина. – Медный всадник! Колоссально!
Губы Лиденцова задрожали, он схватил Осокина за руку, вывернул ее и вырвал бумаги. От боли, от наглости Осокин рассвирепел, отвороты лиденцовского пальто затрещали в его руке. Лиденцов почти ничего не весил, он с легкостью полетел и шлепнулся на пол, в угол. Вскочив, он снова кинулся на Осокина. Стакан Осокина зазвенел, разбился. Осокин был много сильнее Лиденцова, он мог разделать его, как бог черепаху, дух из него вышибить. Ничтожество. Речи о нем будут держать.
Конечно, симпатии присутствующих были на стороне Осокина. Налицо было явное хулиганство. Осокин вынужден был защищаться. И когда появилась милиция, Лиденцова сразу определили как нарушителя.
И забрали его. Тем более, что в паспорте у него не было прописки. И он был пьян. И все лез к Осокину.
Для восстановления душевного равновесия Осокин принял еще сто граммов коньяка. Уборщица смела осколки, подняла залитую вином фотографию, подала Осокину. Это была отдельная фотография площади с памятником Лиденцову, отлично исполненная фотография. Осокин сунул ее в карман, на всякий случай, как вещественное доказательство.
Назавтра звонили из милиции, Осокин сказал свое мнение: аферист и вообще не мешало бы, чтобы общественные организации в институте занялись им. Со своей стороны Осокин приказал снять его с очереди, как не имеющего прописки.
Больше о Лиденцове он ничего не слыхал. Об этой истории он старался не вспоминать. Как-то, услышав о телепатии, он отнес все случившееся за счет телепатии, гипноза и прочих штук и окончательно успокоился.