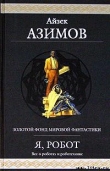Текст книги "В мире фантастики и приключений. Выпуск 5. Вахта «Арамиса»"
Автор книги: Станислав Лем
Соавторы: Ольга Ларионова,Даниил Гранин,Илья Варшавский,Александр Шалимов,Евгений Брандис,Владимир Дмитревский,Михаил Владимиров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
И никогда не спрашивали Ираиду Васильевну. Ни о чем.
А чтобы не почувствовала она, что ее обходят молчанием как-то по-особенному, Симона с присущим ей тактом шутила: «Королям и начальникам космических станций вопросов не задают».
И тогда Ираиде Васильевне хотелось нагнуться – как тогда, в мобиле.
Собственно говоря, небольшой искусственный спутник, которым командовала Ираида Васильевна, не был самостоятельной космической станцией, как гигантская «Первая Козырева», предназначенная для приема кораблей, крейсировавших между искусственными спутниками Земли, Марса, Венеры и Сатурна, а также планетолетов-разведчиков, ходивших в сверхдальные рейсы с научно-исследовательскими целями. Лет сто тому назад, когда космическое пространство только начинало осваиваться, было создано около десятка неуклюжих сверхмощных ракет, способных преодолевать расстояние между планетами с одновременной посадкой на них. Но после заключения Мельбурнской конвенции, по которой все освоение космического пространства шло под контролем Комитета космоса ООН, всем космическим державам было предложено перейти на создание кораблей двух типов: одни, межпланетные, могли летать только в Пространстве, другие, маленькие, но с чудовищной грузоподъемностью, словно муравьи, перетаскивали на Землю все то, что доставлялось межпланетчиками на промежуточные околоземные станции.
«Муравьи», как их прозвали и даже стали официально именовать, имели строго ограниченные зоны посадки. Огромная сеть радарных установок службы космоса немедленно засекла бы любого «муравья», если бы он попытался сесть в какой-нибудь отдаленной зоне, дабы миновать контроль.
Такие меры действительно были необходимы, и не только потому, что бесконтрольный вывоз сокровищ с других планет противоречил принципам, согласованным между странами. Биологическая угроза, которая неминуемо нависла бы над Землей в случае хаотических межпланетных рейсов, тоже была немаловажным фактором при подписании Мельбурнской конвенции.
Но основным камнем преткновения были венериане.
Земное человечество не могло прийти пока к единому мнению: как же помочь совсем недавно возникшему человечеству Венеры?
И конвенция ограничила. до минимума полеты на эту планету, категорически запретила вступать в контакт с венерианами, впредь до составления единой четкой программы взаимоотношений с ними.
Решение это было компромиссным, но мудрым.
Несколько десятков лет система околопланетных станций вполне оправдывала себя, и космическое строительство было направлено исключительно на увеличение числа межпланетных грузовиков и «муравьев».
Ракеты прибывали непосредственно на космические станции, где проходили карантин, проверку двигателей и досмотр грузов сотрудниками Международной службы. Но однажды, почти одновременно, на «Первой Козырева» весь персонал, а также экипажи трех швартовавшихся ракет были поражены Цестой аробирой, занесенной, по-видимому, с Марса; а «Линкольн Стар» едва не погиб от взрыва вышедшей из управления ракеты, которую вовремя не успели отвести подальше… Тогда-то и было решено около каждой космической станции создать группу вспомогательных спутников, играющих роль таможенных станций.
Несмотря на. то, что сооружение спутников о. бычно велось объединенными силами космических держав, строительство станций вокруг «Первой Козырева» почти целиком осуществлялось французскими инженерами.
Поэтому и названы оНи были по-французски:
«Атос», «Портос» и «Арамис».
«Атос», самый малый из этой группы спутников, принимал пассажирские ракеты, «Портос» – грузовики, «Арамиб» же, как наиболее оснащенная станция, был универсальным и поэтому контролировал нетиповые, очень устарелые или, наоборот, совершенно новые грузо-пассажирские и исследовательские корабли.
«Бригантина» была из числа новейших американских моделей.
Краса и гордость
Собственно говоря, «Бригантина» и не могла быть иной, – породистая титанировая лошадка, «моя серая в яблоках»'– как говорил капитан, высокоманевренный грузовой планетолет с активной тягой в семьсот пятьдесят мегафорс. Она не могла не быть красой и гордостью американского космического флота, потому что кроме ее собственных достоинств ее капитану, тридцатидвухлетиему Дэниелу O'Брайну, «джентльмену космоса», сопутствовала неизменная удача, удача ровная и не бросающаяся в глаза, как и положено быть судьбе истинного джентльмена.
Что же касается удачи второго пилота, то ее можно было назвать просто дьявольской, – вряд ли какой другой выпускник школы космонавтов мечтал в свои двадцать два попасть сразу на трассу «Первая Козырева»-«Венера-дубль», да еще и на красавицу «Бригантину», да и еще к такому капитану, как O'Брайн. Но Александр, или попросту Санти Стрейнджер, был чертовски удачлив и принял все сыпавшиеся на него блага как должное.
Что же касается Пино Мортусяна, то плевать ему было на все достоинства «Бригантины», потому что ему по горло хватало своих обязанностей бортового космобиолога, и даже больше чем хватало. В течение рейса он брюзжал и ругался так, что можно было с уверенностью сказать: этот человек никогда больше не подойдет к ракете ближе чем на четверть экватора. Но «Бригантина» готовилась к очередному рейсу, и за день до отлета на борту исправно появлялся Пино со своей традиционной воркотней. Впрочем, ворчал биолог не постоянно: ступая на твердую почву – будь то Земля или один из спутников, – он становился нем, как карп. По всей вероятности, именно этого качества и не хватало предыдущим космобйологам «Бригантины».
– К сведению экипажа, – сообщил капитан: – через четыре часа – генеральная уборка. Всем надеть биологические скафандры. Вам тоже, Санти, хоть вы и возьмете на себя управление. Еще через шесть часов торможение и одновременно – дезинфекция.
– Охо-хо… – Мортусян оттянул крепежный пояс и перевернулся на другой бок. – Опять этот винегрет из кошмаров. Ну начали бы дезинфицироваться на два часа пораньше, как будто от этого что-то изменится…
Капитан и головы не повернул.
– Есть генеральная чистка, капитан, – бойко отозвался Санти и звякнул серьгой.
Мортусян прекрасно помнил, как появилась эта серьга: в самом начале рейса, как только корабль взял разгон и было снято ускорение, капитан, по обыкновению, стянул с себя обязательный синтериклоновый комбинезон. Пино забрался в уголок и потихонечку сделал то же самое, так как все это повторялось каждый рейс и капитан ни словом не обмолвился по поводу такого нарушения инструкций сектора безопасности. Но в секторе – кто? Космодромные крысы. Их бы сюда, в сладковатую, душноватую невесомость, когда на вторые-третьи сутки появляется ощущение такой легкости, такой отрешенности от каких бы то ни было тягот, что вдруг возникает мысль: так может быть только перед концом. И вдруг теряется направление полета, и уже все равно, куда лететь – вверх, вниз, вбок, потому что все равно летишь прямо к тому, последнему, самому страшному, что бывает у каждого, но о чем никто не рассказал просто потому, что рассказать не остается времени; и это самое страшное – не какое-то чудище, как в детстве, когда свет погасили и кажется, что разинется огромная пасть и – ам! – тут тебя и слопали, – нет, это обязательно что-то неживое, нетеплокровное, безжалостное в своей механичности, неминучести той ослепительной вспышки, до которой еще три секунды… две секунды… одна…
Какой тут, к чертям, скафандр.
Пока Мортусяна мучили все эти ужасы, – он всегда препогано чувствовал себя в самом начале рейса, потом это проходило, а если и возвращалось, то лишь в виде короткой, мучительной спазмы панического страха, так вот, этот новичок, этот салажонок в первом рейсе тотчас же принялся стаскивать с себя скафандр, словно так и должно по инструкции. Скафандр поплыл по кабине и остановился возле пульта, медленно путаясь в стойках аккумуляторного стеллажа. Санти и не подумал его догнать, а неторопливо полез в карман и извлек из него великолепную золотую серьгу ручной работы, а за ней – алый платок, достойный самого капитана КиДда. «Ах, какой мальчик, какой хорошенький мальчик, – с отчаяньем думал Пино, – ведь 0'Брайн этого мальчика – в три шеи…»
Не было ни малейшего сомнения в том, что в первую же минуту по прибытии в порт назначения капитан со всей присущей ему корректностью укажет этому красавчику на грузовой люк (как известно, космонавт, покинувший корабль через грузовой люк, обратно уже не возвращается).
Но капитан осмотрел своего подчиненного почти приветливо и пробормотал себе под нос что-то по-русски. Пино русского не знал и поэтому предположил, что капитан попросту выругался. Но Санти, как девочка, передернул плечиками и засмеялся, а потом сделал зверское лицо и запел старинную пиратскую песню:
Мы ковали себе богов,
Осыпали их серебром,
И рекою текло вино по столам. Это был настоящий бог,
Это был настоящий ром,
И добычу делили мы пополам.
Санти пел, и выражение шутовской свирепости сменялось спокойной уверенностью, и чертовски вкусный, персиковый баритон наполнял все пространство между приборами, щитами и экранами, и стройная, еще совсем мальчишеская фигура в черном комбинезоне и алом разбойничьем платке, непринужденно висевшая в полуметре от пола каюты космического грузовика, почему-то совсем не казалась противоестественной, и пиратские куплеты не рождали никакого недоумения.
И Мортусян, скорбно покачивая головой, пришел к выводу, что есть люди, которым от самого господа бога разрешено почти все, ибо то, что они делают, всегда прекрасно.
Черт знает что творилось на старухе «Бригантине».
– Еще три часа пятьдесят минут, – сказал капитан. – Вы бы поспали, ребята.
Мортусян заворочался в своем гамаке, устраиваясь поудобнее, – в свободном полете ему всегда плохо спалось. Санти помахал ручкой и подплыл к самому пульту, расположившись в полуметре над 0'Брайном. Вообще-то в каюте было тесновато, и забраться под потолок, несомненно, имело некоторый практический смысл, но укладываться над самим капитаном – это мог себе позволить только такой человек, как Санти. Потому что ему от самого господа бога позволено все, даже это.
Было неудобно в гамаке, в голове тоже было как-то неуютно от всех этих мыслей, и Пино разворчался несколько громче, чем он всегда это себе позволял:
– О господи, неужели так трудно погасить общий люминатор? Ведь не пикник же нам предстоит, честное слово…
Не заснуть будет даже на полтора часика, перед тем как приниматься за дело.
– Разумеется, если вам угодно, – приветливо отозвался Санти и переместился к энергетическому щиту.
Щелкнул тумблер, стало уютнее, но одновременно словно плотнее сделался воздух, словно жарче стало, словно южная ночь пришла откуда-то в каюту летящего так далеко от Земли корабля.
«Что это я? – перепугался Мортусян. – Что это со мной в этом проклятом свободном полете? Укачивает, что ли? Тоже загадка природы. Наверное, от безделья. И мысли от безделья. И страх. Надо работать, надо быть внизу…»
– Перебирайтесь-ка сюда, Санти, – сказал он виновато. – Подремлем рядышком.
– Спасибо. (Ох, и ангельская же улыбочка у этого мальчика.) Мне уже не уснуть. Земля.
– Еще не Земля, – .как-то устало проговорил капитан. – Земля – это «Первая Козырева». А до нее еще «Арамис».
Санти посмотрел на него без улыбки, посмотрел сверху вниз:
– Ничего. «Арамис» – это недолго. (Так спокойно, словно это он был командиром корабля и успокаивал разнервничавшегося новичка.)
«АЭС ты, – продолжал маяться Пино, – да мы все вместе взятые не стоим пряжки от скафандра этого мальчика. Пусть он ничего еще не сделал, но все-таки это мужество, без рисовки, без бравады, – оно пока проскальзывает в каких-то интонациях, что ли. Но его у Санти не отнимешь. Смелый, умный волчонок. И красивый. Такой красивый, ах ты боже мой…»
Санти положил голову на руки, словно валялся на пляже, концы его знаменитого платка, завязанного причудливым узлом над левым ухом, плавали перед лицом, и Санти ловил их губами; они становились влажными, темнели.
– Вас встретят? – неожиданно спросил Дэниел.
– Вряд ли. Мне ведь еще не даровано родительское прощение… – Санти улыбнулся застенчиво, совсем по-детски. – Я все равно сразу не полетел бы домой. Ведь до самой Земли, до космопорта, мы доберёмся вместе?
– Да, – сказал капитан.
«Так казалось каждому из нас, – подумал Пино, – что из первого полета нас встретят цветы, ковровые дорожки и девочки…»
– Вы проститесь с нами и помчитесь домой, капитан. И вы тоже, Пино. А я пойду в кабак. Тут же, в порту. И я напьюсь, капитан… – Он снова улыбнулся и глянул на Дэниела, словно спрашивая: «Можно?» – и опять тихо заговорил: – Я буду пить и ждать, когда обратно, на станцию, пойдет ракета. Ее будет хорошо видно. И тогда я снова захочу в космос. Не так просто, как все хотят, а до смерти, до собачьего воя… Смешно, капитан?
– Нет, – сказал Дэниел, – нет, не смешно. А напиваться зачем?
– Действительно. – Санти взмахнул руками, отлетел к стене. – Зачем напиваться? «Не пей, Гертруда» – как говаривал один мой знакомый король своей жене.
– А что, пила? – заинтересовался Мортусян.
– Как лошадь. – Санти сокрушенно покачал головой. – Плохо кончила. – Он помолчал. – И все равно напьюсь.
– А знаете что, – сказал Дэниел, – посажу-ка я вас на «Арамисе» под арест. Скажу, что наблюдались первые признаки космического психоза. Спокойная обстановка на станции, женское общество…
– Если б только они там не были. все такие черномазые… – неожиданно подал голос Мортусян.
Наступила пауза. Почему-то всегда, когда в разговор вмешивался биолог, всем становилось как-то неловко.
– Четыре черненьких чумазеньких чертенка, – неожиданно сказал Санти по-русски. – С тремя из них я однажды столкнулся на практике. И тоже – на «Первой Козырева».
– И вам до собачьего воя захотелось в космос, – захихикал Пино.
– Мортусян, сделайте милость, уймитесь. Все три показались мне весьма почтенными дамами.
– Вы были им представлены? – быстро спросил Дэниел 0'Брайн.
– К сожалению, не имел чести; встреча была столь мимолетной, что я не успел даже обратить внимание на одинаковый цвет волос. Уж очень разные были типы лица. Старшая– деревянный идол, эдакая на редкость плоская и деловая рожа.
– Ой, – сказал Мортусян, – это же и есть миссис Монахова.
– Русская? – удивился Санти.
– Полукровка. Все они там в той или иной мере русские.
– Затем, – сказал Санти, – следовало нечто классическое. Не лицо, а классная доска после урока геометрии: овал лица, брови, губы – как циркулем вычерчены. Даже смешно. Совершенно несовременная красота.
– Ага, – хмыкнул Пино, – Ада Шлезингер.
– А я было принял ее за испанку какого-нибудь древнего, вырождающегося рода. Жаль. И последняя это буфет черного дерева. Гога и Магога…
– Это француженка, – сухо заметил Дэниел. – Симона Жервез-Агёева.
– Ну уж нет! – возразил Санти. – В этом-то я разбираюсь. Моя бабка была француженка. А это – всегo-навсего марокканка.
Капитан промолчал. По-видимому, ему было неприятно, что второй пилот оказался столь компетентным в подобном вопросе.
– Моя последняя надежда – на нашу соотечественницу, – сказал Санти, переворачиваясь на спину и закидывая руки за голову. – Я слышал, что она мала, как возлюбленная Бернса, невинна, как филе индейки, и ее глаза – как две чашки черного кофе.
Пино густо захохотал:
– Это Паола-то? Две чашки… Горазд был врать старик Соломон.
– Это Гейне, – возразил Санти, поморщившись. – И не смейтесь, как объевшийся людоед. После всех наших концентратов такой смех несколько раздражает.
– Все равно, – сказал Пино, – все равно. Две чашки… При всем уважении к звездам и полоскам, наша дорогая соотечественница – форменная обезьяна. И к тому же… – Пино снова запрыгал в своем гамаке, к тому же она… уже… по уши… И-аха-ха…
– Мортусян, – сухо заметил Дэниел, – информации подобного рода не входят в обязанности бортового биолога. К тому же сейчас будет связь. Потрудитесь помолчать.
– О господи, – заворчал Мортусян, – да пожалуйста…
Он отвернулся к стене, полежал немного и начал отстегивать крепежный пояс. Освободившись от него, он перевалился через край гамака и опустился на пол.
– А ну вас всех. Объявляется кормление зверей, – буркнул Пино и пошел к стеллажу с контейнерами, придерживаясь за ремни и поручни. Плавать в свободном полете он терпеть не мог.
– Рановато, – сказал Санти. – Вроде бы еще полчаса…
– Это уж мое дело.
Капитан обернулся и внимательно посмотрел на Пино. Пино остановился и тоже посмотрел на него.
– Выкиньте меня в Пространство, капитан, – проговорил он, – но этот рейс добром не кончится.
Санти оттолкнулся от потолка и ловко спланировал прямо в гамак:
– Худшее, что могут сделать с честными пиратами – это повесить их на реях. У нас для этой цели могут служить внешние антенны. Так что гарантирую вам вполне современный финал. И беспрецедентный притом.
0'Брайн медленно проговорил:
– Не болтайте лишнего, мой мальчик. Даже здесь.
Санти улыбнулся, пожал плечами и пристегнулся к гамаку. Во время свободного полета спать разрешалось только в закрепленном положении.
Дела домашние
Пол под ногами слегка дрогнул, – это значило, что буксирная ракета отошла от «Арамиса». Симона поколдовала еще немного у пульта, – Паола знала, что это убираются трапы, соединявшие ракету со станцией. Симона включила экран обозрения, и все принялись искать крохотную удаляющуюся звездочку. Паола покрутила головой, но не нашла. Ракета была небольшой, шла почти без груза, – увозила всего четырех человек и кое-какие их вещи, – и поэтому, пока включили экран, она была уже далеко. Ираида Васильевна и Ада cмотрели внимательно, – наверное, они-то ее видели. Паола повернулась, пошла к двери и услышала, что Симона тоже поднимается. Если Симона вставала или садилась, то это было слышно в каждом уголке станции.
– Ну вот, – сказала Ираида Васильевна (она очень любила это «ну вот» и даже Симону приучила), – теперь, девочки, до следующего отпуска.
И кому только он нужен, этот отпуск? Симоне все равно, – Агеев вернется не раньше чем через два года, если вообще… Ада видится со своим Сайкиным чуть ли не каждые три недели, и тогда они находят самый неподходящий уголок станции и целуются там, как дураки. А для Паолы эти отпуска…
Навстречу из коридора выполз «гном» с коричневыми плитками аккумуляторов. Паола подставила ему ногу. «Гном» подпрыгнул и шарахнулся в сторону.
«У, тварь окаянная», – с ненавистью подумала Паола.
– Ну вот, – сказала за спиной Ираида Васильевна, – а теперь будем чай пить.
– Сколько по-здешнему? – спросила Паола.
– Двадцать сорок две, – ответила Симона, и Паола перевела часы: «Атос», «Портос», «Арамис» и «Первая Козырева» отсчитывали время по Москве. – А теперь попрошу минуточку внимания. Мои пироги!
– Ваши пироги? – поразилась Ираида Васильевна. – Я допускаю, что вы можете собственноручно смонтировать универсального робота, но испечь пирожок…
– Знают ведь, – засмеялась Симона, – как облупленную знают. Ну, признаюсь. Не я. Мама. Сунула на космодроме.
Мама – это была не совсем мама. Это была мать Николая Агеева. Все невольно перестали жевать.
– Ешьте, медам-месье, ешьте, – сказала Симона. Связь была.
И каждому показалось, что именно это и было самым главным за последние несколько дней. Вот это далеко не достоверное известие, что агеевцы живы.
– Связь была великолепна. Приняли целых полслова: «…получ…» По всей вероятности, «благополучно».
– Строго определяя, это не связь, а хамство, – сказала Ада.
Ираида Васильевна улыбнулась и кивнула: ну конечно же, «благополучно». Другого и быть не может. Для таких людей, как Симона и Николай Агеев, все вcегда кончается благополучно. Потому что они умеют верить в это неизменное «благополучно». И хотя сидящие за столом перебирают сейчас десятки слов, которые могли быть на месте коротенького всплеска, чудом принятого Землей, – все равно для Симоны из всех этих слов существует только одно.
«Если бы так было с ними… – думала Паола, подпершись кулачком. – Если бы два года не было связи с „Бригантиной“… Она не любит своего Агеева. Она просто относится к нему, как жена должна относиться к мужу. Странно, для всего люди напрйдумывали разных слов, даже больше, чем нужно, а вот для самого главного нашли одно-единственное; называют этим словом все, что под руку попадет, – даже обидно… А может, пришлось бы придумывать для этого самого главного столько слов, сколько людей на свете, – нет, в два раза меньше: для каждых двух… А то ведь, наверное, всем кажется, что только у тебя – настоящее, а все остальные – это так, привычка, или делать нечего, или, как говорит Симона, „сеном пахло“… – чушь всё. Всё чушь и всё – неправда. А правда начнется тогда, когда дрогнет пол под ногами и замурлыкают огромные супранасосы, и бесшумно, незаметно даже – снизу или сверху, появится синтериклоновая перегородка, и снова все качнется, и еще, и еще, и когда остановится – это будет значить, что „Бригантина“ приняла трап».
– Чай стынет, – сказала Симона, – можно приниматься за пироги.
– С чем бы это? – полюбопытствовала Ираида Васильевна.
– Великорусские. Посконные. Сермяжные. Что, я не так сказала? – Симона умудрялась выискивать где-то совершенно невероятные слова. – Вот, убедитесь. С грибами и с визигой.
– Да, – задумчиво сказала Ада, – эпоха контрабанды на таможенной станции. И много их там у тебя?
– Хватит, – сказала Симона и ткнула кнопку вызова дежурного робота. – Надо припрятать на черный день – имею в виду гостей.
Дверь приподнялась, вкатился «гном». Он бесшумно скользнул к Симоне и остановился, подняв свой вогнутый, словно хлебная корзиночка, багажник. Симона принялась перегружать туда свои пакеты.
– Снесешь в холодильник, киса, – приговаривала она вполголоса, – да чтобы через неделю можно было достать не раскапывая лопатой. А то всегда завалишь…
Паолу немного раздражала манера Симоны говорить с роботами. Ну зачем это, если они все равно ничего не слышат?
Видно, и Симона думала о том же:
– Эх ты, черепаха навыворот. И когда я вас переведу на диктофоны – Она нагнулась и стала набирать шифр приказа. – Говоришь с ним, как с человеком, а он – ни уха ни рыла. Кстати, какой у нас номер очереди на универсальный?
Паола вскочила:
– Я сама.
Схватила пакеты в охапку, побежала на кухню. Универсальный…
Когда-нибудь его доставят на станцию, и тогда «благодарю вас, мисс, но услуги стюардессы на станции больше не нужны».
Паола вернулась к столу, села пригорюнившись, – одной рукой подперла подбородок, другой поглаживала скатерть.
– Ну что, Паша, взгрустнулось? – Ираида Васильевна наклонила голову, одним глазом глянула Паоле в лицо. «Словно большая, добрая кура», – подумала Паола. – Или, может, обленилась за отпуск? Работа в тягость?
– Да разве я работаю? Смеетесь! – Паола судорожно сдернула руки со скатерти, под столом стиснула кулачки. – Разве так должна работать стюардесса? Вот на пассажирских ракетах, если что случается – стюардесса разве с командой? А? Она с пассажирами. До самого конца. (Ада улыбнулась, – еще ни на одной пассажирской ракете до «самого конца» не доходило.) Я, конечно, мало что могу, но ведь главное, чтобы люди чувствовали – о них заботятся, с ними рядом живой человек, а не такой вот паразит. – Паола кивнула на «гнома», все еще покачивавшегося за креслом Симоны.
Симона взорвалась:
– Прелестно! Господа, бумагу мне с золотым обрезом и лебединое перо. Мы пишем рекомендацию мисс Паоле Пинкстоун на предмет ее перехода на рейсовую космотрассу. И чтоб там без паразитов. Мисс не выносит представителей металлической расы.
«Ну зачем она так? – подумала Ираида Васильевна. – Она же знает, что на пассажирские ракеты берут только самых хорошеньких… Даже у нас. Уж такая традиция. А на „Бригантине“ за стюардессу этот Мортусян. Так что никуда Паша не уйдет. Что же обижать девочку?»
– Трогательно, – сказала Ада, – а мы, выходит, не люди? Нам не нужно человеческой заботы?
Паола вспыхнула.
– Ох, глупости вы все говорите. – Ираида Васильевна подошла к Паоле, тяжело опустила руки ей на плечи. – Счастливая ты, Паша.
Паола вскинула на нее глаза, но Ираида Васильевна молчала, да говорить и не надо было, – все и так поняли, что, собственно говоря, осталось досказать:
«Счастливая ты – тебе есть кого ждать». Все это поняли, и наступила не просто тишина, а тишина неловкая, нехорошая, которую нужно поскорее оборвать, но никто этого не делал, потому что в таких случаях что ни скажешь – все окажется не к месту, и всем на первых порах станет еще более неловко. И только потом, спустя несколько минут, все сделают вид, что забыли.
– А знаешь, откуда твое счастье? – Ираида Васильевна стряхнула с себя эту проклятую тишину, но не захотела, вовсе не захотела, чтобы все забывали, и улыбнулась грустно, и сложила руки лодочкой, и поднесла их к уху, словно в них было что-то спрятано, малюсенькое такое. – Вот когда мы были маленькими, играли в «белый камень»:
Белый камень у меня, у меня,
Говорите на меня, на меня…
– А что, Маришка у тебя играет в белый камушек? – обернулась она к Симоне.
– Да вроде бы – нет.
…Кто смеется – у того, у того,
Говорите на того, на того…
– И какие льготы предоставляло наличие белого камня? – осведомилась Ада.
– Уже не помню… Кажется – счастье какое-то.
– Да… – задумчиво сказала Паола. – До счастья я немножко не дотянула. Пинкстоун – это не белый камень. Розовенький.
– Все равно, – сказала Ираида Васильевна, – все едино – счастье, – и улыбнулась такой щедрой, славной улыбкой, будто сама раздавала счастье и протягивала его Паоле: на, глупенькая, держи, всё тебе – большое, тяжелое; а та боялась, не брала, приходилось уговаривать…
– Вызов, – сказала Симона и резко поднялась.
Все пошли в центральную рубку. Паола собрала со стола, понесла сама, – здесь, с половинной силой тяжести, все казалось совсем невесойым. Шла мурлыкая, песенка прилипла, потому что была такой глупенькой, доверчивой:
Кто смеется, у того, у того…
Симона вышла из центральной, остановилась перед Паoлой. Блаженная рожица, что с нее возьмешь?
– Дура ты, Пашка; вот что, – сказала она негромко.
Паола остановилась и уж совсем донельзя глупо спросила:
– Почему?
– Долго объяснять. Просто запомни: со всеми своими распрекрасными чувствами, со всей своей развысокой душой один человек может быть совсем не нужен другому. Вот так.
«Зачем они все знают, зачем они все так хорошо знают…» – с отчаяньем думала Паола.
Тут взвыли генераторы защитного поля, но сигнала тревоги не было, – вероятно, подходило небольшое облачко метеоритной пыли.
– Не осенний ли мелкий дождичек… – сказала Симона и побежала в центральную.
Паола повела плечами, словно действительно стало по-осеннему зябко, и пошла упо коридору, как всегда, по самой середине, где под белой шершавой дорожкой – узенький желобок. Приоткрыла дверь своей каюты – потолок тотчас же стал затягиваться молочным искристым мерцанием. Не думая, протянула руку вправо, почти совсем приглушила люминатор. Оглянулась. Напротив, поблескивая металлопластом, – дверь одной из кают, что для «них».
Гулкое ворчанье под ногами усиливалось. Паола перешагнула через порог, неожиданно подпрыгнула, видно, Симона сняла анергию с генераторов гравиполя, и тяжесть, и без того составлявшая что-то около шести десятых земной, уменьшилась еще наполовину. Паола забралась на подвесную койку, поджала ноги. Она знала, что ничего страшного нет, что Симона напевает себе за пультом и ничего не боится, и Ада ничего не боится, и Ираида Васильевна боится только потому, что она всегда за всех боится, – но внизу, в машиннокибернетической, рычало и потряхивало, и ноги невольно подбирались куда-нибудь подальше от этого низа.
Паола подняла руку к книжной полке, не глядя вытянула из зажима алый томик Тагора. И книга раскрылась сама на сотни раз читанном и перечитанном месте:
«О мама, юный» принц мимо нашего дома проскачет – как же могу я быть в это утро прилежной?
Покажи, как мне волосы заплести, подскажи мне, какие одежды надеть.
Отчего на меня смотришь так удивленно ты, мама?
Да, я знаю, не блеснет его быстрый взгляд на моем окне; я знаю, во мгновенье ока он умчится из глаз моих; только флейты гаснущий напев долетит ко мне, всхлипнув, издалека.
Но юный принц мимо нашего дома проскачет, и свой лучший наряд я надену на это мгновенье…[1]1
«Но юный принц мимо нашего дома промчался, и драгоценный камень с груди своей я бросила ему под ноги» [Перевод А. Израйлита.]
[Закрыть]
Страха уже не было, а было повторяющееся каждый раз ожидание какого-то чуда, вызванного, как заклинанием, древней песней о несбыточной – да никогда и не бывшей на Земле – любви.
«О мама, юный принц мимо нашего дома промчался, и утренним солнцем сверкала его колесница.
Я откинула с лица своего покрывало, я сорвала с себя рубиновое ожерелье и бросила на пути его.
Отчего на меня смотришь так удивленно ты, мама?
Да, я знаю, он. не поднял с земли ожерелья; я знаю, в красную пыль превратили его колеса, красным пятном на дороге оставив; и никто не заметил дара моего и кому он был предназначен…»
А станция все летела и летела вокруг Земли, и вместе с Землей, и вместе со всей Солнечной, и вместе со всей Галактикой, и вместе с тем, что есть все это все галактики вместе, и то, что между ними, и то, что за ними; и только, затихая, мурлыкали сигматеры первой зоны защитного поля, и только чуть посапывал регенератор воздуха, и только жемчужным, звездным блеском мерцал люминатор, и никаких чудес не могло быть на этом белом свете…