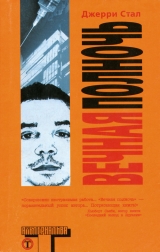
Текст книги "Вечная полночь"
Автор книги: Стал Джерри
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Я не был в основном составе, я был самым омерзительным из всех ремесленников – внештатником. Телевизионный бизнес устроен так, что во всех сериалах раз в три месяца два выпуска поручаются людям со стороны. Это принцип Писательского Цеха.
Неудивительно, ты соревнуешься со всеми, начиная от родни продюсера и заканчивая придурками, присланными агентами, которые должны оказать, по соглашению или из-за покерного долга, кому-то услугу. Впрочем, когда сидишь в комнате, набитой опытными Профессиональными Писателями, еще хуже ощущение, что ты бы точно так же работал на Национальную страховую компанию. За тем исключением, что ребята из Национальной страховой компании могут оказаться людьми несколько поинтересней. Между потугами написать сценарии «Альф просыпается на Уране» шишки вокруг тебя обычно ошиваются с идеями о взаимных фондах или студийных перетрясках. Ты быстро понимаешь – на плантациях все вечно принюхиваются к происходящему в Большом Доме.
Они все были асами своего дела. С такими типами тебе наверняка захочетсяпровести три часа в комнате без окон. Обсуждение текстов, которые говорят тебе меньше, чем мифы инков о плодородии. Завести отношения я сам не мог. Затруднение, которое можно преодолеть, лишь сделав себя, avec [12]12
С ( фр.).
[Закрыть]химической добавкой, как-то контактно-способным. Не могу описать ту окоченелую потерю ориентации в пространстве, когда впервые услышал, как четверо, в общем-то, милых парней, писателей, ишачащих за пару монет, облокотясь на стол радостно трепались о рынке недвижимости. Потому что я не понимал в недвижимости. Недвижимость существовала для… Других Людей. Для мещан, за отсутствием более подходящего слова.
Не в том смысле, что эти земельные и взаимные фонды чем-то гнусны сами по себе. Или, раз уж о том зашла речь, дело вовсе не в съезде крыши у четырех хорошо отмытых непсихопатов в наглухо застегнутых рубашках и отутюженных джинсах, доящих свои лобные доли на благо семей. Совсем не так. У обычного человека твои Биллы, Бобы, Джеки и Томы вызывали симпатию. Вот где весь ужас. Непреклонная симпатичность.
Понимаете, мне всегда казалось, что творчество должно ранить. Талантом по-другому называется пытка. Не в этом месте. Одно собрание вокруг пресловутого стола, кофе, подаваемый сказочно милой и сладкой «ассистенткой» – блондиночкой, и откровение жалит, как медуза: у меня нет причин ощущать себя выебанным. Эта жизнь способна быть прекрасной.
Забудьте «Шоу Дика Ван-Дайка». Там не водилось обаятельных эксцентриков, отпускающих смелые шутки по поводу Мела Кули. (С другой стороны, Мурей Амстердам никогда не ширялся.)
Задействованные профи отличались крутизной, хотя они все-таки редко веселились за мой счет. Моя неискушенная попытка в черновом варианте – после того, как моя жиденькая идея (Альф обнаруживает гигантского таракана в ванной и гремит к терапевту) перекипела до относительно связного текста – вышла примерно в сто страниц.
Хорошая новость заключалась в том, что благодаря кокаиновому запасу я написал ее за полтора вечера. Плохая – получасовые шоу идут приблизительно двадцать две минуты, что рассчитано на сорок четыре страницы, две страницы в минуту – а я сочинил на целый мини-сериал. Когда я интересовался объемом, понимаете, инструктирующий чувак, заявленный редактором сценарного отдела, сообщил мне, что девяносто-девяносто пять страниц – оптимально. Как же я был невежествен, что позволил ему приколоться над моей непродвинутостью.
Люди не шли туда без хоть какого-топредставления о том, как писать для телевидения. По крайней мере, до меня. В Лос-Анджелесе аж два университета – Калифорнийский Университет и Университет Южной Калифорнии, где целые курсы посвящены отработке тонкостей написания сценариев, рекламы и «драм», не говоря уже о том, какого объема должен быть комедийный сюжет.
Я элементарно не знал. И прилипчивый срам моего невежества стал еще одной причиной, почему мне пришлось накачивать медикаментами себе мозги. Другой бы купил учебник по… Но не я. Я выбрал оставаться тупым и терпеть всю дорогу к банку.
– Просыпайся и понюхай кофе, – кидается на меня раздолбайская кисточка в человеческом обличье, когда возвращает мой безразмерный текст. Настоящей злобой искрилась проволочная оправа его очков от Armani.
Мое пробное использование, колебавшееся от неопределенности к постоянству, как никогда приблизилось к статусу постоянного сотрудника с моим по-щиколотку-в-воде вступлением в Мир Телека. Теперь мы с Сандрой обитали в чудесных апартаментах с двумя спальнями в одной из немодных Голливудских Квартир в районе Фэйрфэкс. Жена выхарила себе место в качестве Р-девочки – или «разработчика» – у очередного башковитого продюсера. Я никогда не обращал особого внимания на ее работу, но по тому, что я все-таки знаю, кажется, что во все ее проекты задействовали стюардесс. Их бой-френды вечно были СПЛОШНОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
Я не был уверен в том, что происходит, но и наплевать. Даже такой аутсайдер, как я, понимал, что снимать кино – наименее важное занятие из тех, которые делались в Голливуде. Сандра вроде бы работала у ряда типчиков, разодетых в Armani, выжимавших всевозможные суммы и абсолютно ничего не выпускавших. Всего делов – выбить бюджет. Потом все только имитировали какую-то деятельность – и Сандра была очень занята. Таким образом, у меня оставался целый день на то, чтобы торчать и что-то там строчить, пока она отлучалась в Страну Миллиона Текстов.
Настоящим открытием в совместной с Сандрой жизнью стала ее цивильность. Она имела в своем репертуаре вещи, о которых я и помыслить не мог: столовое серебро, гармонирующие по цвету тарелки… друзья из Индустрии… и, конечно, Званые Обеды.
Единственный способ пережить вечеринку состоял в приурочивании приема опиатов с приходом первого визитера. С моим наркотическим стажем он превратился в науку. Если, скажем, soirée [13]13
Вечер ( фр.).
[Закрыть]устраивался у нас дома, я соотносил время приема с первым звонком в дверь. Это было призывом к действию.
Дзинь-дзинь. «Заходите, пожалуйста. Мне надо отлучиться на минуточку…» В гостях я подгадывал tkte-a-tktes в темных углах с противоположным полом. Тогда все крутилось по поводу моих признаний в страданиях в нынешней ситуации. Ничто, казалось, не завлекало сильнее, чем излияния о несчастности. Одним постоянным адресатом моего не особо активно скрываемого недовольства была Карен Пауэрс, сценаристка и близкая подруга Патти Смит, Роберта Мэпплторпа и прочих знакомых со времен Манхэттена.
Карен была старше меня, миниатюрная копилка искреннего гнева с рыжими волосами, встревоженными глазами и загадочным литературным вкусом, не говоря уж об изучении боевых искусств и серьезном, глубоком увлечении подземными богами Сантерии. Она вполне могла раньше купаться в козлиной крови – как мне не втюриться? Нашелся кто-то, такой же outré [14]14
Озлобленный ( фр.).
[Закрыть]и отчужденный, как и я. Голливудский аутсайдер bona fide [15]15
Истинный ( лат.).
[Закрыть].
Ничто меня не волнует в женщине так, как несчастье.
– Я не знаю, Карен. Меня охуенно бесит жизнь, которую я веду. Ты знаешь, о чем я?
– Знаю. Здесь ужасно. Эти люди! Сандра была совсем другой. В ней было так много жизни.
– Точно! Тебе никогда не хотелось отсюда просто сбежать? В смысле насрать на свои сценарии? На все насрать?
– Ты шутишь? Разве я не пыталась?
Конечно, Карен не увлекалась наркотиками. Ей было это не нужно. Ей требовалась определенность, и она могла тайком позаимствовать дозу из жизни в католическом комплексе вины. У нее собралась целая коллекция, и это ужасало. Я же бодренько чесал своим злосчастным языком о чем не следовало. Не существовало тайных связей, одна тайная боль. Я не об изменении телесных флюидов. Я в конечном итоге говорю о получении удовольствия. Имитирование кайфа от наркотиков подогревалось любовью к тому, что стоит за наркотиком. Позднее я выучусь превращать легкий кайф в шестичасовую еблю. Как раз тогда я еще учился. А то, что в этом имманентно присутствует предательство – себя, жены и, самое главное, женщин, раскрывших мне свою израненную душу – было чересчур сложно для постижения моей пустой психикой. Вот к чему я никогда не апеллировал; не помню, чтобы я вообще на эту тему заводил разговор.
Отсутствие Сандры – в связи с ее десятичасовым рабочим графиком – освобождало время для моего настоящего романа, который увенчивался в большинстве случаев утренним визитом в дебри, граничащие с Южным Центром, к толстой девице из Гватемалы, ставшей моей первой постоянной связью с чибой.Дита, уменьшительное от Гордиты из-за ее небольшого роста и полноты, жила в расползшейся, по-десять-в комнате компании в округе Южного Центра возле Университета Южной Калифорнии.
Дита воплощала собой тип, который ТВ/большой экран среди прочих образов суетливого, как ссаный веник, барыги… не показывал. Она не была «уличным дилером». Она, на жаргоне торчков, «держала точку». Несмотря на испещренную пулями наружную штукатурку, ее квартира отличалась подозрительной чистотой. В кухонном уголке, где осуществлялся бизнес, стол украшал нарядный букет пластмассовых цветов. Четыре столовых прибора с изображением улыбающегося гаучо лежали вокруг корзины. А на стене, над подставкой для стерео покупатель видел подборку фотографий, помещенных в рамочки: трое ее сыновей от исчезнувшего отца, расположенных так, что каждый сияющий парень светился, как сердцевина крошечной белой розы.
Мигель, ее нескладный старшенький, был дотошным фанатом «Альфа». Мы пересекались в те дни, когда он забивал на уроки. Он никогда не уставал выпытывать у меня новые подробности об инопланетном чуде. Думает ли Альф на английском? Посещает ли он иногда свою родную планету Мелмак? Есть ли у него член? И все это, пока я сидел на покрытом полиэтиленом любимом сиденье его мамы, перетянув ремнем руку и зажав его зубами, втирался и отключался, прислушиваясь, как десять или двенадцать ребятишек безостановочно носятся по двору. Всякий раз по завершении визита к Дите мне приходилось проходить сквозь строй всезнающих мамаш и деток, рассевшихся вдоль пересохшего, изрисованного мегаграффити фонтана и наблюдавших за моим выходом. Они никогда не говорили ни слова. Но дети не могли удержаться от смеха и не показывать пальцами на заморенного гринго в «Кадиллаке». Мои ответы на Альф-тесты варьировались в деталях в зависимости от эффективности продукта его мамы и количества, которым я задвинулся.
Иногда я помогал Мигелю делать уроки. Выдернув иглу из руки, я полз через кухню, хватаясь за все руками, биться над хитрой задачей на умножение или содействовал в написании доклада по книге. Семнадцатилетний, измученный прыщами Мигель учился в младших классах средней школы, и в один прекрасный день смог прочесть доктора Сюсса. Под кайфом я никогда сильно не отрубался, и наркотический приход меня бодрил, пробуждал желание сделать что-нибудь хорошее. Но дело не только в нем. Мне нравился этот ребенок. Мигелю было совершенно начхать, что я заваливал за ширевом в десять утра. Это был бизнес его матери, а он уважал свою мать.
Его единственно напрягали отношения Диты с Розой, аккуратненькой медсестрой в очках, работавшей в «скорой помощи», делившей с ней постель и занимавшейся основной готовкой. Не из-за лесбиянства. Такой порок понятен любому провинциальному подростку в мире. «Она нормальная, ты понимаешь… Просто когда мамы нет, она орет на меня так, будто она мне мать… Мама никогда не заставляет меня напрягаться, и вся фигня… Роза у меня как заноза в жопе, чувак…»
Трудно описать то чувство сопричастности, которое мне давали те маленькие визиты. Я мог больше не сообщать Сандре о своих походах в сторону УЮК и ставить ее в известность о своем небольшом пристрастии. Как бы дико ни прозвучало, только благодаря тем контактам, незначительным, как покажется, я продолжал ощущать себя человеком. Большую часть дней я проводил в одиночестве, провожая Сандру с утра пораньше и встречая ее по возвращении вечером домой. В промежутке мне нужно было хоть что-нибудь настоящее. И Дита как раз давала мне это. За деньги.
Мы с Сандрой более или менее осознали, что у нас проблемы, но сохраняли пристойную видимость, что наши затруднения вполне можно разобрать, преодолеть,пережить с помощью времени и элементарной порядочности.
На карьерном фронте я одновременно получил еще один заказ на «Альфа», а благосклонное начальство из «Плейбоя» отправило меня взять интервью у Мики Рурка. Это означало, что надо лететь в Новый Орлеан, где Мики как раз находился на съемках вызывающего косые взгляды «Сердца Ангела». Он и его окружение устроились в дорогом шикарном отеле «Виндзорский Двор» неподалеку от Французского квартала. И «Плейбой» расщедрился и выложил по 250 долларов в день, чтобы меня тоже туда устроить. Я планировал валяться в проплаченной роскоши, корпеть над переделкой речей того инопланетного мехового мяча в перерыве между допросами с пристрастием Джеймса Дина Своего Поколения.
Мики Рурк и Альф. Этих двоих можно расценивать как полярно-противоположные способы проникнуть в современный шоу-бизнес. Но если мне и суждено осознать, что в этой спятившей индустрии я ничего не понял, то вот это я понял точно: когда уполномоченный журналист в достаточной степени заебан, на самом деле неважно, зачем его командировали. Здесь все адски гротескно и неуместно.
Прямо на выходе, доза облегчила выполнение задания, настолько безнадежно сложного, что более здравомыслящий писака взвалил бы своего Эбергарда Фабера на плечо и отправился восвояси через первые десять минут. Еще один автор, засланный «Плейбоем» на планету Мики, уже встретил теплый прием ее обитателей и быстренько был записан в галактический мусор. И предполагалось, что я достойно отвечу безжалостным личностным стандартам сурового трагика, какими бы они ни оказались. Моя попытка интервью планировалась начаться в «Café Roma», импровизированном офисе Мики напротив модной парикмахерской «Бев Хилз», совладельцем которой он являлся.
Слава богу, одним из наиболее редко упоминаемых плюсов наркотического воздействия является повышенная способность сохранять полную невозмутимость перед абсолютно любыми плохими – новостями. Когда по венам циркулирует достаточная порция Помощника Гамбургера, известие о том, что «твоего щенка сожгли напалмом» вызывает такую же реакцию, как и волнение при вопросе «а что если сожрать по сэндвичу?» Что очень удобно. Сначала я встречался с Ленни Термо, мужиком лет пятидесяти с лишним, цепным псом Мики и его закадычным приятелем, которого М.Р. всегда держал у себя под рукой. В тот момент его жизни, Мики и Ленни жили, работали и путешествовали вместе. И Мики, всамделишная могучая Г-вудская легенда, написал в контракте, что в любой картине, где он снимается, Ленни Т., напоминающий Сицилийского Зеро Мостела, – тоже получает место.
Если ты понравился Ленни, тебя допустят. А Ленни прежде всего был привлекательным. Просто некоторые вещи, которые он говорил, звучали немножко… странновато, что делало удивительную наркотическую непроницаемость еще более притягательной. Мы с Термо обменялись первыми репликами, и экс-манхэттеновский schmatteпес выдал любопытную фразу. После вводных разглагольствований про первостепенность преданности в таком беспощадном месте, как Голливуд, он ляпнул следующее: «Позвольте мне сказать о моем отношении к Мики Рурку. Если Рурка укусит гремучая змея в головку члена, я встану раком и отсосу яд!»
Ну и ладно! Что тут ответишь? Любой человек, даже если накануне ночью лечился не с такой интенсивностью, как минимум вздрогнет от такого, в кавычках, сантимента. Трудно не вздрогнуть. К счастью, при моей загруженности морда у меня была полностью неспособна выразить хоть какую-то реакцию. Кроме, пожалуй, стандартного утвердительного кивка и последующей улыбки: «Я тоже!»
Конечно, основная сложность заключалась не в фальшивой уступчивости. Она окутывала тебе мозги некой душой, полагающей такую кустистую фразеологию чрезвычайно значимой. И все-таки оставалось то словесное нагромождение, с которым должен был разобраться пылкий прислужник Мики. Оно зависло где-то посередине между путаными заверениями в лояльности и вызовом с фигой в кармане.
Итак, меня позвали! Несуетливо мне дали добро встретиться с Мики один-два раза в его скромном местном логове. (Он, как и подобает настоящему мужчине, обитал в двухкомнатной квартире в доме без лифта в месте, которое может сойти за экстравагантный уголок Беверли-Хиллз, обклеенный такими старомодными, заимствованными из парикмахерской боксерскими постерами, которые-только и ожидаешь увидеть у парня, вдохновляющего на верность к своему укушенному змеей хую.) Как только я прилетел в Новый Орлеан, выискался еще один жополиз, решивший произвести на меня впечатление, на сей раз телохранитель, родом из Джерси, по имени Берб Бербелштайн. Или что-то в этом роде.
Берб сперва, правда пожестче, повел себя так же, как душка Ленни. Его выступление было скорее в духе «Откуда приперся? С какого хера ты взял, что наш человек обязан с тобой разговаривать?» У него была маленькая, размером с пулю, черепушка, невозмутимо каркающая с плеч вышибалы. Впрочем, будучи еврейским громилой, он отличатся некоторой теплотой и боязливостью. Едва зашла тема н-а-р-к-о-т-и-к-ов, я признался в опыте потребления противозаконных субстанций, а Берб сознался в прошлом экс-манхэтенновского джанки.
Правда, по совести говоря, заключалась в том, что на тот момент я был скорее не матерый экс-, а будущий матерый джанки. Но к чему вдаваться в детали? Ад есть ад. Не важно, успел ли ты там побывать или только туда направляешься, у тебя все равно психика работает в одном и том же режиме. На такой общей волне со знаком качества можно установить доверие. «Он нормальный, – устроил Берб целое шоу из разговора с Мики по телефону в отеле перед моей встречей с Великим Человеком. – Он приехал, малыш».
Едва я обустроился в своем номере люкс в «Виндзорском Дворе», абсолютная сюрреалистичность всех затраченных усилий мгновенно достигла эпидемических пропорций. Каким-то образом я умудрился слопать полдюжины редких, как зубы у червя, лоудов. Для поддержания расслабленного бодрствования, когда наступит время для пост-интервьюишной порции работы над «Альфом», я добавил пушистого кокса, заначенного в коробке для пленки. Такая комбинация, к счастью, помогла измученному чужаку успешно влиться в алкогольное великолепие окружающей обстановки. Прямо на выходе из аэропорта невозможно было найти хотя бы пять человек, у которых «склонность забухать» не была написана на морде несмываемыми чернилами.
Вне местечковых гротесков пребывала мрачноватая, странная, укрытая от публики тепличная атмосфера окружения мистера Рурка. Крипто-мачо вибрацию, сперва проявившуюся в заявлении, сделанном Ленни в «Café Roma», потом подхватила вся остальная когорта Мики. В его «команде» присутствовал еще один паренек, дохлый костлявый, невысокий блондинчик из Майами, по имени то ли Зик, то ли Билли, я сейчас не помню. Обязанность Зика/Билли, как представлялось, состояла в том, чтобы ошиваться вокруг Мики живым бикфордовым шнуром для его спонтанных, на первый взгляд не спровоцированных, и вселяющих ужас вспышек гнева. Другими словами, ему платили за то, чтобы он жрал говно. И ответственный человек помогал ему изо всех сил.
Мой первый вечер у Мики, простой обмен вопросами-ответами перерос в монструозный пятичасовой сеанс выслушивания его, пока он сидел и играл в солдатики. Передо мной был новый Марлон Брандо, усевшийся на корточки у крайнего стола и вертящий в руках игрушечных человечков, здоровенный плохой парень, выпустивший погулять своего внутреннего ребенка. При близком рассмотрении лицо Мики выглядело немного по-люмпеновски, слегка одутловатое и рябое. Но сама звезда вела себя довольно дружелюбно, как только Рурк понял, что я не собираюсь над ним посмеиваться. Если ты мог принять его мир, почувствовать невысказанное правило и промолчать на сей счет, ты был более или менее принят в их тусовку.
Каждая крошечная фигурка – ковбои и рыцари, барабанщики и индейские вожди – была с любовью раскрашена вручную аж до налитых кровью глаз. Десятилетиями, как казалось, звездный парень распространялся про каждую свою любимую фигурку по очереди. И как ему хотелось, ну ты понимаешь, «быть» индейцем с голым торсом, оседлавшим свою белогривую лошадь. «Вот этот чувак, видишь, может ездить в дамском седле, и когда какой-нибудь пидор приближается к нему сзади, он может развернуться и пустить стрелу – ФЬЮИИТТЬ – прямо ему в хуесосное сердце…»
И так далее. В промежутках между фантазиями на тему солдатиков дружелюбный и вроде бы абсолютно спокойный Мики вдруг резко разворачивался и гавкал на маленького блондинистого Билли/Зика. При личном общении его хваленая резкость не выходила за рамки культивированного байкерского образа или наследия «его уличной жизни». Это навевало ощущение, что он, как и всякий испорченный второгодник, одинаково способен дать вам доллар или схватить палку и выбить глаз.
– Слышь, мужик, – рявкнул он мне, кивая в сторону своего надувшегося лакея. – Видишь этого пиздострадальца? Тотальный, бля, неудачник. Правда, Билли? Джерри – писатель. Он толковый парень. Ему надо это знать. Вперед, Билли, расскажи Джерри про то, какой ты ебаный неудачник. В смысле, – он осклабился, понизив голос до зловещего хрипа, – если я скажу ему ползать на его мягком белом брюхе, прямо сейчас, ползать здесь и умолять меня его не увольнять. Правда, Билли? Ты же заползаешь, не так ли, пидор ебаный? Сто пудов.
Тут его шепот взорвался ненормальным воплем: «Давай, Билли! В чем дело?» На этом самом месте, словно в омерзительно искаженном эпизоде, когда Берт Ланкастер позорит цветастые носки Тони Кертиса в «Сладком аромате успеха», несчастный Билли откладывал в сторону кроссворд из «телегида» или какого бы хера он там ни делал, и поворачивал свою жалостливую, измученную, как у таксы, мордочку к хозяину.
– Слышь, Мики… Ты че, чувак. Ты зачем выделываешься. Хватит пургу гнать…
– Не хуй, бля, отговариваться! Ты че, бля, на хуй, отговариваешься! – У Рурка была манера орать и улыбаться одновременно. Потом, обернувшись ко мне, будто я тоже участвовал в разводке, он качал щедро вымазанной муссом головой. (Фактически в его гостиничной аптеке не было ничего кроме мусса – двадцать четыре одинаковых бутылочки.) «Джерри, чувак, ты слышал? Представляешь, как эта педрилка картонная со мной разговаривает?»
Заранее становится ясно, что решили поопускать не одного Билли. Мне предлагается сидеть и смотреть на спектакль – не говоря ни слова, не шевеля даже пальцем – если я хочу получить интервью. Просто присутствуя, наблюдая в натянутом молчании вместе с остальной командой, я принимаю условия игры. Деловое предложение: чтобы пообщаться с Германом Герингом, я должен позволить ему сжечь заживо пару евреев. Само мое согласие позорно.
Ужас… Рурк умел выбить от нуля до сотни в плане низкопоклонничества. И даже если ты знал, что это все понарошку, и Билли/Зик знал, что это все понарошку, то тем хуже. Потому что ты знал, что не было никакой причины устраивать пытки. Никакой причины, кроме вопиющего статусного желания трахнуть мозг другому человеку, дабы довести его до ручки. И пригласить как бы для «инкриминирования» третье лицо – то есть вашего покорного слугу – посидеть в восхищенном молчании, пока разворачивается драма. Гадко – не то слово.
Это продолжалось до бесконечности. И происходило в ночь, когда каждая секунда словно раздвигается в часы, а часы текут, пока у тебя голова не лопнет. Рурк утверждал, что такое унижение человека – его любимый наркотик. Я никогда не видел, чтобы он хоть раз затянулся, никогда не видел, чтобы он принял вещество, более сильное, чем бадвайзер… И кто знает, может, он существовал лишь благодаря этому яду. Не тому, который рвался отсасывать Ленни, а более глубоко скрытой, более токсичной разновидности.
После такого рода обязательного развлечения я не мог просто уползти назад в свой номер и засесть за надоевшего «Альфа». Ночь парада игрушечных солдатиков, что-то в поведении начисто втоптанного в грязь Билли/Зика вызвало и во мне всплеск недобрых ощущений. Вероятно, вид такого унижения вывернул внутренние карманы моего собственного самоуничижения. Чувства рванули на север в страну Сандры.
Как бы там ни было, я проглотил еще один лоуд и потащился в душный рассвет Французского квартала. К тому времени луна уже померкла. Я вдруг осознал, что ищу почтовый ящик, и меня неодолимо влечет к этой колдовской штуке, затаившейся в переулке, мимо которого я чуть раньше спокойно прошел мимо. С поправкой на мои нетвердые ноги, я стоял, если это можно так назвать, у витрины магазина и в духе классического дешевого кино поглядывал на выставленные обезьяньи лапы, ладан, куклы Мари Лаво и свечи, как вдруг заметил, что сзади меня нарисовалась фигура. Женщина в красном платье, чьего приближения я не расслышал, однако заметил отражение через правое плечо.
– Вы что-то печальный, – сказала она. От ее ладони у меня на плече я просто растаял. Я и не подозревал, насколько истосковался по человеческому прикосновению. Женщину, которую я, повернувшись, увидел, не возьмут на обложку «Seventeen». Это была круглолицая блондинка с немного неровно накрашенными губами. Не знаю, то ли ей платье было на размер мало, то ли груди с бедрами на размер велики.
– Вы смотрите на мои чулки, – произнесла она с хриплым смехом, когда я обернулся. – У меня их нет!
По этой причине я конечно же внимательно изучил ее ноги. Лодыжки перетекали au naturel [16]16
Естественным образом ( фр.).
[Закрыть]в два поношенных каблука-шпильки. «Здесь для чулок чертовски жарко. По крайней мере, для меня. Вообще не понимаю, зачем девушкам их носить, если она не задумала кого-нибудь придушить?»
Тут опять раздался ее гортанный смех: «Чувак, ты мрачный тормоз! Переспал или недоспал?»
Что-то я ответил, не очень умное. Вроде: «Ты на работе или всегда такая дружелюбная?»
– Я с тобой разговариваю, – ответила она. – Вот какая я. А вечернее платье надела только потому, что в мотеле, где я живу, куда-то задевали все мои джинсы. У долбанного менеджера руки, как грабли, если ты понимаешь, о чем я. Его жена просто сидит в инвалидке за ширмой. Ни черта не скажет.
Не знаю – сработало ли остаточное отвращение к себе по поводу посиделок у Рурка или подкатил новый приступ недовольства всем своим существованием. Сохраняемая дистанция, как теперь прояснялось, обладала единственным преимуществом, что одновременно вырывала тебя из ада и открывала восприятие окружающего в мельчайших деталях. Мне хотелось просто промыть себе мозг лизолом и убить все микробы в зародыше.
Салли рассказала мне про свой отъезд с Миссисипи, про маленького сына, которого там оставила, про деньги, отправляемые бабушке с тех пор, как нашла хорошую работу. Пока не накопила на то, чтобы перевезти его жить вместе с ней. «Хотя, – призналась она, когда мы шествовали по красному ковру в гостиничном коридоре под обкуренным удивленным взглядом ночного портье в униформе, – мне не хочется растить ребенка в Новом Орлеане».
Я представлял себе все совсем по-другому. Вот я изменяю жене, когда мы заходим в богатый номер, предоставленный журналом. Я слишком устал для этого: измотанный, раздавленный состязанием на психическую выносливость и зарождающимся осознанием порожденной наркотиками лжи, в которой я жил раньше.
Знаю только, что прикосновение к мягкой, пухлой плоти Салли после того, как секс стал относиться к тем самым занятиям, из-за которых я и торчал, пытаясь забыться, тут же взбудоражило меня. Мы перекатились на усеянную бумагами постель, целуясь, как пара тонущих астматиков, срывая друг с друга одежду. Салли схватила мою руку и сунула ее между своих увлажнившихся бедер. «Не знаю, почему меня волнует ходячий ксилофон, но это так!» Мне никогда раньше не приходило в голову сочетание похотливая баба.«Солнышко, – вскричала она, – на твоих ребрах можно сыграть „Дикси“!»
Мы заказали еду в номер прежде, чем начать кувыркаться, и к прибытию подноса с хавкой уже успели кончить. Салли хотела есть. А я обнаружил, что впервые с прилета в Новый Орлеан сам смертельно проголодался. Не помню, когда последний раз у меня был аппетит – даже не замечал, насколько в голом виде напоминаю узника Дахау, пока не увидел себя в зеркале. «Мальчик, ты собираешься переехать в Биафру или как? Иди сюда жрать!»
Я послушался. И вдвоем с голой Сатли, закутавшейся в простыню, мы сели и набросились на пищу, наваленную на блюдо. Я отгрызал головы у огромных креветок и бросал их в мусорку. Салли пролила сок омара мне на живот. Под конец мы рухнули на подчистую опустошенный поднос, и перекатились на ковер с нарисованными гардениями. Я просто хотел зарыться в нее. И никогда не вылезать.
Салли шмякнулась лицом в тарелку с голубикой, оголубив себе губы, а я пристроился сзади и шуровал так, что шея хрустнула. Я действовал неловко, но старательно. Когда все закончилось, она повернула ко мне измазанное в ягодах лицо и проговорила: «Вот что называется настроиться по-итальянски. Двигаешь в пустыню на скорости сто миль в час проверить, все ли нормально».
– Правда? – выдохнул я, настолько раздавленный планом, колесами и тоской, что почти задыхался.
– Сотте ci, сотте за [17]17
Более-менее ( фр.).
[Закрыть], – ответила она, – но не стоит особо разбегаться между поездками.
Остаток своего визита она просто болталась туда-сюда, слоняясь по комнате, и я набрасывался на нее, когда приходил в себя. Не знаю, может, она была бездомной, или проституткой, или просто милой старшеклассницей с юга, вытуренной из школы, как она утверждала. Невезучая, но в самом дружелюбном расположении духа. Как бы там ни было, я запросто отдал ей несколько сот долларов. А она, не смущаясь, спрятала их в кошелек. Прежде чем мы расстались, она достала потрепанный бумажник из джинсов – к тому времени я купил ей несколько топиков и «левайсы» – и открыла его перед моим носом. Там лежала карточка светловолосого пятилетки, оседлавшего пони и размахивающего рваной ковбойской шляпой над головой в манере Дикого Запада.
– Это Джэми, – нежно произнесла она, не глядя на меня. Ее глаза неотрывно смотрели на помятый снимок. – Ему два с половиной. Но я знаю, он меня помнит. В смысле, мы разговариваем по телефону по воскресеньям. Точнее, иногда по воскресеньям… Понимаешь, если я могу позвонить ему.
Мне в голову не приходило, что предпринять в такой ситуации, и я решил ее обнять. Она прижалась лицом к моей груди, но продолжала держать фотографию перед собой, легонько касаясь ее пальцем, нежно поглаживая лицо давно потерянного малыша. Мне показалось это странным, мысль о ребенке. Я не мог вообразить такого рода присутствия в своей жизни: непонятное маленькое создание, способное завладеть всеми твоими мыслями, если ты не с ним. Больно было наблюдать. Спустя три минуты после кувыркания на раздавленных панцирях омаров и таких визгов, что люстра тряслась, потерявшуюся девушку рядом со мной мучила печаль, такая глубокая, что тихо текли слезы.








