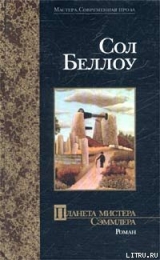
Текст книги "Планета мистера Сэммлера"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
– Ты о ком?
– Его звали Хессид.
– Хессид? Х-м, Хессид… Да, верно, там были какие-то Хессиды.
– У него была мельница и еще лавка неподалеку от замка. Маленькая такая лавчонка, всего несколько бочек.
– Ты, наверное, что-то путаешь. Я не припоминаю ни одного мельника в нашей семье. Но какая все же у тебя великолепная память. Куда там мне.
– Хессид. Такой благообразный старик с большой белой бородой. Он носил котелок и щегольской жилет с часами на цепочке. Его часто вызывали к Торе, хотя вряд ли он был таким уж крупным вкладчиком в синагоге.
– О, да, синагога. М-м… видишь ли, Элия, я имел очень мало общего с синагогой. Мы с матерью были довольно свободомыслящими. Особенно мать. Она получила польское воспитание. Меня она, как видишь, наградила эмансипированным именем: Артур.
Сэммлер сожалел, что его семейные воспоминания были такими скудными. Поскольку нынешние семейные связи не вполне удовлетворяли его, он охотно помог бы Гранеру воссоздать прошлое.
– Я любил старого Хессида. Знаете, я был очень привязчивым ребенком.
– Могу себе представить, – сказал Сэммлер. Он почти не помнил Гранера в детстве. Поднявшись, он сказал:
– Ну, не буду тебя утомлять…
– О, вы меня нисколько не утомляете. Но у вас, наверное, много дел. В библиотеке. Одну минуту, дядя… я хотел вам сказать, что вы хорошо выглядите. Эта последняя поездка в Израиль совсем на вас не отразилась, а ведь она была не из легких, правда? Вы по-прежнему бегаете в Риверсайд-парке, как раньше?
– В последнее время забросил. Что-то ноги плохо гнутся.
– А я как раз хотел сказать, что там опасно бегать. Я бы не хотел, чтобы с вами что-то случилось. Какой-нибудь психованный сукин сын может выскочить из-за кустов, когда вы отдыхаете, и перерезать вам горло! Впрочем, хоть у вас ноги и плохо гнутся, а слабым вас не назовешь. Я знаю, вы не из тех, что страдают всякими болезнями, если не считать ваших нервов. Вы еще получаете ту маленькую сумму из Западной Германии? А социальное страхование? Знаете, я очень рад, что адвокат все это уладил, с немцами. И вообще я не хочу, чтобы вы беспокоились, дядя Артур.
– О чем?
– Вообще ни о чем. Страхование в старости. Дом призрения. Оставайтесь с Марго. Она неплохая женщина. Она за вами присмотрит. Шула, насколько я понимаю, немного увлекающаяся особа. Со стороны это может быть забавно, но родному отцу… Мне-то такие вещи знакомы.
– Да, Марго славная женщина. Лучшего нельзя желать.
– Значит, мы договорились, дядя, никаких беспокойств?
– Спасибо, Элия.
Угрюмая, неловкая пауза, и в грудь, в голову, даже в живот, и куда-то вокруг сердца и в глазные орбиты ударяет острая, едкая, жгучая боль. Женщина продолжала полировать Гранеру ногти, а он сидел выпрямившись, в наглухо застегнутой пижамной куртке, из-под которой выступал бинт, скрывающий горло с винтами. Широкое, румяное, в общем, красивое лицо; лысина; большеухая простоватость; расширяющийся книзу нос – Гранер принадлежал к заурядному ответвлению фамильного древа. В этом лице, однако, была сила, и если опустить чрезмерные требования, то и доброта. Сэммлер знал недостатки сидевшего перед ним человека. Замечал их, как замечают песчинки и пыль на мозаике – мелкий сор, который можно смахнуть. Человек, на которого можно положиться, – человек, который думает о других.
– Ты был добр ко мне и к Шуле, Элия.
Гранер промолчал. Самой своей неподвижностью он как бы отклонил благодарность, которую считал не до конца заслуженной.
Короче, сказал бы Сэммлер, если Земля заслуживает, чтобы ее покинули, если мы будем вынуждены устремиться сейчас к иным мирам, в первую очередь к Луне, то это не из-за таких, как ты. Он выразил это более лаконично.
– Я благодарен тебе.
– Вы настоящий джентльмен, дядя Артур.
– Ну, я еще загляну.
– Да, приходите. Мне хорошо с вами.
Закрыв за собой дверь, обитую заглушающей звуки резиной, Сэммлер нахлобучил шляпу а-ля Огастес Джон. Шляпа была куплена в Сохо. Обычным быстрым шагом он прошел по коридору, выставляя вперед правое плечо и правую ногу, все-таки отдавая предпочтение зрячей стороне. Войдя в приемную, – солнечный залив с берегами из оранжевой пластиковой мебели, – он увидел Уоллеса Гранера с каким-то врачом в белом халате. Это был хирург, оперировавший Элию.
– Дядя моего отца – доктор Косби.
– Как поживаете, доктор Косби?
Растрачиваемое попусту очарование сэммлеровских манер. Кто теперь обращает внимание на все эти старомодные европейские штучки! Какая-нибудь дама еще могла бы при случае оценить его манеру здороваться. Но не доктор Косби. Бывшая футбольная звезда, знаменитость Джорджии, поразила Сэммлера своим сходством с человекоподобной стеной. Высоченная и плоская. Загадочно непроницаемое лицо, очень белая кожа. Верхняя губа оттопырена. Но рот при этом – прямой и узкий. Спрятанные за спину руки как бы подчеркивали некоторую неприступность. В нем было что-то от полководца, мысли которого заняты войсками, ведущими кровопролитное сражение за гребнем ближнего холма. С назойливым штафиркой, подошедшим к нему в эту минуту, ему не о чем было разговаривать.
– Как дела у доктора Гранера?
– Делает 'спехи, м'стер… Прекрасный п'циент…
Доктор Гранер казался им тем, чем хотел казаться. На всякий случай был свой пропагандистский трюк. Демократия – это пропаганда. Пропаганда проникала на все уровни жизни, начиная с правительственного. Ты имел свою цель, точку зрения, позицию, и ты ее пропагандировал. Трюк срабатывал, все говорили о событии положенными словами, в твоем духе. В данном случае Элия, врач и пациент, дал понять, что он является пациентом из пациентов. Простительная слабость; мальчишество, конечно; ну и что? По-своему это было даже замечательно.
При виде врача Сэммлер тоже ощутил некоторую слабость, свою собственную, ибо он давно уже хотел расспросить о своих недугах. Слабость была, разумеется, подавлена. Но искушение осталось. Ему хотелось рассказать, что он просыпается от гула в голове, что в его зрячем глазу, в самом уголке, образуется какая-то крупинка, которую он никак не может извлечь, и она трется о веко, что по ночам у него нестерпимо горят ступни, что он страдает от зуда в заднем проходе – pruritis ani. Врачи не выносят профанов, щеголяющих медицинскими терминами. Разумеется, он запретил себе жаловаться. Даже на тахикардию. Глазам доктора Косби было явлено только слегка задубелое лицо со старческим румянцем. Зимнее яблоко. Пожилой джентльмен, занятый своими мыслями. Дымчатые очки. Шляпа с широкими, сморщившимися полями. Зонтик в погожий день – нелепость. Длинные узкие туфли, потрескавшиеся, но начищенные до блеска.
Не был ли он равнодушен к судьбе Элии? Нет, он был глубоко опечален. Но мог ли он чем-нибудь помочь? Оставалось размышлять и наблюдать.
Как обычно, даже в разгаре беседы, взгляд круглых, темных глаз Уоллеса был мечтательно-отсутствующим. Бесконечно отсутствующим. Его кожа тоже была очень белой. К тридцати годам он все еще оставался Уоли – маленьким братцем с детскими локонами и детскими губами. Несколько неряшливый в своих туалетных привычках, что, пожалуй, тоже свойственно маленьким детям, – в жару от него зачастую попахивало сзади. Возможно, у Сэммлера был сверхчувствительный нюх. Едва ощутимый запах небрежно вытертого кала. Внучатого дядю это не шокировало.
Он просто констатировал этот факт – с помощью своей сверхчувствительной регистрирующей системы. В сущности, этот юноша был ему даже симпатичен. Уоллес относился к той же категории людей, что и Шула. Между ними было даже какое-то семейное сходство, особенно в глазах – одинаково круглых, темных, больших, заполнявших большие костные орбиты, способных все замечать, но как бы сквозь дремоту, сонно, словно в наркотическом трансе. Престранный котенок, как говорила Анджела. Он обсуждал с доктором Косби спортивные новости. Уоллес не был способен относиться к чему-либо с нормальным интересом. Любой интерес становился у него ненормальным. Он приходил в лихорадочное возбуждение. Лошади, футбол, бейсбол, хоккей. Он знал все показатели, рекорды, статистику. Его можно было проверять по справочнику. Доктор Гранер рассказывал, что он способен засиживаться до четырех утра, заучивая всевозможные таблицы и с невероятной быстротой делая заметки левой рукой. При всем при том – высокий лоб интеллектуала, хотя чуточку педоморфный, изящный, но несколько коротковатый нос, немного излишне вогнутая средняя часть лица и выражение ума, силы, достоинства, чем-то слегка подпорченные. Уоллес едва не стал физиком, едва не стал математиком, едва не стал адвокатом (в свое время он даже ухитрился сдать экзамен и открыть контору), едва не стал инженером, едва не стал доктором социологии. Он имел летные права. Он чуточку не дотягивал до алкоголика, чуточку до педераста. В настоящее время он, по-видимому, играл на скачках. В руках он держал желтые листки бумаги стандартного формата, испещренные названиями заездов и условными значками, над которыми он колдовал вместе с доктором Косби, тоже, видимо, заядлым болельщиком; при этом доктор был очевиднейшим образом восхищен, а не просто терпеливо-снисходителен. Стройный, в темном костюме, Уоллес был очень красив. Молодой человек со сногсшибательными способностями. Это озадачивало.
– Не ошибаетесь ли вы насчет Розовой Чаши? – спросил доктор.
– Ни в коем случае, – возразил Уоллес. – Вы только гляньте на эту раскладку по ярдам. Я рассортировал все прошлогодние результаты и подставил их в свою формулу, вот, посмотрите…
Из всего разговора это было единственное, что Сэммлер сумел понять. Он ждал, глядя в окно на машины, на женщин с собачками на поводках и без поводков. Напротив, через дорогу, – пустой дом, предназначенный к сносу. Большие белые косые кресты на оконных стеклах. На витрине закрытой пошивочной мастерской кто-то жирно нарисовал мелом не то причудливые фигурки, не то какие-то значки. Большинство уличных надписей не заслуживало внимания. Эти почему-то показались мистеру Сэммлеру уместными. Выразительными. Что они выражали? Приближающееся небытие. (Элия!) Но одновременно – величие той вечности, в которую мы вознесемся из нашего нынешнего прозябания. В данный момент силы, способные увлечь человечество ввысь, увлекали его вниз. На более утонченные жизненные цели почти ничего не оставалось. Страх перед возвышенным приводил всех в исступление. Потенции, впечатления, провидения, напластованные в человеческих существах с изначальных времен, с того момента, быть может, когда в толще материи впервые затлела искра сознания, тонули в суете, в отрицаниях и обнаруживали себя лишь в бесформенных значках или числах, начертанных на окнах обреченных магазинов. Конечно же, все боялись будущего. Не смерти. Не этого будущего, в котором вся душевная жизнь была обречена на вечное бытие. Мистер Сэммлер был убежден в этом. А пока что можно было оправдаться невменяемостью. Целый народ, все цивилизованное общество претендовало на неподсудную невменяемость. На удобную, почти благородную невменяемость. А пока что за всех говорили с витрины старого портновского ателье напротив жирные петли и кривульки.
Интерес к загадочным письменам и знамениям впервые появился у Сэммлера в Польше, во время войны, особенно в те три-четыре месяца, что он скрывался в склепе. В то мертвое лето, а позднее осень он наивно, как ребенок, вглядывался в зловещие знаки предзнаменований, ибо жизненно важные смыслы были запечатлены на всем и любая травинка, нить паутины, пятнышко на листе, жучок или воробей настоятельно требовали разгадки. Повсюду были символы и метафизические послания. В этом склепе, принадлежавшем роду неких Межвиньских, Сэммлер жил, так сказать, на полном пансионе. Довоенный кладбищенский сторож снабжал его хлебом. А также водой. В иные дни он не появлялся, но таких дней было не много, и к тому же Сэммлер всегда оставлял немного хлеба про запас, так что голодная смерть ему не грозила. На старого Чеслякевича можно было положиться. Хлеб он приносил в шапке. От хлеба пахло его волосами, его кожей. И все это время какая-то едва уловимая желтизна была разлита повсюду, даже небо было желтоватого цвета. То был рассеянный свет дурных предвестий – для самого Сэммлера, для всего рода человеческого, невеселая правда об истинном смысле бытия. Невыносимая и порой подавляющая. В наихудшем варианте такая: ты призван существовать. Призван из глубин материи. И потому ты существуешь. Вполне возможно, что весь этот грандиозный, всеобъемлющий план, принадлежит ли он Творцу или кому-то другому, безымянному пока, полон смысла, но ты сам – не более чем частный случай, обреченный на страдание и неприкаянность в этом окрашенном желтизной отчаянии. Но почему? Так положено! И вот он лежал и ждал. Это была лишь малая часть того, что он передумал за время, проведенное в кладбищенском пансионе. Возможно, не самое подходящее время для размышлений, но что еще оставалось делать? Событий не было. События прекратились. Новостей не было. Чеслякевич, его спаситель, старый калека с некрасивыми голубыми глазками, с вислыми усами, с распухшими ладонями, либо не знал их, либо не хотел сообщать. Чеслякевич рисковал ради Сэммлера жизнью. В этом было что-то необъяснимое. Они не нравились друг другу. Да и чем ему мог нравиться Сэммлер, который выполз из лесу полуголый, иссохший от голода, с обожженными волосами и бородой? Надо полагать, только многолетнее общение с трупами, возня с человечьими скелетами подготовила сторожа к такому появлению. Он привел Сэммлера в склеп Межвиньских, принес ему какие-то лохмотья прикрыть наготу. После войны Сэммлер посылал Чеслякевичу деньги, посылки. Он переписывался с его семьей. Позже, спустя несколько лет, в ответных письмах стали проскальзывать антисемитские нотки. Без особой злости. Просто натура брала свое. Это не было так уж неожиданно, разве что поначалу. В жизни Чеслякевича был свой звездный час достоинства и милосердия. Он рискнул жизнью, чтобы спасти Сэммлера. Старый поляк тоже был своего рода героем. Однако времена героизма миновали. Он был заурядным человеческим существом и хотел снова стать самим собой. Что было, то было. Разве он не имеет права быть самим собой? Отдохнуть в лоне давних предрассудков? Только так называемая мыслящая личность с ее исключительными требованиями все не может успокоиться: ответственность перед «цивилизацией», высшие ценности и все такое. Только Сэммлеры тщетно пытаются исполнить некий символический долг. В итоге это приносило беспокойство, подставляло под удары. В характере «мистера Сэммлера было нечто символическое. Он и сам, лично, был символом. Знакомые и родственники сделали из него нечто вроде судьи или исповедника. Что же он, собственно, символизировал? Он даже представить себе не мог. Может, все дело в том, что он остался в живых? Он даже этого не свершил, поскольку в значительной мере потерял прежнего себя. Он не остался в живых, он всего лишь сохранил жизнь. Он продолжал эту жизнь влачить. Возможно, его хватит еще на какое-то время. По всей видимости, дольше, чем Гранера с его винтом или зажимом в горле. Таким способом смерть надолго не отсрочишь. Один случайный прорыв красной жидкости, и человека нет. Со всеми его вожделениями, целями, добродетелями, репутацией хорошего врача, полезными начинаниями, карточными играми, преданностью Израилю, неприязнью к де Голлю, со всем его бескорыстием и корыстолюбием, с его ртом, приспособленным для изречения страстных банальностей, с его разговорами о деньгах, с его еврейским отцовством, с его отцовской любовью и отцовским отчаянием. А ему, Сэммлеру, взамен кончившейся или отнятой у Гранера жизни – этой жизни, той жизни, прежней жизни – ему, пока он влачил существование, оставалась та мифическая реальность, тот желтый свет польского летнего зноя за дверью склепа. Такой же желтый свет был в той комнате с китайским сервантом, где он мучился с Шулой-Славой. Нескончаемые, наполненные минутами часы, когда душа непрерывно гложет себя изнутри. Гложет из-за отсутствия связи между явлениями жизни. Возможно, в наказание, что ей не удалось обнаружить эту связь. Или то снедает душу томление по священному? Да, да, поди сыщи священное в мире, где все только и знают, что убивать друг друга. Где убили Антонину. Где убили его самого, рядом с его женой. Где он и еще шестьдесят – семьдесят таких же, как он, раздетые догола, вырыв собственную могилу, падали в нее, расстрелянные в затылок. Тела других – на его теле, раздавливая его. Где-то рядом труп жены. Он выбирался потом из-под горы трупов, выползал из рыхлой земли. Обдирая живот. Прячась в сарае. Отыскав какие-то лохмотья прикрыть наготу. Лежа в лесу много дней подряд.
Теперь, почти тридцать лет спустя, в апрельские дни, в солнечном блеске, в начале весны, совсем иного времени года, в Нью-Йорке, многолюдном и суматошном почти по-весеннему; опираясь на спинку мягкого, под кожу, оранжевого дивана; стоя на темно-коричневом с желтыми, как клеточные ядра (с веретенцами митоза), вкраплениями, финском ковре; он глядел вниз на улицу; а там, на улице, – на витрину ателье, где дух вечности, не сознающей собственного назначения, мальчишеской рукой начертал свое пророчество.
Быть может, мы просто безумцы?
Тому полно доказательств.
Похоже, все изобрели мы сами. Включая безумие. Скорее всего безумие – это очередной ублюдок нашей чудовищной изобретательности. На данном этапе человеческой эволюции утвердились взгляды (Сэммлер был ими частично поколеблен), согласно которым выбор сузился до двух вариантов: святость или безумие. Либо мы безумны, коль скоро не святы, либо мы святые, коль скоро возвышаемся над безумием. Гравитационное поле массового безумия катастрофически засасывает святых. Немногие только понимают, что способность каждодневно и немедленно выполнять свой долг и делает из человека героя и праведника. Но теперь мало кто так думает. Большинство рассчитывает достичь духовных вершин лишь на том основании, что полагает себя достаточно для того безумным.
Взять хотя бы Уоллеса Гранера. Врач удалился, и Уоллес, со своими желтыми бумажками, картинно и одиноко стоял посреди комнаты, стройный, изящный, опустив длинные ресницы. Какой долей рассудка, какой душевной устойчивостью готов пожертвовать такой Уоллес ради благодатного безумия?
– Дядя?
– Извини, Уоллес, я задумался.
Одни оригинальничали, другие притворялись. Уоллес, по всей видимости, был действительно не в себе. Ему надо было сделать героическое усилие, чтобы заинтересоваться будничными вещами. Потому-то, вероятно, спортивная статистика приводила его в такое лихорадочное возбуждение, потому-то он и казался вечно витающим в облаках. Dans la lune на Луне! Что ж, по крайней мере он не усматривал в Сэммлере никакого символа и явно не нуждался в священниках, судьях и исповедниках. Уоллес говорил, что в дяде Сэммлере он ценит остроумие. Сэммлер бывал порой едко остроумен, особенно, если был раздражен, возмущен или чем-то задет. Остроумен в старомодном европейском стиле. Зачастую это предвещало приближение нервного припадка.
Начиная разговор с Сэммлером, Уоллес заранее расплывался в улыбке и время от времени повторял самые меткие словечки сэммлеровских острот.
– Недостаточно круглый дурак, а, дядя?!
Говоря о себе, Сэммлер однажды обронил:
– В одних случаях я более глуп, в других – менее глуп; я, видимо, дурак недостаточно круглый.
Или другой, самый свежий трофей Уоллеса:
– Бильярдный стол, а, дядя?! Бильярдный стол!
Это относилось к путешествию Анджелы в Мехико. К ее неудачным мексиканским каникулам с Хоррикером. В январе ей вдруг опостылел Нью-Йорк с его зимой. Ей захотелось в Мексику, в какое-нибудь жаркое место, где можно увидеть зелень. Сэммлер тотчас же, не задумываясь, предложил:
– Жаркое место? И зелень? Бильярдный стол в аду тебе подходит?
– Ух! Вот это удар! – воскликнул Уоллес.
Всякий раз он допытывался у Сэммлера, точно ли ему передали слова. Сэммлер улыбался, маленькие щечки вспыхивали, он категорически отказывался повторять свои остроты. Уоллес не отличался остроумием. Никто не повторял его острот. Но кое-какой набор подвигов у него был, он то и дело затевал какие-нибудь диковинные авантюры. Несколько лет назад он отправился в Танжер с намерением купить там лошадь и объездить верхом Марокко и Тунис. Свою машину он оставил дома, заявив, что жизнь отсталых народов следует изучать только с высоты лошадиного крупа. Он брал у Сэммлера почитать «Силу и свободу» Буркхардта и был здорово потрясен. Он захотел увидеть народы, находящиеся на разных стадиях развития. В Испанском Марокко его ограбили в гостинице. Какой-то тип с револьвером спрятался у него в номере, в стенном шкафу. Тогда он отправился в Турцию, еще раз попытать счастья. Каким-то чудом ухитрился пробраться на своей лошади в Россию. В Советской Армении он был задержан. Гранеру пришлось раз пять или шесть побывать у сенатора Джавитса, прежде чем Уоллеса выпустили из советской тюрьмы. В другой раз, уже снова в Нью-Йорке, он пригласил какую-то девицу посмотреть фильм «Роды». В самый главный момент ему стало плохо, он стукнулся головой о спинку кресла и потерял сознание от удара. Очнулся он уже на полу. Девица, шокированная его поведением, пересела на другое место. Он устроил ей скандал из-за того, что она его бросила. Одолжив однажды отцовский «роллс-ройс», Уоллес ухитрился его потерять; небрежно припаркованная, машина была обнаружена в конце концов на дне пересохшего бассейна вблизи Кротона. Он нанимался водителем на рейсовый городской автобус, чтобы расплатиться с долгами. Мафия охотилась за ним. Букмекер назначил ему два месяца для уплаты по векселям. Ничего не помогало. С каким-то приятелем он слетал в Перу, чтобы вскарабкаться на Анды. Говорили, что он вполне приличный пилот. Он приглашал Сэммлера слетать с ним («Спасибо за приглашение, Уоллес, но боюсь, что не смогу»). Он записался добровольцем в американский Корпус мира. Ему хотелось сделать что-нибудь полезное для маленьких черных детишек. Например, стать баскетбольным тренером.
– Уоллес, что говорит врач, какие прогнозы?
– Хочет сделать еще раз рентген головы.
– Планирует операцию на мозге!
– Если увидят, что можно добраться до нужного места. Оно может оказаться недоступным. Понятно, что недоступно, то недоступно.
– Посмотреть на него, ни за что не подумаешь. Он так хорошо выглядит…
– М-да… – сказал Уоллес. – А почему бы нет?
Сэммлер только вздохнул. Легко было представить, как восхищал покойную миссис Гранер ее отпрыск, его кудрявая, прекрасной формы голова, его длинная шея, его тонкие брови, короткая четкая линия его носа и безупречная линия зубов – продукт умелой ортодонтии.
– Это наследственная штука – все эти аневризмы. Человек уже рождается с тонкими стенками сосудов. У меня тоже могут быть тонкие стенки. И у Анджелы, хотя я сомневаюсь, что в ней есть хоть одно тонкое место. Из-за этой штуки куча народу умирает, и молодые тоже, во всем остальном совершенно здоровые. Идет себе по улице этакий здоровяк, красавчик, живчик, и тут у него эта штука – бац! – взрывается где-нибудь внутри. И конец. Сначала вздувается такой пузырь. Вроде как горло у ящерицы. А потом – конец. Ну, вы-то на своем веку, наверное, все это уже видели.
– Даже для меня в этом всегда есть что-то новое.
– Слушайте, как я намучился с этим воскресным кроссвордом! Вы его не смотрели?
– Нет…
– Но ведь вы, бывает, смотрите.
– Марго не принесла мне «Таймс».
– Потрясающе, сколько вы слов знаете.
Несколько месяцев подряд Уоллес занимался адвокатурой. Контору для него снял отец, о меблировке позаботилась мать, пригласив для этого интерьерщика от Крозе. Целых шесть месяцев Уоллес исправно вставал поутру, как самый заурядный обладатель сезонки, и отправлялся на службу. Но служба его, как выяснилось, состояла в том, что, запершись в кабинете, отключив телефон и удобно устроившись на кожаном диване, он усердно решал кроссворды. Это была вся его работа. Впрочем, нет – у него было еще одно занятие: он расстегивал блузку стенографистки и рассматривал ее груди. Эти сведения поступили от Анджелы, которая, в свою очередь, получила их от самой девицы. Почему эта девица не возражала? Может быть, она полагала, что это – прелюдия к замужеству? Возлагать надежды на Уоллеса? Ни одна здравомыслящая женщина не стала бы. Впрочем, его интерес к грудям был, по всей видимости, строго научным. Что-то там насчет сосков. В духе Жан-Жака Руссо, который однажды в Венеции так увлекся, рассматривая груди какой-то проститутки, что та выгнала его вон, посоветовав заниматься математикой. (Ах, этот дядюшка Сэммлер со своей европейской культурой – такой начитанный!)
– Не люблю я этих составителей кроссвордов, – продолжал Уоллес. – У них какие-то низкопробные мозги. На черта человеку запоминать всю эту труху? Все это – трухлявое восточно-американское образование. Хитрожопые вундеркинды из Колумбийского университета с их разнообразными познаниями. Я даже пытался вам дозвониться из-за какого-то старинного английского танца. Я ничего не мог придумать, кроме джиги, рила и волынки. А этот паршивый танец начинается на «м».
– М? Может быть, моррис?
– Черт! Конечно, моррис! Клянусь Богом, у вас котелок еще что надо. Как вы ухитряетесь все это помнить?
– Это из Мильтона. В трепетном моррисе навстречу луне…
– Ужасно мило. Нет, правда, здорово красиво – трепетный моррис…
– «Навстречу луне в трепетном ритме морриса…» Я полагаю, он имел в виду рыб, косяки рыб в океане, и сам океан, раскачивающийся в танце.
– Слушайте, это восхитительно. Вот что значит правильно жить, – можно помнить такие славные штуки. Вы себе не забиваете голову всем этим идиотским бизнесом. Вы старик первый сорт, дядя Сэммлер. Вообще-то я стариков недолюбливаю. Я вообще мало кого уважаю – ну, может, парочку-другую физиков-теоретиков. Вы другое дело. Вы, правда, слегка отшельник, но зато у вас чувство юмора! Единственные шутки, которые я пересказываю, – это ваши. Кстати, я хотел проверить, правильно ли мне передали ту, насчет де Голля? Значит, сначала он говорит – не хочу, мол, чтоб меня хоронили под Триумфальной аркой, рядом с каким-то неизвестным, верно?
– Пока что верно.
– Отец имеет к де Голлю претензии, потому что он нянчится с арабами. А мне нравится, что он, как памятник. А дальше он, значит, не захотел во Дворец инвалидов, потому что Наполеон был всего лишь капралишка, да?
– У-гм…
– А израильтяне запросили с него сто тысяч за место в гробу Господнем…
– В этом вся соль.
– А де Голль, значит, возьми и скажи: что? за трое суток? это уж чересчур! «Pour trois jours?» Он собирался через трое суток воскреснуть, верно? Зверски смешно, по-моему. (Авторитетное мнение Уоллеса.) Поляки любят рассказывать анекдоты.
У него не было никакого чувства юмора. Просто иногда ему удавалось посмеяться.
– Побежденные пытаются отыграться на остроумии.
– А вы, пожалуй, не очень любите поляков, дядя?
– Я думаю, в целом я люблю их больше, чем они меня. Кроме того, некий ясновельможный пан однажды спас мне жизнь.
– И Шула была в монастыре.
– Да, и это. Ее спрятали монахини.
– А помните, как-то у нас, в Нью-Рошели, Шула явилась в гостиную в одной ночной сорочке, а ведь ребенком ее никак нельзя было назвать, было ей тогда лет двадцать семь, не меньше, стала перед всеми на колени и начала молитву читать… Она по-латыни читала? Ну, все равно, сорочка у нее была зверски прозрачная. Я думаю, она хотела разозлить вас этими своими христианскими штучками. Все-таки это непристойно, ведь правда, в еврейском доме? Уж эти мне евреи! Она и сейчас христианка?
– Время от времени, на Пасху и Рождество.
– И пристает к вам с Уэллсом! Впрочем, отцы всегда снисходительны к дочерям. Вон как мой носится с Анджелой. Денег ей дает раз в десять больше, чем мне. Потому что она напоминает ему Мэй Уэст. Он всегда таял, как видел ее сиськи. Сам не замечал. Ну, мы-то с матерью все видели.
– Как ты думаешь, Уоллес, что будет?
– Вы имеете в виду старика? Он не вытянет. Два шанса из ста. Что толку в этом винте!
– Он борется…
– Рыба тоже трепыхается. С крючком в жабрах. Потом ее выдергивают на тот свет. Она все равно что захлебывается воздухом.
– Это ужасно, – сказал Сэммлер.
– И все-таки есть такие, что ничего не имели бы против смерти. Уверен, что многие предпочли бы умереть, если их жизнь пошла насмарку. Я так думаю, что пока твои старики еще живы, они как бы заслоняют тебя от смерти. Им ведь положено умереть раньше тебя, так что ты вроде как в полной безопасности. Но стоит им умереть, ты следующий – и уже впереди тебя в очереди никого нет. А про себя я уже вижу, что увлекаюсь и качусь по наклонной плоскости куда-то не туда, и знаю, что потом мне придется за это расплачиваться. Я не лучше других, нравится мне это или нет… – Он снова задумчиво-рассеянно замолчал, мистер Сэммлер угадывал в нем сейчас тяжкую, непослушную работу мысли. – Я все думаю, чего бы это доктор Косби проявил такой интерес к футбольным ставкам?
– А ты?
– Теперь уже не так, как раньше. Отец ему все уши прожужжал, какой я знаток профессионального футбола. И любительского тоже. Для меня это теперь дело прошлое. Но отец так меня расписывал хирургу, словно мной торговал, чтобы я мог ему на что-то сгодиться и мы все стали бы тогда закадычными друзьями.
– А у тебя теперь уже другие интересы?
– Да. Мы с Фефером затеяли тут одно дельце. Я теперь ни о чем другом не могу думать.
– А, Фефер! Он бросил меня в университете, и с тех пор я его так и не видел. Мне даже показалось, что он хотел на мне заработать.
– Жутко изобретательный деляга! Кого угодно надует. Хотя вас вряд ли. Мы с ним задумали что-то вроде фирмы. Фотографирование загородных вилл с самолета. Потом наш агент приходит с фотографией – не с негативом, а с полностью проявленным снимком, – предлагает сделку на месте. Мы определяем вид и породу всех деревьев и кустиков и развешиваем на них таблички с названиями – по-английски и по-латыни, как полагается. Владельцы вилл, как правило, плохо разбираются, что у них растет на участке.
– Фефер знает ботанику?
– Выпускника с ботанического можно нанять в каждом месте. В Лармасте, например, есть одна с дипломом Вассара.
Мистер Сэммлер не мог сдержать улыбку:
– А Фефер тут же бы ее соблазнил. И хозяйку виллы в придачу?
– Ну уж нет. Я присмотрю, чтобы он не отбился от рук. У меня есть управа на этого типа. Зато чтобы что-нибудь кому-нибудь всучить, тут он мастер. Лучше всего начать это дело весной. Прямо сейчас. Пока листва еще не очень густая и не будет мешать аэросъемкам. А летом можно было бы снимать с моря – Монток, Чильмарк, Уэльфлит, Нантукет. Но отец не хочет дать денег.








