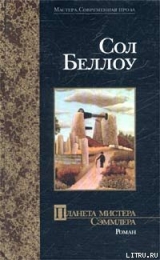
Текст книги "Планета мистера Сэммлера"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
А наш мир, верно ли, что он вот-вот переменится? Зачем? Как? Просто двинется в космос, прочь от Земли? А переменятся ли человеческие души? Ожидаются ли новости в поведении? Почему? Попросту потому, что мы устали от старого поведения? Этого явно недостаточно для перемен. Так почему же? Потому, что мир уже рассыпается? По крайней мере Америка, если не весь мир. Ну, если еще не рассыпается, то, во всяком случае, сотрясается.
Эмиль опять вел машину вниз от Семьдесят второй улицы. Поток автомобилей слегка поредел. Тут уже не было товарных фургонов, создающих пробки. Приближался Линкольновский центр, а за ним на кольце Колумбус вздымался Хантингтон-Харфордбилдинг, здание, которое Брук называл Тадж-Махал. «Ну разве это не смешно?» – восклицал Брук. Он обычно хохотал до слез от собственных шуток. Похожий на обезьяну, он складывал руки на животе, зажмуривался и высовывал язык. Ну и домик! Весь из дыр. Но зато там можно получить обед всего за три доллара. Он просто бредил этим: за такую цену – гавайские цыплята и шафранный рис. В конце концов он повел туда старика. Обед был действительно великолепный. А вот Линкольновский центр мистер Сэммлер видел лишь снаружи. Он был равнодушен к исполнительскому искусству и избегал больших скоплений народа. Выставки – электрическую живопись и обнаженные модели – он посещал только потому, что Анджела желала держать его в курсе современного искусства. Но он пропускал в «Таймс» страницы, посвященные художникам, певцам и актерам. Он берег свой единственный читающий глаз для более интересных вещей. С недоброжелательным интересом он отметил, что сносятся милые старые дома и развалюхи и возводятся новые здания.
Вдруг, почти у самого въезда в Линкольновский центр, Эмиль резко затормозил машину и опустил стеклянную перегородку.
– Почему вы остановились?
– Что-то происходит на той стороне улицы, – сказал Эмиль. Собрав гармошкой все складки лица, он всматривался в происходящее, словно оно требовало его особого внимания. Ради чего, собственно, стоило останавливать машину в такую минуту? – Вы не узнаете этих людей, мистер Сэммлер?
– Каких людей? Что там, машины столкнулись? Задержка движения? – Конечно, он не смел приказывать Эмилю ехать дальше, но он все же сделал неопределенный жест, нечто вроде взмаха руки. Он как бы указывал направление – вперед.
– Нет, я думаю, вы захотите задержаться, мистер Сэммлер. Я вижу, там ваш зять. Разве это не он там, с зеленой сумкой? А тот, другой, – ведь это партнер Уоллеса!
– Фефер?
– Да, тот толстый парень. Розовощекий с бородой. Он с кем-то дерется. Вы видите?
– Где это? Там, на улице? Это Эйзен?
– Нет, дерется другой парень. Тот, с бородой. По-моему, ему здорово достается.
На противоположной стороне сбегающей под уклон улицы автобус притормозил у тротуара под тупым углом, почти полностью преградив дорогу машинам. Теперь Сэммлер разглядел, что там в кольце толпы зевак идет драка.
– Так один из них – Фефер?
– Да, мистер Сэммлер.
– С кем это он сцепился? С шофером автобуса?
– Нет, это не шофер. Это кто-то другой.
– Придется пойти и посмотреть, что там.
Эти задержки – просто безумие! Словно намеренно, словно нарочно они стремились испытать предел его терпения. И в конце концов достигли цели. Почему именно здесь, именно Фефер? Но сейчас он уже видел ясно то, о чем говорил Эмиль. Фефер стоял, притиснутый к передней стенке автобуса. Это был именно Фефер, распластанный на широком бампере. Сэммлер начал лихорадочно дергать дверную ручку.
– Не с этой стороны, мистер Сэммлер. Вас тут собьют.
Но Сэммлер, окончательно потерявший терпение, уже спешил через улицу, запруженную машинами.
Фефер, окруженный плотным кольцом зевак, дрался с чернокожим карманником. Человек двадцать, не меньше, глазели на драку, к ним присоединялись все новые и новые, но, похоже, никто не собирался вмешиваться. Фефер, притиснутый к громоздкому автобусу, пытался вырваться из цепкой хватки карманника. Его голова билась о ветровое стекло перед пустым сиденьем шофера. Негр стискивал его все сильнее, и Фефер был испуган. Он еще сопротивлялся, еще защищался, но был уже бессилен. Противник был сильнее. Еще бы! Как могло быть иначе? Бородатое лицо Фефера исказилось от страха. Круглые щеки пылали, широко расставленные карие глаза взывали о помощи. Он не знал, что делать. А что он мог сделать? Он был похож на человека, который пытается вытащить из потока упавший на дно предмет: глаза выпучены, рот в зарослях бороды широко разинут. Но фотоаппарата он не отдавал. Он держал его в высоко поднятой руке, вне пределов досягаемости. Огромное тело в светло-коричневом костюме давило его своим весом. Не повезло Феферу, не удалось ему сделать снимок исподтишка. Черный вор пытался выхватить аппарат. Да больше ему ничего и не нужно было – только забрать фотоаппарат, дать Феферу пару раз под ребра и разок-другой в живот и исчезнуть по возможности неторопливо до прихода полиции. Но Фефер, несмотря на свой страх, все еще не сдавался. Изменив захват, негр взял Фефера за воротник и начал закручивать его, прижимая при этом свою жертву к стенке, как он делал это с Сэммлером. Он душил Фефера воротом его собственной рубашки. Темные очки от Диора, идеально круглые и голубоватые, не шелохнулись на плоском носу негра. Фефер вцепился в его развевающийся малиновый галстук, но ничего не мог с ним сделать.
«Как спасти этого безмозглого, лезущего не в свое дело идиота? Негр может его изувечить. А мне надо спешить. У меня совсем нет времени».
– Эй, кто-нибудь! – приказал Сэммлер. – Помогите! Разнимите их, помогите ему!
Но конечно, «кто-нибудь» не откликнулся. Никто не подумал вмешаться, и внезапно Сэммлер остро почувствовал себя иностранцем: голос, акцент, манеры, синтаксис, лицо, психология – все в нем было иностранным.
Но Эмиль видел тут Эйзена. Сэммлер огляделся вокруг. Да, вот он – бледный, с дурацкой улыбкой. Видно, давно ждет, что Сэммлер заметит его. Теперь он был счастлив, что на него обратили внимание.
– Что ты здесь делаешь? – сказал Сэммлер по-русски.
– А вы, дорогой тесть, что вы здесь делаете?
– Я? Я спешу в больницу к Элии.
– А я был со своим юным другом в автобусе, когда он делал этот снимок. Снимок открытой сумочки. Я сам все это видел.
– Какая глупость!
Эйзен держал свою зеленую брезентовую сумку. Там были его скульптуры или медальоны. Куски со дна Мертвого моря – железопириты, или как их там.
– Пусть он отдаст фотоаппарат. Почему он не отдает фотоаппарат? – сказал Сэммлер.
– А как нам с этим-то справиться? – сказал Эйзен, явно не соглашаясь.
– Нужно позвать полицию, – сказал Сэммлер. Он бы с удовольствием добавил: «И перестань улыбаться».
– Но я не говорю по-английски.
– Тогда помоги ему.
– Лучше вы помогите ему, тесть. Я – иностранец и калека. Конечно, вы старше. Но я ведь только приехал в эту страну.
Сэммлер сказал карманнику:
– Отпусти. Сейчас же отпусти его.
Большое черное лицо повернулось к нему. Нью-Йорк отразился в темных линзах под жесткими полями шляпы. Возможно, негр узнал Сэммлера. Но никак этого не выразил.
– Отдайте ему фотоаппарат, Фефер. Выпустите его из рук, – сказал Сэммлер.
Фефер уставился на него с выражением мольбы и отчаяния, похоже было, что он вот-вот потеряет сознание. Но руку с аппаратом он не опускал.
– Вы слышите, отдайте ему эту дурацкую штуку. Он хочет забрать пленку. Не будьте идиотом.
Вероятно, Фефер надеялся, что вот-вот из-за угла выскочит машина, полная полицейских. Ничем иным нельзя было объяснить его бессмысленное упорство. Особенно если принять во внимание силу негра – ползучую, верткую, цепкую, звериную мощь его хватки, чудовищные бугры шейных мышц, жесткую напряженность ягодиц, когда он поднимался на цыпочки. Ноги в блестящей крокодиловой коже! В светло-коричневых брюках, стянутых поясом под цвет галстука – поясом с малиновым отливом! До чего же все это подстегивало воображение.
– Эйзен! – скомандовал Сэммлер в ярости.
– Да?
– Я прошу тебя сделать что-нибудь!
– Пусть они сделают что-нибудь. – Он взмахнул зеленой брезентовой сумкой в направлении зевак. – Я ведь всего сорок восемь часов как приехал!
Мистер Сэммлер снова повернулся к толпе, всматриваясь в лица. Неужели никто не поможет? Выходит, он до сих пор – до сих пор! – еще верит, что кто-то придет на помощь со стороны? Всюду, где люди, есть надежда на помощь. Это одновременно инстинкт и рефлекс. (Негаснущая надежда?) Он скользил взглядом по лицам людей, столпившихся вокруг тротуара, – лицо, лицо, лицо, румяное, бледное, смуглое, худое, полное, угрюмое, сонное, глаза – голубые, карие, черные, – удивляясь странной общности в их бездействии. Все они ожидали – о! наконец-то! – удовлетворения каких-то своих раздраженных, возбужденных, неутоленных, обманутых надежд, утешения для изголодавшихся душ. Вот сейчас ему ка-ак влепят! А черные лица? То же самое желание. По другую сторону черты. Но то же самое. У Сэммлера было ощущение, что воздух вокруг наполнен лаем, хоть не слышно было ни звука. И вдруг его поразила мысль, что всех их объединяет блаженство присутствия. Как будто было сказано – да, именно так! – блаженны присутствующие. Они и здесь и в то же время не здесь. Они как бы присутствуют и отсутствуют. Вот они – стоят в экстазе и ждут. Вот их высшая привилегия! И никто не может прекратить драку – только Эйзен. Странная это драка все-таки… Сэммлеру не верилось, что чернокожий вор будет душить Фефера до потери сознания; нет, он просто будет закручивать ворот на его шее до тех пор, пока Фефер не отдаст фотоаппарат. Конечно, всегда оставалась вероятность, что он стукнет его или всадит нож. Но хуже всего, страшнее, чем само это происшествие, было то чувство, которое все настойчивее охватывало Сэммлера.
Это было чувство ужаса, и оно росло, росло и росло. Что за ужас? Как его описать? Он – человек, вернувшийся из мертвых. Он возвратился к жизни. Он опять рядом с другими. Но в чем-то главном он совершенно одинок. Он стар. Ему недостает простой физической силы. Он знает, что нужно сделать, но у него нет сил сделать это. Ему приходится обращаться к другому – к Эйзену! К человеку, который и сам вне всего этого, на другом пути, на другой орбите, с совсем другим, иноземным центром. Сэммлер был бессилен. А бессилие равнозначно смерти. И вдруг он увидел себя самого: фигура, не стоящая на ногах, а как-то странно наклоненная, словно откинутая назад, в прошлое, – и почему-то в профиль, – себя как человека в прошедшем времени. Это был вовсе не он. Это был некто – и это особенно потрясло его – нищий духом. Некто между состояниями: между человеческим и нечеловеческим, между содержательностью и пустотой, наполненностью и вакуумом, значимостью и незначимостью, этим светом – и никаким. Некто – летучий, неподвластный силам притяжения, свободный, слегка испуганный, неуверенный в цели своего полета, опасающийся, что ничто не ждет его в конце пути.
– Эйзен, разними их, – сказал он. – Он вот-вот задохнется. Сейчас явится полиция и начнет заталкивать всех в машину. А мне надо идти. Стоять здесь – просто безумие. Пожалуйста. Я прошу, просто отними у него аппарат. Отними, и все будет в порядке.
И тут красавчик Эйзен, ухмыляясь, пожимая и поводя плечами, чтобы ослабить тугую джинсовую ткань пиджака, отодвинулся от Сэммлера с таким видом, словно собирался сделать что-то забавное по его личной просьбе. Он закатал правый рукав, обнажив руку, поросшую густыми черными волосами. Затем он широко размахнулся и изо всех сил ударил карманника своей тяжелой брезентовой сумкой сбоку по лицу. Это был страшный удар. С вора слетели очки, шляпа. Фефер высвободился не сразу. Казалось, негр прилег на него отдохнуть, оглушенный. Эйзен был рабочий, литейщик. Но тут была не только профессиональная сила, тут была и сила сумасшедшего. Что-то безмерное, не знающее удержу прорвалось в том, как он прицелился, как примерился к росту негра, – какая-то стойкая дефективность. В этот удар он вложил все свои свойства: все – и самодисциплину, и способность к убийству. «Господи, что я натворил! Ведь это хуже всего, это самое худшее». Сэммлер был уверен, что Эйзен раздробил лицо негра. А теперь он опять собирался ударить его своими медальонами. Негр отпустил Фефера и начал медленно поворачиваться. Губы его раздвинулись, обнажив зубы. У него была глубоко рассечена кожа, из распухшей щеки текла кровь. Эйзен брякнул своими железками и расставил ноги пошире. «Он убьет эту падлу!» – сказал кто-то в толпе.
– Не бей его, Эйзен. Я не просил об этом. Слышишь, что я сказал? – спросил Сэммлер.
Но брезентовая сумка с грузом уже обрушилась на негра с другой стороны. Замах был широкий и прицельно точный. Удар был сильнее первого, он сбил негра с ног. Тот не рухнул на асфальт. Он просто медленно опустился, будто решил полежать на улице. Кровь текла из рваных ран на его щеках. Тяжелый металл изрезал лицо даже сквозь брезент.
Эйзен уже снова вскидывал свое оружие, чтобы опустить его прямо на череп негра. Сэммлер схватил его за руку и оттащил в сторону.
– Ты убьешь его. Ты хочешь выбить из него мозги?
– Так вы же сами сказали, тесть!
Они препирались по-русски на глазах толпы.
– Вы же сказали, чтобы я что-нибудь сделал! Вы сказали, что вам надо идти. И что я должен что-то сделать. Вот я и сделал…
– Но я не говорил, чтобы ты добивал его этими проклятыми железками. Я вообще не просил тебя, чтобы ты его бил. Ты сумасшедший, Эйзен, совсем сумасшедший. С тебя станется убить его на месте.
Карманник сделал попытку приподняться на локтях. Сейчас его тело опиралось на полусогнутые руки. Кровь густым потоком стекала на асфальт.
– Я просто в ужасе! – сказал Сэммлер.
Эйзен, красивый, кудрявый, хотя и взмокший от пота, с той же улыбкой стоял, странно расставив свои беспалые ноги, и, казалось, забавлялся нелепой непоследовательностью Сэммлера. Он сказал:
– Такого человека нельзя ударить один раз. Уж если бить, так бить как следует. Иначе он убьет вас. Вы же знаете. Вы же воевали, как и я. Вы были в партизанском отряде. У вас был автомат. Что ж, вы не знаете, что ли? – Этот смех, эта логика! Он смеялся, рассуждая о сэммлеровской нелепости, и все повторял, уже заикаясь: – Если вы за – так за. Если вы против – так против. Да или нет? Отвечайте.
От этого рассуждения Сэммлер совсем упал духом.
– Где Фефер? – сказал он и оглянулся.
Фефер стоял, прижавшись лбом к обшивке автобуса, и постепенно приходил в себя. И без сомнения, играл на публику. Это представление было отвратительно Сэммлеру.
Будь они прокляты, все эти совпадения! – думал он. Будь они все прокляты, ведь Элия ждет его. И только Элию хотел он видеть. Только для Элии были у него слова. Для них для всех у него слов не было.
Потом он услышал, как кто-то спросил:
– А где же полиция?
– Заняты. Как всегда. На задании, выписывают где-нибудь квитанции. Эти говнюки. Всегда, когда надо, их нет.
– Ого, сколько крови! Надо вызвать «скорую помощь».
Тускло отсвечивали завитки волос на угольно-пористой голове негра, из которой все еще сочилась кровь, глаза его были закрыты. Но он явно хотел подняться на ноги. Все делал попытки встать.
Эйзен сказал Сэммлеру:
– Это тот самый, правда? Тот самый, о котором вы рассказывали, который преследовал вас? Который показал вам свою шишку?
– Уйди от меня, Эйзен!
– А что мне было делать?
– Уходи поскорее. Убирайся прочь отсюда. А то влипнешь в историю, – сказал Сэммлер. Он обратился к Феферу: – Что вы скажете теперь?
– Я поймал его на месте преступления. Пожалуйста, подождите минутку, он повредил мне горло.
– Ерунда, не разыгрывай передо мной умирающего. Вот этому человеку действительно плохо.
– Я клянусь, он пытался открыть сумочку, у меня есть два снимка.
– Два снимка, подумать только!
– Вы, кажется, сердитесь, сэр? Почему, собственно, вы на меня сердитесь?
И тут Сэммлер увидел полицейскую машину с вращающимся прожектором на крыше, оттуда лениво вышел полицейский и начал расталкивать толпу. Эмиль оттащил Сэммлера куда-то за автобус и сказал:
– Вам все это ни к чему. Нам надо спешить.
– Ну конечно.
Они перешли через улицу. Нельзя впутываться в эти дела с полицией. Его могут задержать на несколько часов. Ему вовсе не следовало заезжать домой. Надо было ехать прямо в больницу.
– Я бы хотел сесть впереди, рядом с вами, Эмиль.
– Конечно, пожалуйста, как вам угодно! Ого, как вас трясет! – Он помог Сэммлеру сесть в машину. У Эмиля у самого дрожали руки, а Сэммлера просто била лихорадка. Откуда-то снизу по ногам поднималась отвратительная слабость.
Могучий мотор заработал. Из кондиционера хлынула струя прохлады. И «роллс-ройс» влился в поток машин.
– В чем же там было дело?
– Хотел бы я знать, – сказал Сэммлер.
– А кто этот черный тип?
– Бедняга, понятия не имею, кто он такой.
– Да, ему пару раз здорово приложили!
– Эйзен – жестокий человек.
– Что у него там, в этой сумке?
– Куски металла. Я чувствую себя ответственным, Эмиль: ведь это я обратился к Эйзену за помощью, потому что мне так хотелось поскорее попасть к доктору Гранеру.
– Может, у этого парня крепкий череп. Наверное, вам не приходилось видеть, как бьет человек, который хочет убить. Хотите прилечь на заднем сиденье на десять минут? Я могу остановиться.
– Что, я очень плохо выгляжу? Нет-нет, Эмиль, не нужно. Я только закрою глаза.
Сэммлера душил гнев. Он просто ненавидел Эйзена из-за этого негра. Конечно, у негра мания величия. Но надо признать, есть в нем что-то царственное. Эта его одежда, эти темные очки, эти яркие цвета, эта варварски величественная манера. Вероятнее всего, он сумасшедший. Но сумасшедший, одержимый идеей аристократизма. И как Сэммлер сочувствовал ему, чего бы он не дал, чтобы предотвратить эти жестокие удары. Как красна, как густа была его кровь, и как ужасны эти древние, колючие металлические чурки! А Эйзен? Он, конечно, жертва войны, и не надо было забывать, что он тоже сумасшедший. И место ему в сумасшедшем доме. У него мания убийства. Если бы только, думал Сэммлер, Шула и Эйзен были чуточку менее сумасшедшими. Хоть чуточку. Жили бы они и дальше в Хайфе, эти двое чокнутых, в своей выбеленной известкой клетке, и играли бы в кассино. Потому что в перерывах между грандиозными спектаклями с воплями и мордобоем, приводившими в ужас соседей, они сразу же садились за карты. Так нет же! Эти люди имеют право считаться нормальными. Более того, они имеют право передвигаться в пространстве. У них есть паспорта, билеты. И вот пожалуйста – бедняга Эйзен прибывает в Америку со своими медальонами. Бедная, заблудшая душа, бедняга Эйзен с его собачьей улыбкой!
Сколько удовольствия от жизни они получают! Уоллес, Фефер, Эйзен, Анджела и даже Брук. Они так весело смеются! Дорогие братья, давайте все вместе будем людьми. Давайте погуляем на этой веселой ярмарке и все вместе пробежимся по забавной дорожке! Будем развлекать своих родных и близких. Охота за сокровищами, цирковые полеты, космические кражи, медальоны, парики, сари и бороды! Да это же все благотворительность, чистая благотворительность, учитывая нынешнее положение вещей и бессмысленную слепоту жизни. Страшно! Лучше бы не родиться! Невыносимо! Давайте же развлекать друг друга, пока мы живы!
– Я поставлю машину здесь и поднимусь вместе с вами, – сказал Эмиль. – Пусть меня штрафуют, если им охота.
– Доктор еще не вернулся? – спросил Эмиль.
– Видимо, нет. Анджела сидит в палате одна.
– Ну ладно. Если я вам буду нужен – я тут, у входа.
– Я уже выкуриваю по три пачки в день. Опять у меня кончились сигареты, Эмиль. Даже газету прочесть не могу – никак не сосредоточиться.
– Бенсон и Хеджес, да?
Когда он ушел, она сказала:
– Не люблю посылать пожилого человека с поручениями.
Сэммлер не ответил. Он держал свою шляпу в руках, не хотел класть ее на свежезастланную постель.
– Эмиль был в папиной шайке. Они очень привязаны друг к другу.
– Как дела?
– Если бы знать! Его увезли вниз делать анализы, но два часа – это так долго. Надеюсь, доктор Косби знает свое дело. Мне он не слишком нравится. На меня такие типы не действуют. Ведет себя так, как будто командует военной школой на Юге. Но я же не его кадет! Меня он муштровать не может. Грубый, холодный, отвратительный. Из тех красавчиков, которым невдомек, что женщинам они не нравятся. Садитесь на этот стул с прямой спинкой, дядя. Вам будет удобнее. Я хочу с вами поговорить.
Сэммлер уселся поудобнее и подальше от света, он не в силах был видеть окно, за которым не было ничего, кроме синего неба. Предстоял неприятный разговор. Он был так взбудоражен, что улавливал малейшие сигналы. Другая женщина горела бы как в лихорадке, Анджела же была бледна, как воск. Ее забавный хриплый голос, – вероятно, она подражала Талуле Бэнкхэд, – потерял всю свою забавность. Горло вздувалось, набухало, светло-коричневые брови, подрисованные вразлет, как крылья, все время поднимались. Время от времени она бросала на него молящий взгляд. При этом она явно была рассержена. Все давалось ей с трудом. Даже морщить лоб ей было трудно. Что-то в ней было нарушено. К атласной блузке с большим декольте она надела мини-юбку. Нет, Сэммлер ошибся, это была микро-юбка, просто зеленая полоска ткани, опоясывающая бедра. Крашенные под седину волосы туго стянуты назад, кожа великолепная (гормоны). На щеках поблескивают большие золотые серьги. Крупная полная женщина, одетая как девочка, зазывно играющая в ребенка, – а ее-то уж никак не примешь за мальчика! Сидя рядом с нею, Сэммлер отметил, что она не благоухает, как обычно, арабским мускусом. Сегодня от нее исходил ее собственный запах, очень сильный, солоноватый, напоминающий запах слез и морского прилива, запах ее женских соков. Слова Элии точно передавали производимое ею впечатление, он сказал: «Слишком много секса». Даже белая губная помада намекала на извращенность. Любопытно, это не отвращало Сэммлера. Он не чувствовал предубеждения против извращений, против избытка секса. Ничего он не чувствовал. Слишком позднее время дня. И слишком жарко. Другие, куда более искажающие жизнь силы поработали сегодня. Удар эйзеновских медальонов по черному лицу карманника еще жил в нем. Его собственные нервы просто и элементарно связали этот удар с тем ударом приклада, которым около тридцати лет назад выбили ему глаз. Это ощущение удара, падения – можно, оказывается, пережить все это вновь. Стоило ли переживать все это вновь? Он сидел и ждал, когда же наконец каталка Элии упруго толкнется в дверь палаты.
– Уоллес не появлялся? Он должен был приземлиться в Ньюарке.
– Не появлялся. Да, я должна ведь еще рассказать вам о моем братце. Когда вы его видели? Марго уже рассказала мне про трубы.
– Во плоти? Я видел его прошлой ночью. А сегодня утром я видел его в небе.
– А, так вы видели, как этот идиот барахтается в воздухе?
– А что, с ним что-нибудь случилось?
– Не беспокойтесь, он не ранен. Хотела бы, чтобы он хоть разок хорошенько трахнулся, но он прямо какой-то голливудский трюкач.
– Он что, попал в катастрофу?
– А что вы думали? Об этом уже передавали по радио. Он зацепился колесом за дом.
– О Господи! Ему пришлось прыгать с парашютом? Это был ваш дом?
– Он попал в катастрофу, когда приземлялся. Над каким-то городом в Вестчестере. Одному только Богу известно, почему этот урод должен болтаться где-то в небе, снося крыши с домов, когда у нас такие неприятности! Меня это просто сводит с ума!
– Неужели Элия слышал об этом по радио?
– Нет, он не слышал. Он уже был в лифте.
– Значит, Уоллес не ранен?
– Уоллес на седьмом небе от восторга. Ему должны наложить швы на щеке.
– Понятно. У него будет шрам. Все это ужасно.
– Вы слишком уж ему сочувствуете.
– Допускаю, что всякое сострадание утомительно. Но он всегда вызывает у меня это чувство.
– Да, да, это вполне в вашем духе. А по сути, моего маленького братца давно уже нужно куда-то упрятать. Запереть в психушку. Вы бы только послушали, что он лопотал в телефон!
– А, так ты с ним говорила?
– Сперва он попросил какого-то типа описать его великолепную посадку. А потом уже взял трубку сам. Это было восхитительно! Можно было подумать, что он добрался до Северного полюса на велосипеде! Вы знаете, на нас подадут в суд за поврежденный дом. Кроме того, он разбил самолет. Гражданская авиация забирает его летные права. Надо бы, чтобы они забрали и его самого. Но он был вне себя от восторга. Он спросил: «Не рассказать ли папе?»
– Не может быть!
– Представьте себе, – сказала Анджела. Она была в ярости. Она гневалась на всех – на доктора Косби, на Уоллеса, на Видика, на Хоррикера. С Сэммлером она была сегодня резка. Да и сам он был вне себя. Что за день! Этот изуродованный негр! Лужа крови. Но сейчас, от столкновения с ее сверхженственностью, он опять увидел все особенно ясно. Так, как увидел вдруг свирепо освещенную Риверсайд-драйв, когда разглядел в автобусе действия карманника. Вот так же точно он видел и сейчас. Видеть – какое это наслаждение. Ну еще бы! Высшее наслаждение. Солнце может сиять и давать счастье, но иногда оно освещает взбесившийся мир. Его даже пугала необычная живость и четкость всего, что он видел. Мягкий цвет лица Анджелы, ее хмуро сдвинутые брови – ах, какая это смесь изящества и вульгарности. А солнце в полную силу било в окно. Исполосованное стекло истекало светом, как медом. Это было похоже на огневой заслон нестерпимой яркости и сладости. Сэммлеру не нужна была эта яркость. Она обращалась против него, она слишком кружила голову, слишком волновала.
– Как я понимаю, вы с Элией все продолжаете обсуждать этот злополучный инцидент?
– Он ни за что не хочет забыть о нем. Это жестоко. Для нас обоих – для него и для меня. Но я не могу остановить его.
– А что тебе остается, кроме покорности? Сейчас важнее всего его спокойствие. И никаких препирательств быть не должно. Возможно, было бы правильно, если бы здесь появился юный мистер Хоррикер. Чтобы показать, что он не воспринимает все серьезно. А как он воспринимает это на самом деле?
– Говорит, что всерьез.
– Может быть, он тебя любит?
– Он? Бог его знает. Но я ни за что не стану просить его прийти. Это означает воспользоваться папиной болезнью.
– Но ты хочешь вернуть его?
– Хочу ли? Возможно. Я не уверена.
Был ли у нее кто-то новый на примете? Человеческие привязанности стали так легковесны; возможно, у нее наготове есть длинный список претендентов, которых она имеет в виду: одного она встретила в парке, когда прогуливала собаку, с другим поболтала в Музее современного искусства; один с пейсами, другой с большими чувственными глазами, третий с больным ребенком, четвертый с женой, страдающей рассеянным склерозом. На свете вполне достаточно людей, чтобы осуществить немыслимое множество вожделений и капризов. Все они всплывали из обрывков прошлых рассказов Анджелы. Он слушал и запоминал все: и тусклые факты, и художественные штрихи. Он не хотел слушать, но она желала рассказывать. Он не хотел ничего помнить, но не в состоянии был забыть. Анджела действительно красавица. Пожалуй, крупновата, но все же красавица, здоровая, молодая. У здоровых молодых женщин есть свои потребности. Эти ее ноги – ее ляжки, открытые взгляду почти доверху, до края зеленой набедренной повязки, – о да, она красавица! Хоррикер должен был страдать от сознания, что потерял ее. Сэммлер все еще думал об этом. Усталый, ошеломленный, отчаявшийся, он все еще думал. Не терял связи. Связи с реальной жизнью.
– Ведь Уортон не младенец. Он знал, на что шел, там, в Мексике, – сказала Анджела.
– Господи, я ничего не понимаю в этом. Вероятно, он читал эти книжки, которые ты давала мне, – Баттеля и других теоретиков: грех, боль и секс; похоть, преступление и желание; убийство и чувственное наслаждение. Меня это не слишком заинтересовало.
– Я знаю, эти вещи не в вашем вкусе. Но Уортон получил свое удовольствие с этой шлюшкой. Она ему понравилась. Больше, чем мне понравился тот мужик. Я бы никогда не стала с ним встречаться. А потом в самолете на Уортона ни с того ни с сего нашла ревность. И никак не может успокоиться.
– Я только думаю, что для спокойствия Элии было бы хорошо, если бы Хоррикер пришел сюда.
– Меня бесит, что Уортон разболтал все Видику, а Видик – папе.
– Мне трудно поверить, что мистер Видик обсуждает с Элией подобные вещи. Он во многих отношениях вполне приличный человек. Конечно, я не очень хорошо его знаю. Но он производит впечатление солидного адвоката. Никакой он не разбойник. У него такое большое мягкое лицо.
– Этот жирный сукин сын? Пусть он только мне попадется! Я все волосы ему выдеру!
– Не внушай себе, что против тебя кто-то строит козни. Ты можешь ошибаться. Элия – человек очень умный и понимает намеки с полуслова.
– А если не Видик – то кто же? Уоллес? Эмиль? Да все равно, кто бы ни намекнул, началось-то все с Уортона. Что он, не мог держать язык за зубами? Конечно, если он захочет навестить папу, я возражать не буду. Просто меня все это бесит и оскорбляет.
– У тебя и впрямь такой вид, будто тебя лихорадит. И я не хочу волновать тебя еще больше. Но уж раз твой отец так огорчен мексиканской историей, следовало ли тебе являться сюда в таком наряде?
– Вы имеете в виду мою юбку?
– Она слишком короткая. Может быть, я ничего не понимаю, но мне кажется, что неразумно приходить сюда в таком игривом наряде.
– Ну вот, теперь им не нравятся мои наряды! Вы говорите от его имени или от своего?
Сквозь стекло сочилось солнце – желтое, липкое. Это было невыносимо.
– Конечно, я знаю, что мои взгляды устарели – они принадлежат к больной эпохе, которая принесла такой вред нашей цивилизации. Ведь я прочел все твои книги. Мы с тобой уже обсуждали это. Но неужели ты не понимаешь, что твой отец расстроится и огорчится при виде этой соблазнительной кукольной юбочки?
– Это вы всерьез? О моей юбке? Я о ней и не думала! Я накинула что попало и выбежала из дому. Как странно, что вы обратили на это внимание! Сейчас все носят такие юбки Но мне не слишком нравится форма, в которой вы высказываете свое отношение.
– Без сомнения, мне следовало выразиться иначе. Я вовсе не хочу раздражать тебя. Но нам обоим есть о чем подумать.
– Вы правы. Мне и без этого тяжело. Я просто в отчаянии.
– Я не сомневаюсь в этом.
– Дядя, я просто не нахожу себе места.
– Так и должно быть. А как же иначе?
– О чем вы? Вы говорите так, будто что-то еще имеете в виду?
– Ты права. Я тоже не могу найти себе места из-за твоего отца. Он всегда был моим другом. У меня тоже болит за него сердце.
– Не стоит нам говорить обиняками, дядя.
– Не стоит. Он умирает.
– Вот это называется – высказаться! – Она всегда любила разговор без обиняков, может быть, это было чересчур прямолинейно?








