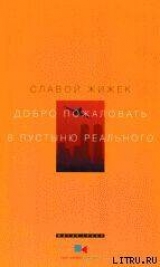
Текст книги "Добро пожаловать в пустыню Реального"
Автор книги: Славой Жижек
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Неожиданным предшественником этой паралегальной «биополитики», в которой административные меры постепенно замещают правление Закона, был правый авторитарный режим Альфредо Стреснера в Парагвае 1960-70-х годов, доведший логику исключительного положения до ее неповторимой абсурдной высоты. При Стреснере Парагвай был – относительно его конституционного порядка – «нормальной» парламентской демократией со всеми гарантированными свободами; однако после того, как Стреснер заявил о том, что все мы живем при чрезвычайном положении, поскольку идет всемирная борьба между свободой и коммунизмом, полное исполнение конституции было навсегда отложено и было объявлено чрезвычайное положение. Это чрезвычайное положение приостанавливалось на один день каждые четыре года, на день выборов, чтобы можно было провести свободные выборы, которые подтвердили бы правление Колорадской партии Стреснера при большинстве в 90 % голосов, полученных его коммунистическими противниками… Парадокс в том, что чрезвычайное положение было нормальным состоянием, тогда как «нормальная» демократическая свобода была кратким предписанным исключением… Не проболтался ли этот странный режим раньше времени о наиболее радикальных последствиях тенденции, ясно различимой в наших либерально-демократических обществах после 11 сентября? Разве не стало сегодня риторикой то, что глобальное чрезвычайное положение в борьбе против терроризма легитимирует все более и более широкие приостановки законных и других прав? Зловещим в недавнем заявлении Джона Эшкрофта о том, что «террористы используют американскую свободу как оружие против нас», является, конечно, явно подразумеваемый вывод: итак, чтобы защитить «нас», мы должны ограничить наши свободы… Многочисленные крайне сомнительные заявления высших руководителей Америки, особенно Дональда Рамсфельда и Джона Эшкрофта, а также взрывное проявление «американского патриотизма» после 11 сентября (флаги повсюду и т. д.) – все это точно указывает на логику чрезвычайного положения: правление закона потенциально приостановлено, Государству нужно дать возможность заявить о своей верховной власти без «избыточных» законных ограничений, поскольку президент Буш сразу же после 11 сентября сказал, что Америка находится в состоянии войны. Проблема в том, что, строго говоря, Америка явно не находится в состоянии войны, по крайней мере, не в старом традиционном смысле слова (для подавляющего большинства продолжается повседневная жизнь, а война остается делом исключительно государственных органов): таким образом, само различие между состоянием войны и состоянием мира размыто, мы вступаем во время, когда само состояние мира одновременно может быть чрезвычайным положением. Такие парадоксы также дают ключ к тому, каким образом две логики чрезвычайного положения соотносятся друг с другом: сегодняшнее либерально-тоталитарное чрезвычайное положение «войны с террором» и подлинно революционное чрезвычайное положение, впервые ясно сформулированное Павлом, когда он говорил о неожиданном приближении «конца времен»? Ответ ясен: когда государственная институция объявляет чрезвычайное положение, она поступает так, исходя из отчаянной стратегии по избеганию подлинного чрезвычайного положения и возвращению к «нормальному ходу вещей». Вспомним характерную черту всех реакционных провозглашений «чрезвычайного положения»: все они были направлены против народных волнений («беспорядков») и подавались как стремление восстановить норму. В Аргентине, Бразилии, Греции, Чили, Турции военные объявляли чрезвычайное положение для того, чтобы обуздать «хаос» всеобъемлющей политизации: «Это безумие нужно остановить, люди должны вернуться к своей повседневной работе, они должны продолжать трудиться!» Короче говоря, реакционные провозглашения чрезвычайного положение – это отчаянная защита от самого подлинного чрезвычайного положения…
Точно так же следует уметь распознавать, что же действительно является новым в списке из семи государств, рассматриваемых Соединенными Штатами в качестве потенциальных целей при нанесении удара ядерным оружием (не только Ирак, Иран и Северная Корея, но так же Китай и Россия): проблематичным является не список как таковой, но принцип, лежащий в его основе – а именно отказ от золотого правила конфронтации «холодной войны», согласно которому сверхдержавы публично заявляли о том, что ни при каких условиях они не будут применять ядерное оружие первыми – применение ядерного оружия осталось угрозой безумия[!В тексте игра слов: MADness (mutually assured destruction). – Прим. перев.!] (гарантированного взаимного уничтожения), которая, как это ни парадоксально, гарантировала, что конфликт не вырвется за определенные рамки. Теперь же Соединенные Штаты отказываются от этого обета и заявляют о своей готовности первыми применить ядерное оружие в качестве элемента войны против террора, это стирание разрыва между обычной и ядерной войной, то есть постулирование применения ядерного оружия как элемента «стандартной» войны. Возникает соблазн рассмотреть это в кантианских философских терминах: из «трансцендентального» (даже ноуменального) оружия, угроза которого накладывала ограничения на «эмпирическую» войну, применение ядерного оружия теперь превращено просто в еще один эмпирический «патологический» элемент войны.
Другой аспект того же изменения: в феврале 2002 года был анонсирован – и вскоре отложен в долгий ящик – план создания «Управления стратегического влияния», среди задач которого было прописано распространение дезинформации в иностранных средствах массовой информации для пропаганды образа Соединенных Штатов в мире. Проблема с этим управлением не просто в открытом допущении лжи; это та же проблема, что и в случае с известным утверждением: «Если и есть что-то худшее, чем лгущий человек, то это человек, который не способен ответить за свою ложь!» (Это имеет отношение к реакции женщины на своего любовника, который хотел иметь все формы секса, кроме прямого проникновения, так чтобы он не лгал своей жене, когда утверждал, что не вступал в половые отношения с другой женщиной – короче говоря, речь идет о Клинтоне. Женщина совершенно справедливо утверждала, что в таких обстоятельствах прямая ложь – отрицание половых отношений перед женой – было бы значительно честнее избранной стратегии лжи под видом правды). Не удивительно, в таком случае, что план вскоре отправили в долгий ящик: правительственное учреждение, открыто заявляющее о том, что одна из его целей – распространение неправды, обречено на провал. Конечно, это означает, что официальное распространение лжи продолжится – идея правительственного учреждения непосредственно предназначенного для лжи была в известном смысле все-таки слишком честной – она должна была быть отброшена именно для того, чтобы существовала возможность действенного распространения лжи.
Урок, который нужно взять здесь у Карла Шмитта, состоит в том, что деление друг/враг никогда не бывает простой констатацией фактического различия: враг по определению всегда – по крайней мере, до определенного момента – невидим, он выглядит как один из нас, сразу его не узнать; вот почему важной проблемой и задачей политической борьбы является предоставление/конструирование образа врага. (Этим также объясняется, почему евреи являются врагом par excellence: не только потому, что они скрывают свой подлинный образ или характер, – за их обманчивой наружностью, в конечном счете, нет ничего. Евреям не хватает «внутренней формы», присущей любой настоящей национальной идентичности: они – это не-нация среди наций, их национальная субстанция как раз и состоит в недостатке субстанции, в бесконечной аморфной пластичности…) Короче говоря, «опознание врага» – это всегда перформативная процедура, которая, в отличие от обманчивой видимости, выявляет/конструирует «истинное лицо» врага. Шмитт ссылался здесь на кантианскую категорию Einbildungskraft, трансцендентальной силы воображения: чтобы опознать врага, не достаточно подвести концептуальную категоризацию под пред-существующие категории; следует «схематизировать» логическую фигуру Врага, наделить ее конкретными ощутимыми особенностями, которые сделают ее подходящей мишенью для ненависти и борьбы.
После краха в 1990 году коммунистических государств, которые обеспечивали врага «холодной войны», западная сила воображения вступила в десятилетие неразберихи и неэффективности, занимаясь поиском подходящих «схематизации» фигуры Врага, постепенно переходя от хозяев наркокартелей к последовательности военных лидеров так называемых «стран изгоев» (Саддам, Норьега, Айдид, Милошевич…), не задерживаясь на каком-то одном центральном образе; только с 11 сентября это воображение заново подтвердило свою квалификацию, сконструировав образ бен Ладена, исламского фундаменталиста и Аль-Каиды, ее «невидимой» сети. Это означает к тому же, что наши плюралистические и терпимые либеральные демократии остаются глубоко «шмиттовскими»: они продолжают основываться на политической Einbildungskraft, чтобы запастись соответствующей фигурой, которая сделает видимым невидимого Врага. Не приостанавливая «бинарной» логики Друга/Врага, тот факт, что этот Враг определяется как фундаменталистский противник плюралистической толерантности, только добавляет к ней рефлексивный выверт. Конечно, цена за эту «ренормализацию» такова, что фигура Врага претерпевает фундаментальную перемену: это больше не Империя Зла, то есть иная территориальная сущность (государство или группа государств), а нелегальная, секретная, почти виртуальная всемирная сеть, в которой беззаконие (преступность) совпадает с «фундаменталистским» этико-религиозным фанатизмом – и поскольку эта сущность не обладает никаким позитивным легальным статусом, такая новая конфигурация влечет за собой конец международного права, которое – по крайней мере, с наступлением современности (modernity) – регулировало взаимоотношения между государствами.
Когда Враг служит как «точка пристежки» (лаканианская point de capiton) нашего идеологического пространства, то это делается для того, чтобы объединить множество актуальных политических противников с тем, против кого мы ведем борьбу. Так, сталинизм в тридцатых сконструировал лозунг «империалистического монополистического капитала», чтобы доказать, что фашисты и социал-демократы («социал-фашисты») – «близнецы-братья», «левая и правая рука монополистического капитала». Так, сам нацизм сконструировал «плутократическо-большевистский заговор» как общего агента, угрожающего благополучию немецкой нации. Capitonnage – это операция, посредством которой мы идентифицируем-конструируем одну-единственную силу, которая «нажимает на тайные пружины» за спиной множества актуальных противников. Не происходит ли то же самое в случае с сегодняшней «войной с террором»? Разве фигура террористического Врага не является также сгущением двух противоположных фигур, реакционного «фундаменталиста» и левого сопротивленца? Название статьи Брюса Бэркотта в «Нью-Йорк тайме мэгэзин» от 7 апреля 2002 года (воскресенье) – «Цвет отечественного терроризма – зеленый» – говорит само за себя: не правые фундаменталисты несут ответственность за взрыв в Оклахоме и, по всей вероятности, за панику с сибирской язвой, а зеленые, которые не убили ни одного человека.
По-настоящему зловещая черта, лежащая в основе всех этих феноменов, – это метафорическая универсализация означающего «террор»: основная идея телевизионной кампании против наркотиков весной 2002 года в Америке – «Когда вы покупаете наркотики, вы снабжаете деньгами террористов!» Террор, таким образом, исподволь возведен в скрытый универсальный эквивалент всех социальных зол.
5. ОТ HOMO SACER К БЛИЖНЕМУ
Как часто подчеркивал Фрейд, ключевая особенность сновидений, в которых спящий предстает обнаженным перед толпой, особенность, провоцирующая тревогу, заключается в таинственном явлении, что моя нагота, по-видимому, никого не беспокоит: люди проходят мимо, как будто все в порядке… Не похоже ли это на кошмарную сцену повседневного расистского насилия, свидетелем которой я был в Берлине в 1992 году? Сначала мне показалось, что на противоположной стороне улицы немец и вьетнамец просто играли в какую-то дружескую игру, исполняя друг перед другом замысловатый танец. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что я стал очевидцем реального случая расистской агрессии: куда бы ни направлялся растерянный и испуганный вьетнамец, немец вставал на его пути, давая ему таким образом понять, что здесь, в Берлине, ему не место, для него нет дороги. Причина моего первоначального непонимания была двоякой: начнем с того, что немец совершал агрессию странным зашифрованным способом, соблюдая определенные границы, не переходя к прямому физическому нападению на вьетнамца; по существу, он даже ни разу не прикоснулся к нему, он только преграждал ему дорогу. Второй причиной, конечно, был тот факт, что люди, проходившие мимо (событие имело место на оживленной улице, а не в темном закоулке!), просто игнорировали – или, скорее, делали вид, что игнорируют, – событие, поспешно отводя глаза в сторону, словно ничего особенного не происходило. Разве различие между этим «мягким» насилием и брутальной физической атакой неонацистских бритоголовых – это все, что осталось от различия между цивилизацией и варварством? Не является ли эта «мягкая» агрессия в известном смысле еще худшей? Именно она позволила прохожим игнорировать ее и признать ее обычным событием, что было бы невозможно в случае прямого брутального физического нападения. И возникает соблазн утверждать, что гомологичное неведение, своего рода этическое epoche, мобилизуется, когда мы начинаем обращаться с другим как с homo sacer. Как нам тогда выйти из этого затруднения?
В январе-феврале 2002 года в Израиле произошло эпохальное событие: организованный отказ сотен резервистов служить на оккупированных территориях. Эти отказники (как они говорят) не являются простыми «пацифистами»: в своих обращениях к общественности они подчеркивали, что они выполнили свой долг в борьбе за Израиль во время войн против арабских государств, за что некоторые из них получили высокие награды. Они просто заявляют (и всегда есть что-то простое в этическом акте[! Громкие фразы, сыгравшие решающую историческую роль, как правило, состоят из тавтологической банальности – от Розы Люксембург («свобода – это всегда свобода для инакомыслящих») до известного предупреждения Михаила Горбачева к тем, кто были не готовы поддержать его перестройку: «Не следует приходить слишком поздно, иначе будешь наказан жизнью». Таким образом, значение имеет не содержание этих фраз, а исключительно их структурная роль – если бы утверждение Люксембург было сделано либеральным критиком большевистской революции, оно давно бы стерлось из памяти…!]), что они не могут признать борьбу за «господство, изгнание, подавление и унижение целого народа». Их заявления документально подтверждаются подробными описаниями зверств Израильских сил обороны – от убийств детей до разрушения собственности палестинцев. Вот что сообщает Гил Немеш о «кошмарной реальности на территориях» на веб-сайте протестующих (seruv.org.il):
«Мои друзья заставляют пожилого человека опозорить себя, причиняют боль детям, оскорбляют людей для забавы и для того, чтобы позднее хвастаться этим, смеяться над этим страшным зверством. Я не уверен, что по-прежнему хочу называть их своими друзьями». Они «позволяют себе избавиться от своей человечности не из чистой злобы, а потому, что иметь дело с этим как-то по-иному слишком трудно».
Некая реальность стала, таким образом, постижимой: реальность сотен мелких – и не таких уж мелких – повседневных унижений, которым подвергаются палестинцы – как палестинцы, и даже израильские арабы (официально полноправные граждане Израиля) пользуются меньшими правами при распределении воды, в реальных земельных сделках и т. д. Но более важным, чем это, является систематическая «микрополитика» психологических унижений: по существу, с палестинцами обращаются как с плохими детьми, которых можно вернуть к честной жизни только при помощи строгой дисциплины и наказаний. Рассмотрим только смехотворную ситуацию, когда бомбят Палестинские силы безопасности и в то же самое время требуют от них, чтобы они применяли суровые меры к террористам Хамаса. Как можно надеяться, что они сохранят минимум авторитета в глазах палестинского населения, если их ежедневно унижают, нападая на них и к тому же ожидая, что они будут запросто терпеть эти нападения – если же они обороняются и сопротивляются, их вновь объявляют террористами? К концу марта 2002 года эта ситуация достигла своего смехотворного апогея: мы имели Арафата, удерживаемого и изолированного в трех комнатах в своей резиденции в Рамаллахе, и в то же время призывающего остановить террор, как если бы он обладал полной властью над палестинцами… Короче говоря, разве мы не сталкиваемся в этом израильском обращении с палестинскими властями (применяя в их отношении военную силу и, одновременно, требуя, чтобы они подавляли террористов среди себя самих) со своеобразным прагматическим парадоксом, в котором явное послание (приказ остановить террор) разрушается скрытым посланием, содержащимся в самом способе передачи явного послания? Разве не очевидно, что палестинские власти, таким образом, ставятся в непригодную для жизни позицию: расправляясь со своими собственными людьми и попадая под огонь израильтян? Разве истинное имплицитное указание не является в значительной степени противоположным: мы требуем от вас сопротивления нам, чтобы мы могли вас уничтожить? Иными словами, что, если истинная цель данного израильского вторжения на палестинские территории состоит не в том, чтобы предотвратить будущие террористические атаки, а в том, чтобы действительно «сжечь мосты», поднять ненависть до такого уровня, который покажет, что в обозримом будущем мирное решение невозможно?
Нелепость американской точки зрения в полной мере отразилась в телевизионном комментарии Ньюта Гингрича 1 апреля 2002 года: «Так как Арафат в действительности является главой террористической организации, мы должны будем свергнуть его и заменить новым демократическим лидером, который будет готов иметь дело с государством Израиль». Это вовсе не пустой парадокс, но часть реальности: Хамид Карзай в Афганистане уже является «демократическим лидером, навязанным народу извне». Когда Хамид Карзай, «временный глава» Афганистана, введенный в должность американцами в ноябре 2001 года, появляется в наших средствах массовой информации, он всегда облачен в одно и то же одеяние, которое не может не показаться привлекательной модернизированной версией традиционного афганского наряда (шерстяная шапка и пуловер под более современным пальто и т. д.) – сама его фигура, таким образом, по-видимому, иллюстрирует его миссию, соединение модернизации и наилучших старых афганских традиций… Неудивительно, ведь этот наряд был разработан лучшими дизайнерами Запада! По существу, Карзай – это лучшая метафора для статуса самого Афганистана сегодня. Подлинная проблема, конечно, такова: что, если попросту нет никакого «истинно демократического» (в американском смысле слова, разумеется) палестинского молчаливого большинства? Что, если «демократически избранный новый лидер» оказался бы настроен еще более антиизраильски, поскольку Израиль систематически применяет логику коллективной ответственности и наказания, полностью уничтожая дома семей предполагаемых террористов? Суть не в жестоком деспотическом обращении как таковом, а, скорее, в том, что палестинцы на оккупированных территориях сводятся к статусу Лото sacer, объекта дисциплинарных мер и/или даже гуманитарной помощи, а не полноправных граждан. И отказники совершили переход от homo sacer к «ближнему»: они обращаются с палестинцами не как с «равными полноправными гражданами», а как с ближними в строгом иудео-христианском смысле слова[!Здесь следует обратить внимание на разницу между этой иудео-христианской любовью к ближнему и, скажем, буддистским состраданием к страданию: это сострадание относится не к «ближнему» в смысле беспокояще-провоцирующей бездны желания Другого, а, в конечном счете, к страданию, которое у нас, людей, общее с животными (вот почему, согласно доктрине реинкарнации, человек может переродиться в животном).!]. И действительно, в этом и состоит сегодня трудное этическое испытание для израильтян: «Возлюби ближнего!» означает «Возлюби палестинца!» (который u есть их ближний par excellence) или же не значит вообще ничего.
Нельзя умиляться даже тогда, когда сталкиваешься с этим отказом, подчеркнуто замалчиваемым крупными средствами массовой информации: такой жест прочерчивания линии, отказа от участия, – это аутентичный этический акт. Именно здесь, в таких актах, как выразился бы Павел, действительно нет больше ни иудея, ни палестинца, ни полноправного члена государства, ни Лото sacer… Здесь следует быть храбрым платоником: это «Нет!» означает удивительный миг, когда вечная Справедливость на мгновение показывается во временной сфере эмпирической реальности. Осознание мгновений, подобных этому, есть лучшее противоядие от антисемитского соблазна, столь часто отмечаемого у критиков израильской политики. Хрупкость нынешней глобальной констелляции лучше всего выражается посредством простых мысленных экспериментов: если бы мы узнали об угрозе жизни на Земле (скажем, о том, что через восемь месяцев гигантский астероид наверняка столкнется с Землей), то все наши наиболее страстные идеологическо-политические усилия внезапно сделались бы ничтожными и смехотворными… С другой стороны, если (возможно, это более реалистическое ожидание) должна была бы произойти неслыханная террористическая атака (скажем, ядерное разрушение Нью-Йорка и Вашингтона или отравление миллионов людей химическим оружием), как это изменило бы все наше восприятие ситуации? Ответ не так уж прост, как может показаться. Однако даже с точки зрения такой глобальной катастрофы «невозможные» этические акты не показались бы смехотворными и ничтожными. Особенно сейчас, весной 2002 года, когда круг насилия между израильтянами и палестинцами постепенно стягивается в своей самоускоряющейся динамике, очевидно невосприимчивой даже к американской интервенции, только сверхъестественный акт сможет разорвать этот круг.
Наш долг сегодня – отслеживать такие акты, такие этические мгновения. Худший грех – наполнить такие акты фальшивой универсальностью «никто не чист». Всегда можно играть в эту игру, предлагающую игроку двойную выгоду: сохранение морального превосходства над теми, кто («в конце концов, все-таки») вовлечены в борьбу, и способность уклониться от трудной задачи собственного участия, анализа констелляции и занятия стороны. В последние годы антифашистский пакт после второй мировой войны как бы медленно надламывается: от историков-ревизионистов до новых правых популистов, табу рушатся… Как это ни парадоксально, те, кто подрывают этот пакт, обращаются к самой либеральной унифицирующей логике виктимизации: конечно, были жертвы фашизма, но как насчет других жертв изгнаний после второй мировой войны? Как насчет немцев, изгнанных из своих домов в Чехословакии в 1945 году? Разве у них нет права на (финансовую) компенсацию?[! И не относится ли это и к кампаниям против абортов? Разве в них нет ничего общего с либеральной логикой глобальной виктимизации, распространяемой также на нерожденных?!] Это странное сцепление денег и виктимизации – одна из форм (возможно, даже «истина») денежного фетишизма сегодня: хотя подчеркивается, что холокост был абсолютным преступлением, все договариваются о соответствующих финансовых компенсациях за него… Ключевой деталью этого ревизионизма, таким образом, является релятивизация вины во второй мировой войне: тип аргументации – «Разве союзники не проводили ненужных бомбардировок Дрездена?» Последний наиболее вопиющий пример касается пост-югославской войны. В Боснии в начале девяностых не все участники играли в одну и ту же националистическую игру – в определенный момент, по крайней мере, сараевское правительство, выступавшее против других этнических группировок за многоэтничную Боснию и за наследство титовской Югославии, занимало такую этическую позицию против тех, кто боролись за свое этническое доминирование. Истина ситуации была, таким образом, не в том, что «Милошевич, Туджман, Изетбегович – в конце концов, все одно» – такая нивелировка, допускающая универсальное освобождающее суждение с безопасной дистанции, является формой этического предательства. Грустно наблюдать, что даже Тарик Али в своем выдающемся анализе интервенции НАТО в Югославии попадается в эту ловушку:
«Утверждение, что во всем виноват Милошевич, является односторонним и ошибочным, предоставляющим индульгенцию тем словенским, хорватским и западным политикам, которые позволили ему добиться успеха. Можно утверждать, например, что именно словенский эгоизм, бросивший боснийцев и албанцев, равно как и ненационалистических сербов и хорватов, на растерзание волкам, был решающим фактором, давшим начало всем бедам дезинтеграции»[!Tariq Ali, «Springtime for NATO», New Left Review 234 (March-April 1999), p. 70.!].
Безусловно, верно, что основная ответственность других за успех Милошевича состоит в том, что они «позволили ему добиться успеха», в их готовности признать его как «фактор стабильности» и терпимо относиться к его «эксцессам» в надежде на то, что дела с ним пойдут замечательно; и верно, что такая позиция была ясно заметна среди словенских, хорватских и западных политиков (например, конечно, есть все основания предполагать, что относительно ровный путь к словенской независимости связан с молчаливым неформальным соглашением между словенским руководством и Милошевичем – его проект «великой Сербии» не нуждался в Словении). Однако к этому следует добавить еще два обстоятельства. Во-первых, данная аргументация предполагает, что ответственность других имеет в корне отличный характер, чем ответственность Милошевича: суть не в том, что «они все одинаково виновны, участвуя в националистическом безумии», – другие виновны в том, что они не были достаточно жесткими в отношении Милошевича, что они не противостояли ему безоговорочно любой ценой. Во-вторых, эта аргументация упускает, что тот же самый упрек в «эгоизме» может быть применен ко всем участникам, включая мусульман, главных жертв (первого этапа) войны: когда Словения провозгласила независимость, боснийское руководство открыто поддержало интервенцию югославской армии в Словению вместо того, чтобы отважиться на конфронтацию на начальной стадии, и тем самым способствовало своей более поздней печальной судьбе. Так что мусульманская стратегия на первом году конфликта также не обошлась без оппортунизма: ее скрытая аргументация была такой – «пусть словенцы, хорваты и сербы проливают кровь друг друга до изнеможения, чтобы после их конфликта независимая Босния обошлась нам недорого»… (Ирония югославско-хорватской войны в том, что полковник Ариф Дудакович, легендарный боснийский командир, который успешно оборонял осажденный район Бихача от боснийской сербской армии, двумя годами ранее командовал подразделениями югославской армии, осаждавшими хорватский прибрежный город Задар!)
Есть своеобразная идеальная справедливость в том факте, что Запад, в конце концов, вмешался в Косово – не нужно забывать, что именно там все это началось с восхождением к власти Милошевича: это восхождение легитимировалось обещанием улучшить непривилегированное положение Сербии в составе Югославской федерации, особенно в вопросе албанского «сепаратизма». Албанцы были первой мишенью Милошевича; позднее он перенес свой гнев на другие югославские республики (Словению, Хорватию, Боснию) до тех пор, пока, в конце концов, очаг конфликта не вернулся в Косово – как в замкнутом круге Судьбы, стрела вернулась к тому, кто выпустил ее, открыв путь призраку этнических страстей. Важный пункт, о котором стоит помнить: Югославия начала распадаться не тогда, когда словенская «сецессия» вызвала эффект домино (сначала Хорватия, затем Босния, Македония…); уже во время конституционной реформы Милошевича в 1987 году, лишившей Косово и Воеводину их ограниченной автономии, хрупкое равновесие, на котором покоилась Югославия, было непоправимо нарушено. С этого момента Югославия продолжала существовать только потому, что она еще не заметила, что уже была мертва – подобно пресловутому коту в мультфильмах, ступающему за край пропасти, плывущему по воздуху и падающему только тогда, когда он узнает, что под его ногами нет никакой земли… С момента захвата власти в Сербии Милошевичем, единственным реальным шансом для Югославии выжить было изобретение ее формулы заново: или Югославия с доминированием сербов, или некоторая форма радикальной децентрализации – от свободной конфедерации до полного суверенитета ее членов.
Однако существует более важная проблема, которую следует здесь рассмотреть: странная деталь в цитате из Тарика Али, которая не может не бросаться в глаза, – это неожиданное обращение за помощью (посреди политического анализа) к психологической категории: «словенский эгоизм» – зачем понадобилась ссылка, столь очевидно выпадающая из общего ряда? На каком основании можно утверждать, что сербы, мусульмане и хорваты действовали «менее эгоистично» в процессе распада Югославии? Основная посылка здесь в том, что словенцы, когда они увидели (югославский) дом разваливающимся, «эгоистично» ухватились за возможность и бежали вместо того, чтобы… – что? Также героически броситься к волкам? Словенцам, таким образом, вменяют в вину начало всего, запуск процесса дезинтеграции (они первыми покинули Югославию) и, наконец, то, что они смогли бежать, не получив по заслугам, не понеся серьезного ущерба. За таким пониманием стоит целый набор стандартных левых предрассудков и догм: тайная вера в жизнеспособность югославского самоуправленческого социализма, представление о том, что малые нации, вроде Словении (или Хорватии), не способны по-настоящему функционировать как современные демократии и с необходимостью регрессируют к протофашистскому «герметичному» сообществу (в полную противоположность Сербии, чьи потенциальные возможности к современному демократическому государству никогда не ставились под сомнение).








