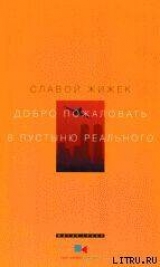
Текст книги "Добро пожаловать в пустыню Реального"
Автор книги: Славой Жижек
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Тот факт, что атаки 11 сентября были материалом социальных фантазмов задолго до того, как они произошли в действительности, представляет собой еще один случай искаженной логики грез (dreams): легко объяснить, почему малоимущие люди во всем мире мечтают стать американцами, но о чем мечтают обеспеченные американцы, скованные (immobilized) своим богатством? О глобальной катастрофе, которая уничтожила бы их. Почему? Этим и занимается психоанализ: объяснением того, почему нас, живущих благополучно, так часто посещают кошмарные видения катастроф. Данный парадокс также указывает на то, как нам следует понимать лакановское понятие «преодоления фантазма» в качестве завершающего момента психоаналитического лечения. Это понятие, кажется, в полной мере соответствует представлению здравого смысла о том, чем должен заниматься психоанализ: разумеется, он должен освободить нас от власти идиосинкратических фантазмов и дать нам возможность смотреть в лицо реальности, какая она есть на самом деле! Однако именно этого и не имел в виду Лакан – он стремился как раз к обратному. В нашем повседневном существовании мы погружены в «реальность» (структурируемую/поддерживаемую фантазмом), и это погружение нарушается симптомами, свидетельствующими о том факте, что другой вытесненный уровень нашей души сопротивляется этому погружению. «Преодолеть фантазм», следовательно, парадоксальным образом означает полное отождествление себя с фантазмом – а именно с фантазмом, который структурирует избыток, сопротивляющийся нашему погружению в повседневную реальность, или, цитируя сжатую формулировку Ричарда Бутби:
«"Преодоление фантазма", таким образом, означает не то, что субъект почему-то откажется от связи с причудливыми капризами и приспособится к прагматической «реальности», но совершенно противоположное: субъект подчиняется тому воздействию символической нехватки, которая обнаруживает границы повседневной реальности. Преодолеть фантазм в лаканианском смысле – значит быть связанным с фантазмом сильнее, чем когда-либо, в смысле вступления в более близкие отношения с тем реальным ядром фантазма, которое превосходит отображение»[!Richard Boothby, Freud as Philosopher, New York: Routledge 2001, p. 275–276.!].
Бутби справедливо подчеркивает, что структура фантазма подобна Янусу: фантазм является одновременно успокаивающим, обезоруживающим (предлагая воображаемый сценарий, который дает нам возможность вынести пропасть желания Другого) и подрывающим, беспокоящим, неусвояемым нашей реальностью. Идеолого-политическое измерение такого понятия «преодоления фантазма» наиболее ярко выразилось в уникальной роли рок-группы «Top lista nadrealista» («Список лучших сюрреалистов»), игравшей во время боснийской войны в осажденном Сараево: их иронические перформансы, которые посреди войны и голода высмеивали тяжелое положение населения Сараево, приобретали культовый статус не только в контркультуре, но и среди жителей Сараево вообще (еженедельное теле-шоу группы шло всю войну и было чрезвычайно популярно). Вместо того чтобы горевать о трагической судьбе боснийцев, они дерзко мобилизовали все клише о «тупых боснийцах», которые были распространены в Югославии, и полностью отождествили себя с ними. Суть, таким образом, в том, что тропа подлинной солидарности проходит через прямую конфронтацию с непристойными расистскими фантазмами, циркулировавшими в символическом пространстве Боснии, через шутливое отождествление с ними, а не через опровержение этих непристойностей от имени «тех людей, какие они есть на самом деле».
Диалектику видимости и Реального нельзя свести к тому элементарному факту, что виртуализация нашей повседневной жизни, впечатление, что мы все больше и больше живем в искусственно сконструированной вселенной, вызывает непреодолимую потребность «вернуться к Реальному», заново обрести устойчивую основу в некой «реальной действительности». Реальное, которое возвращается, обладает статусом (новой) видимости: именно потому, что оно является реальным, то есть из-за его травматического/избыточного характера, мы не можем включить его в (то, что мы переживаем как) нашу реальность, и поэтому вынуждены переживать его как кошмарное видение. Вот почему образ разрушающегося Всемирного торгового центра был столь пленительным: образ, вид, «эффект», который в то же самое время освободил «саму вещь». Этот «эффект Реального» – вовсе не то же самое, что в 60-х Ролан Барт назвал l'effet du réel: это, скорее, полная его противоположность, l'effet de l'irréel. То есть, в отличие от бартовского effet du réel, в котором текст заставляет нас принять за «реальное» результат вымысла, здесь Реальное для того, чтобы оно могло существовать, должно восприниматься как кошмарный ирреальный фантом. Обычно мы говорим, что нельзя принимать вымысел за реальность – вспомним постмодернистскую догму, согласно которой «реальность» – это дискурсивный продукт, символический вымысел, ошибочно принимаемый нами за автономную материальную сущность. Психоанализ учит обратному: нельзя принимать реальность за вымысел – нужно уметь различать в том, что мы переживаем как вымысел, твердое ядро Реального, которое мы сможем вынести, только если выдумаем его. Короче говоря, следует понять, какая часть реальности «трансфункционализирована» посредством фантазии, чтобы, хотя она и является частью реальности, она воспринималась как вымысел. Гораздо труднее, чем осудить/разоблачить (то, что выглядит как) реальность как вымысел, распознать в «реальной» действительности элемент вымысла. (Это, разумеется, возвращает нас к старому лаканианскому представлению о том, что, хотя животные могут обманывать, выдавая ложь за правду, только человек (существо, обитающее в символическом пространстве) может обманывать, выдавая истину за ложь). И такое понимание также позволяет нам вернуться к примеру с каттерами: подлинная противоположность Реального – реальность; в таком случае, что если они действительно уходят от реальности, когда наносят себе порезы, что если это не просто ощущение нереальности, искусственной виртуальности нашего жизненного мира, но само Реальное, которое выходит наружу в виде неуправляемых галлюцинаций, начинающих мучить нас, как только мы теряем связь с реальностью.
По этой причине подлинная альтернатива в отношении исторических травм располагается не в промежутке между припоминанием или забыванием их: травмы, которые мы не готовы или не способны припомнить, все сильнее преследуют нас. Поэтому следует признать парадокс: чтобы действительно забыть событие, его для начала нужно хорошенько припомнить. Чтобы разъяснить этот парадокс, следует принять во внимание, что противоположностью существования (existence) является не несуществование (inexistence), a упорство (insistence): то, что не существует, продолжает упорствовать, борясь за существование (первым, кто озвучил это противопоставление, был, конечно, Шеллинг, когда в своих «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы» ввел различие между сущностью и основой существования). Когда я упускаю решающую этическую возможность и не делаю шага, который бы «все изменил», само небытие того, что я должен был сделать, всегда будет преследовать меня: хотя то, чего я не сделал, не существует, его призрак продолжает упорствовать. В выдающемся толковании «Тезисов по философии истории»[!Eric Santner, «Miracles Happen: Benjamin, Rosenzweig, and the Limits of the Enlightenment» (неопубликованный доклад, 2001)!] Вальтера Беньямина Эрик Сантнер развивает идею Вальтера Беньямина о том, что современное революционное вмешательство повторяет/возвращает прошлые неудачные попытки: «симптомы» – следы прошлого, которые ретроактивно возвращаются посредством «чуда» революционного вмешательства, – являются «не столько забытыми деяниями, сколько забытой неспособностью действовать, неспособностью приостановить силу социальной связи, препятствующей действиям солидарности с «другими» общества»:
«Симптомы выражают не только прошлые неудачные революционные попытки, но и – более скромно – прошлую неспособность откликнуться на призывы к действию или даже сочувствие по отношению к тем, чьи страдания в некотором смысле связаны с формой жизни, частью которой они являются. Они удерживают место чего-то, что находится здесь, что упорствует в нашей жизни, хотя никогда и не достигает полной онтологической плотности. Симптомы, таким образом, в некотором смысле являются виртуальными архивами пустоты – или, быть может, лучше защитой от пустоты, – которые продолжают существовать в историческом опыте». Сантнер устанавливает, как эти симптомы могут также принимать форму нарушения спокойствия «нормальной» социальной жизни, вроде участия в непристойных ритуалах правящей идеологии. Не была ли печально известная Kristallnacht в 1938 году – эта отчасти организованная, отчасти спонтанная вспышка насильственных нападений на еврейские дома, синагоги, фирмы – бахтинианским «карнавалом», если он вообще когда-либо существовал? Эту Kristallnacht следует прочитывать именно как «симптом»: неистовая ярость такой вспышки насилия делает ее симптомом – защитным образованием, скрывающим пустоту неспособности действительного вмешательства в социальный кризис. Другими словами, сама ярость антисемитских погромов является доказательством a contrario возможности подлинной пролетарской революции. Их чрезмерная интенсивность может прочитываться только как реакция на («бессознательное») осознание упущенной революционной возможности. И разве главной причиной Ostalgie (ностальгии по коммунистическому прошлому) у многих интеллектуалов (и даже «простых людей») не существующей ныне Германской Демократической Республики не является также жажда не столько коммунистического прошлого (не таким уж большим оно было, чтобы действительно прийти к коммунизму), сколько того, что могло бы произойти здесь, упущенной возможности иной Германии? Следовательно, не являются ли посткоммунистические вспышки неонацистского насилия также доказательством от противного присутствия этих освободительных возможностей, симптоматической вспышкой ярости, демонстрирующей осознание упущенных возможностей? Не нужно бояться проводить параллели с психической жизнью индивида: тем же самым образом осознание упущенной «частной» возможности (скажем, возможности завязать роман) зачастую оставляет следы в виде «иррациональной» тревоги, головных болей и приступов ярости, пустота упущенного революционного шанса может выходить наружу в «иррациональных» приступах разрушительной ярости…
Следует ли, в таком случае, отвергнуть «страсть Реального» как таковую? Определенно нет, поскольку, стоит нам принять такую установку, как сама оставшаяся позиция будет означать отказ идти до конца, отказ от «сохранения видимости». Проблема со «страстью Реального» в двадцатом веке была не в том, что существовала страсть Реального, но в том, что существовала фальшивая страсть, чье безжалостное стремление к Реальному по ту сторону видимости было основной уловкой, чтобы избежать столкновения с Реальным. Каким образом? Начнем с противоречия между универсальным и частным при использовании термина «особый». Когда кто-то говорит: «У нас есть особые фонды!», это означает нелегальные или, по крайней мере, секретные фонды, а не просто особую часть публичных фондов; когда сексуальный партнер говорит: «Хочешь чего-нибудь особого?», это означает необычную «извращенную» практику; когда полицейский или журналист обращается к «особым мерам при допросе», то это означает пытку или какое-то подобное незаконное воздействие. (А разве в нацистских концентрационных лагерях подразделения, державшиеся особняком и использовавшиеся для самой страшной работы (массовые убийства, кремация, распоряжение трупами), назывались не Sonderkommando, особые подразделения?) На Кубе тяжелый период после крушения восточноевропейских коммунистических режимов тоже назывался «особым периодом». Развивая эту мысль, следует отдать должное гению Вальтера Беньямина, который ясно виден в самом названии его ранней работы «О языке вообще и человеческом языке в частности». Идея здесь не в том, что человеческий язык является разновидностью некоего универсального языка «как такового», который также включает в себя и другие виды (язык богов и ангелов? язык животных? язык каких-то других разумных существ во вселенной? язык компьютера? язык ДНК?): в действительности не существует никакого другого языка, кроме человеческого, но для того, чтобы постичь этот «специфический» язык, необходимо ввести минимальное различие, сконцентрировав внимание на промежутке, который отделяет его от языка «как такового» (чистой структуры языка, лишенного характерных черт человеческой конечности, эротических страстей и смертности, борьбы за господство и непристойности власти). Этот беньяминовский урок и есть тот урок, который пропустил Хабермас: Хабермас делает как раз то, что ему не следует делать – он открыто постулирует идеал «языка вообще» (прагматические универсалии) как норму языка, существующего в действительности. Таким же образом, следуя логике беньяминовского заголовка, следует описать главную констелляцию социального закона как «Закона вообще и его непристойной изнанки Сверх-Я в частности»…
Какое это имеет отношение к социальному анализу? Вспомним, как Фрейд анализировал случай Человека-крысы[!См.: Sigmund Freud, «Notes Upon a Case of Obsessional Neurosis» (Standard Edition, Volume 10).!]. Мать Человека-крысы обладала более высоким социальным статусом, чем его отец. У его отца была склонность к крепким выражениям, куча неоплаченных долгов, плюс Человек-крыса узнал, что незадолго до встречи с его матерью отец преследовал привлекательную, но бедную девушку, которую он бросил ради женитьбы на богатой. План матери женить Человека-крысу на девушке из богатого семейства ставил Человека-крысу в ту же самую ситуацию, что и его отца: выбор между бедной девушкой, которую он любил, и материально обеспеченным браком, устроенным его матерью. Именно в эти координаты следует поместить фантазм о крысиной пытке (жертву привязывают к горшку, наполненному голодными крысами; горшок размещают на ягодицах таким образом, чтобы крысы прогрызли путь через анус жертвы): история была рассказана Человеку-крысе во время военных занятий, когда он хотел показать кадровым офицерам, что люди, вроде него (из состоятельных семей), все же способны переносить тяготы армейской жизни так же, как и любой закаленный солдат скромного происхождения – таким способом Человек-крыса хотел свести вместе два полюса богатства и бедности, высшего и низшего социального статуса, разделявших его семейную историю. Жестокий капитан в его части с энтузиазмом защищал практику телесных наказаний, и когда Человек-крыса в резкой форме не согласился с ним, именно тогда капитан выложил перед ним козырь и описал крысиную пытку. Суть не только в том, что многообразие связей, служивших опорой гипнотической власти фантазма о крысиной пытке, было основано на текстуре ассоциаций означающих (Rat – крыса, Ratte – долговые проценты, heiratеп – жениться, Spielratte – на жаргоне означает неисправимого игрока…). Наиболее важным представляется тот факт, редко упоминаемый многочисленными интерпретаторами, если о нем вообще упоминают, что выбор, перед которым были поставлены и отец и сын, касается классового антагонизма: оба они пытались преодолеть классовый разрыв через примирение противоположных позиций – это была судьба парня скромного происхождения, женившегося на девушке из богатой семьи, но сохранившего, тем не менее, грубую осанку низшего класса. Фигура жестокого капитана возникает именно в такой ситуации: его грубая непристойность противоречит идее классового примирения, взывая к жестоким телесным практикам, которые служат опорой социальной власти. Почему бы не прочесть эту фигуру жестокого капитана как фашистскую фигуру непристойного использования брутальной власти? Как циничного и брутального фашистского головореза, отодвигающего в сторону мягкосердечного либерала и знающего, что он выполняет за него грязную работу?
«Апокалипсис сегодня (полная версия)» (2000), заново отредактированная Френсисом Фордом Копполой более длинная версия «Апокалипсиса сегодня», наиболее ярко демонстрирует координаты этой структурной избыточности государственной власти. Разве не символично, что в фигуре Курца фрейдистский «праотец» – этот непристойный отец-удовольствие, не подчиняющийся никакому символическому Закону, абсолютный Господин, отваживающийся столкнуться лицом к лицу с Реальным ужасающего удовольствия, – показан не как остаток какого-то варварского прошлого, но как необходимый итог власти самого современного Запада? Курц был совершенным солдатом – по сути, через свое сверхотождествление с военной системой власти он превратился в избыток, который должна была устранить сама система. Основной горизонт «Апокалипсиса сегодня» – это возможность понимания того, каким образом Власть порождает избыток себя самой, который она должна уничтожить при помощи операции, копирующей действия того, против кого она направлена (миссии Уилларда по убийству Курца не существует для официальных документов; как сказал генерал, инструктировавший Уилларда, «этого никогда не происходило»). Мы, таким образом, входим в область секретных операций, о которых Власть никогда не признается. И разве то же самое не относится к тем фигурам, которые сегодня преподносятся официальными средствами массовой информации как воплощение радикального Зла? Разве это не правда, что за спиной бен Ладена и Талибана стояло ЦРУ, поддерживавшее антисоветскую партизанскую войну в Афганистане, и что Норьега в Панаме был в прошлом агентом ЦРУ? Не боролись ли США во всех этих случаях со своим собственным избытком? И разве то же самое не было истиной уже для фашизма? Либеральный Запад должен был объединить силы с коммунизмом, чтобы уничтожить свой собственный избыточный нарост. (Следуя этой логике, возникает соблазн предложить, какой должна была бы быть действительно подрывная версия «Апокалипсиса»: повторяя формулу антифашистской коалиции, Уиллард предлагает вьетконгу договориться об уничтожении Курца). За пределами горизонта «Апокалипсиса» остается перспектива коллективного политического действия, разрывающего этот порочный круг Системы, которая, породив избыток Сверх-Я, затем вынуждена его уничтожить: революционное насилие, которое больше не основывается на непристойности Сверх-Я. Это «невозможное» действие имеет место во всяком подлинном революционном процессе.
На противоположной стороне политического поля вспомним архетипическую эйзенштейновскую кинематографическую сцену, изображающую неудержимую оргию разрушительного революционного насилия (сам Эйзенштейн называл ее «подлинной вакханалией разрушения»), которая относится к тому же ряду: когда в «Октябре» победившие революционеры врываются в винные погреба Зимнего дворца, они не отказывают себе в экстатической оргии уничтожения тысяч бутылок с дорогим вином; в «Бежином луге» сельские пионеры силой прокладывают себе путь в местную церковь и оскверняют ее, растаскивают мощи, пререкаются из-за икон, кощунственно примеривают ризы, еретически смеются над изваяниями… В этой приостановке целенаправленной полезной деятельности мы в действительности сталкиваемся с разновидностью батаевской «безудержной траты»; ханжеское желание лишить революцию этого избытка является простым желанием иметь революцию без революции. Эта сцена должна быть противопоставлена тому, что Эйзенштейн делает в страшной заключительной сцене второй серии «Ивана Грозного»: карнавальная оргия, происходящая в бахтинианском фантазматическом пространстве, в котором «нормальные» властные отношения перевернуты, в котором царь является рабом идиота, объявляемого им новым царем. В причудливой смеси голливудских мюзиклов и японского театра хор печально известных «опричников» (личное войско Ивана, которое делало для него грязную работу, безжалостно ликвидируя его врагов) танцует и поет крайне непристойную песню, в которой прославляется топор, отсекающий головы врагам Ивана. Сначала в песне описывается группа бояр на богатом пиру: «Раскололися ворота пополам / Ходят чаши золотые по рукам». Затем хор вопрошает в приятном волнительном предвкушении: «Гойда, гойда! / Говори, говори! / Говори, приговаривай, / Говори, приговаривай!» И соло опричника, выгнувшегося вперед и свистящего, выкрикивает ответ: «Топорами приколачивай!»[!Эйзенштейн С.М. Иван Грозный // Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в шести томах. Т. 6. М., 1971. С. 348. – Прим. перев.!] Здесь мы становимся свидетелями непристойной сцены, в которой удовольствие от музыки сочетается с политическим уничтожением – и, принимая во внимание тот факт, что фильм был снят в 1944 году, не подтверждает ли это карнавальный характер сталинских чисток? В этом состоит подлинное величие Эйзенштейна: он обнаружил (и описал) фундаментальный поворот в статусе политического насилия – от «ленинистского» освободительного взрыва разрушительной энергии к «сталинистской» непристойной изнанке Закона.
Сама католическая церковь опирается (по крайней мере) на два уровня таких неписанных непристойных правил. Во-первых, это, конечно, печально известная организация Opus Dei, «белая мафия» самой церкви, (полу)секретная организация, которая каким-то образом воплощает чистый Закон по ту сторону всякой позитивной законности: ее главное правило – безоговорочное повиновение Папе и самоотверженное стремление работать ради церкви, причем действие всех остальных правил (потенциально) приостанавливается. Как правило, ее члены, задачей которых является проникновение в высшие политические и финансовые круги, сохраняют в тайне свою принадлежность к Opus Dei. По сути, они действительно являются «opus dei» – «делом Господа», то есть они занимают извращенную позицию прямого инструмента воли большого Другого. Кроме того, существует множество случаев сексуальных домогательств детей священниками – эти случаи настолько широко распространены от Австрии и Италии до Ирландии и США, что действительно можно отчетливо говорить о «контркультуре» в рамках церкви со своим сводом скрытых правил. И существует взаимосвязь этих двух уровней, поскольку Opus dei постоянно стремится замять сексуальные скандалы со священниками. Кстати, реакция церкви на сексуальные скандалы также доказывает, что она действительно осознает их роль: церковь упорно настаивает на том, что эти прискорбные случаи являются внутренней проблемой церкви, а также демонстрирует огромное нежелание сотрудничать с полицией в их расследовании. И, действительно, в определенном смысле это справедливо: приставание к детям и есть внутренняя проблема церкви, то есть внутренний продукт самой институциональной символической организации, а не просто ряд частных уголовных дел против людей, оказавшихся священниками. Следовательно, ответ на это нежелание церкви должен учитывать не только то, что мы имеем дело с уголовными делами и что, если церковь не оказывает полной поддержки в их расследовании, она сама является соучастницей преступлений; более того, должно быть проведено расследование в отношении церкви как таковой, как институции, систематически создающей условия для совершения подобных преступлений. Это также является причиной того, почему нельзя объяснять сексуальные скандалы, в которые вовлечены священники, происками противников целибата, настаивающих на том, что, если сексуальные порывы священников не найдут законного выхода, то они выйдут наружу в патологической форме: позволив католическим священникам жениться, мы ничего не добьемся, мы не получим священников, просто делающих свою работу и не домогающихся маленьких мальчиков, поскольку педофилия порождается католической институцией священства в качестве «свойственной ей трансгрессии», в качестве ее непристойного тайного дополнения. Сама сущность «страсти Реального» состоит в этом отождествлении с – это героический жест полного принятия – грязной непристойной изнанкой Власти: героическая позиция – «Кто-то должен делать грязную работу, так давайте же делать ее!», своего рода зеркальное отражение прекрасной души, отказывающейся узнать себя саму в последствиях. Мы также находим эту установку в правом по своей сути восторге и прославлении героев, готовых выполнить необходимую грязную работу: совершить благородный поступок ради страны, пожертвовать жизнью ради нее легко – гораздо труднее совершить преступление во имя страны… Гитлер хорошо знал, как вести эту двойную игру в случае с холокостом, использовав Гиммлера для раскрытия «грязной тайны». В своем обращении к руководству СС в Позене 4 октября 1943 года Гиммлер совершенно открыто говорил о массовых убийствах евреев как «славной странице нашей истории, которая никогда не была написана и никогда не сможет быть написана»; он недвусмысленно говорил об убийствах женщин и детей:
«Мы стоим перед вопросом: что нам следует делать с женщинами и детьми? Я считаю, что здесь тоже нужно найти совершенно ясное решение. Я рассматривал в качестве оправдания для истребления мужчин следующее: убить их или быть убитым ими; нельзя одновременно позволять расти тем, кто отомстит нашим сыновьям и внукам. Трудное решение должно быть принято: эти люди должны исчезнуть с лица земли»[! Цит. по: Ian Kershaw, Hitler. 1936-45: Nemesis, Harmondsworth: Penguin Books 2001, p. 604–5.!].
На следующий день руководители СС должны были пойти на встречу, на которой сам Гитлер делал доклад о состоянии войны; здесь Гитлер не должен был прямо упоминать об Окончательном Решении – косвенных ссылок на знание и соучастие руководства СС было достаточно: «Весь немецкий народ знает, что вопрос состоит в том, будут они существовать или нет. Мосты за ними сожжены. Остается только идти вперед»[!Kershaw, op.cit., p. 606.!]. И, будем надеяться, что, следуя именно этой логике, можно противопоставить «реакционную» и «прогрессивную» страсть Реального: в то время как «реакционная» поддерживает непристойную изнанку Закона, «прогрессивная» противостоит Реальному антагонизма, отрицаемому «страстью очищения», которая в обеих версиях – правой и левой – допускает, что к Реальному можно прикоснуться посредством разрушения избыточного элемента, который вводит антагонизм. Здесь нужно отказаться от обычной метафоры Реального как ужасной Вещи, с которой невозможно столкнуться лицом к лицу, как первичного Реального, скрытого под оболочками воображаемых и/или символических Завес: сама идея о том, что за обманчивой видимостью скрыта какая-то первичная Реальная Вещь, выдержать прямой взгляд которой для нас ужасно, есть наивысшая видимость – эта Реальная Вещь является фантазматическим призраком, присутствие которого гарантирует последовательность нашей символической системы взглядов, позволяя нам таким способом избежать столкновения с ее конститутивной непоследовательностью («антагонизм»). Вспомним нацистскую идеологию: еврей как ее Реальное есть призрак, вызываемый к жизни для того, чтобы скрывать социальный антагонизм, то есть фигура еврея позволяет нам воспринимать социальную тотальность как органическое Целое. И разве то же самое не происходит с фигурой Женщины-Вещи, недоступной для понимания мужчины? Разве она не является первичным Призраком, позволяющим людям избежать конститутивного тупика сексуальных отношений?
И здесь следует ввести понятие Лото sacer, недавно развитое Джорджо Агамбеном[!См.: Giorgio Agamben, Homo Sacer, Stanford: Stanford University Press 1998.!]: различие между теми, кто включены в законный порядок, и homo sacer – это не простое горизонтальное различие между двумя группами людей, но также все более и более «вертикальное» различие двух (навязанных извне) способов того, каким образом можно обращаться с одними и теми же людьми. Коротко говоря, на уровне Закона к нам относятся как к гражданам, субъектам права, тогда как на уровне его непристойного Сверх-Я, этого пустого безусловного закона, с нами обращаются как с homo sacer. Быть может, в таком случае, лучшим девизом сегодняшнего анализа идеологии является строка, процитированная Фрейдом в начале его «Толкования сновидений»: acheronta movebo – если вы неспособны изменить свод явных идеологических правил, вы можете попробовать изменить основной свод непристойных неписанных правил.








