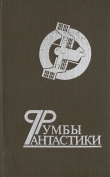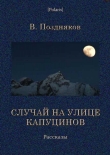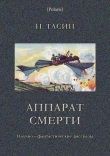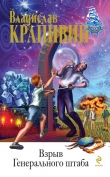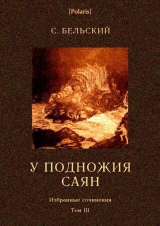
Текст книги "У подножия Саян (рассказы)"
Автор книги: Симон Бельский
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Он сказал только, что последние люди никогда еще не продавались по таким высоким ценам, и что с моей стороны было бы благоразумнее получить несколько сот рублей за черепа, костяные ножи, посуду и прочий хлам, чем ничего не получить!
Но я отлично видел, что хитрый немец желает чужими руками загребать жар и набить себе карман за счет таких сибирских простаков, каким был я и эти древние чучела, не подозревавшие о колоссальной стоимости своей жалкой утвари.
Катты принадлежали нам, русским, и я не мог за дешевую цену допустить расхищение национального богатства, да еще быть пособником немецкого пройдохи! Пусть заплатит! хорошо заплатит! тогда другое дело. Но кто же согласится ограбить родную землю за путевые издержки?
Когда Миллер еще раз заговорил о больших расходах на путешествие в Сибирь; жаловался на бедность и скупость ученых учреждений; насчитывал в рублях и копейках, в марках и пфеннигах предстоящие расходы, цену провизии, лодки, упаковочных материалов, у меня явилась новая мысль.
– Хорошо! – сказал я. – Пусть будет по-вашему, – вы оплатите путевые расходы и дело с концом!
– Не знаю, как благодарить вас. Наука нуждается в бескорыстных работниках и ваш труд, ваше великодушное содействие…
– Подождите! Вы или ваша академия оплатите путешествие, это решено! но только не наше с вами, а всех этих Каттов, целого народа, каким он был две тысячи лет тому назад, когда двигался из Месопотамии на далекий север. Скажем для ровного счета, что их было тогда сто тысяч душ, включая сюда и грудных младенцев. Это немного, но я вам сделаю еще одну уступку. – Расстояние от Евфрата до Амура мы определим по прямой линии, как летает птица, хотя, конечно, первобытные люди должны были колесить, блуждать взад и вперед, потому что сами не знали, куда идут. В этом пункте вы меня не собьете, господин Миллер, со всей вашей ученостью! – Древние народы никогда не знали, куда они идут, когда и куда придут. Путеводителей тогда еще не было. Думаю, что мое предложение покажется вам вполне справедливым. – Если вы хотите получить последних людей у нас в России, – берите их! Берите, но по крайней мере заплатите за транспорт, возместите стоимость трудов и лишений, которые потрачены были первобытной ордой для того, чтобы достигнуть места, где их возьмет ваша академия.
– Вы с ума сошли! – сказал Миллер. – Не надо мне Каттов. Я отказываюсь от вашего предложения.
Скажите, что мне оставалось делать? Все козыри в этой игре были на руках у немца. Я начал опускать цену и наконец мы заключили вот это условие.
Крымзов достал из бокового кармана истрепанную четвертушку бумаги и прочитал:
«Мы, нижеподписавшиеся, доктор философии Иоганн Вильгельм Миллер с одной стороны и отставной штабс-капитан Сергей Крымзов, с другой, заключили настоящий договор в следующем:
1) Я, Крымзов, обязываюсь указать Миллеру местонахождение последних людей народа, именуемого Каттами или Коттами, в чем некоторые усматривают аналогию со словом „Готты“ и на этом основании устанавливают родство или общность происхождения этих двух племен.
2) Крымзов обязан сопровождать Миллера до обиталища означенных последних людей; оставаться все время, сколько потребует Миллер, на месте исследования и помогать в собирании и упаковке научного материала.
3) И. В. Миллер принимает на себя все издержки по снаряжению экспедиции и, кроме сего, выдает Крымзову пять рублей в сутки. Все имущество последних людей должно быть оценено в Берлине и половина суммы, установленной этой справедливой оценкой, поступает в пользу штабс-капитана Крымзова.
Явлено у нотариуса 16 июля 1911 года».
Все! Через три дня после заключения этого условия мы выехали из Владивостока, а еще через неделю плыли в лодке по безымянному левому притоку Зеи, похожему на проселок, извивающийся между высокими стенами тайги.
На поляне, где жили Катты, все было по-прежнему. Над высокой травой толклись столбы мелкой мошкары; черные растрепанные шалаши, для постройки которых употребляли ветки, веревки и сети, стояли под деревьями, росшими здесь еще в то время, когда предки нынешних Каттов странствовали где-то в пустынях между Месопотамией и Сибирью. Не было только самих Каттов! Они ушли, исчезли, растворились в тайге, как кусок соли в бездонном озере.
Я уже начал думать, что даром пропали все наши труды и мы ничего не заработаем на этом деле, обещавшем сначала такие выгоды, с которыми могло идти в сравнение только открытие богатой золотой россыпи. Оставалось кое-какое имущество, но главную ценность, по словам Миллера, представляли скелеты или хотя бы череп последнего человека, и теперь исчезала всякая надежда добыть драгоценные кости.
Я готовил обед около костра, когда услышал радостное восклицание доктора.
– Вот он! Смотрите, Крымзов! Этого-то мы не упустим! – Вслед за этими словами Миллер исчез в кустах орешника и через минуту появился на поляне, толкая перед собою моего знакомого, обжору Ин-Рана.
Ин-Ран, – по-русски – Угасающее пламя, – не высказывал ни малейшего страха. Скривив свое маленькое желтое лицо в гримасу, которая должна была означать улыбку, он бегом направился через поляну ко мне и, протягивая руку сказал:
– Дай! я хочу есть. Теперь у Ин-Рана будет мясо, маленькая и большая рыба, горькая вода.
Он сел около костра и, раскачиваясь своим тощим телом, зашитом в вытертый мех, начал нараспев по-русски и на языке Каттов перечислять все то, что он хотел бы съесть.
– Теперь зверь у нас в руках! – сказал я Миллеру. – Если бы вы даже стали его гнать, он не уйдет, пока у нас останется хоть что-нибудь, что можно съесть или выпить!
Так оно и вышло! Обрадованные появлением Катта, мы не щадили провизии и последний человек утопал в блаженстве, сидя среди раскрытых ящиков с рисом, мукой, свечами и лимонами. Но проку от него было мало. Осматривая пустые шалаши, я не нашел там почти ничего, что можно было бы вывести на рынок и предложить археологам. Не было ни посуды, ни оружия, ни одежды. Наш дикарь обладал только тем, что носил с собой. Все имущество единственного наследника народа, происхождение которого терялось в глубине веков, состояло из сломанного ножа, обточенной кости, насаженной на палку, небольшой медной птицы, похожей на гуся, пустых жестянок и обрывков бумаги, которые он подобрал на месте нашей прежней стоянки.
Миллера такая ужасающая нищета, по-видимому, мало смущала.
– Продукты материальной культуры принадлежат по условию вам, – говорил ученый, – но для меня и для науки остается еще культура духовная. Я соберу здесь столько материалов, что мне их хватит на четыре тома. Пусть он привыкнет немного к нашему обществу и тогда вы увидите, какие сокровища таятся в его древней памяти!
Но я считал себя обокраденным самым бессовестным образом. Надо полагать, что племя «Владык мира», Каттов, Коттов или как они там себя называли, все сплошь состояло из отъявленных мотов, которые ничем не дорожили и спустили все до последней нитки, до последнего горшка, не пощадив даже своих богов и святых.
Оставался, правда, скелет и череп последнего Катта, но, так как этот товар находился: в живом человеке, то он не имел никакой цены. Не было ни малейшей надежды, что единственный потомок «Владык мира» отправится скоро по следам своих предков. Он заметно полнел, его грязные щеки лоснились от жира, глаза блестели и в них, вместо выражения голода и собачьей жадности, появилась мечтательность.
Признаться, я потихоньку подговаривал его к самоубийству, пользуясь теми часами, когда Миллер был занят хозяйственными хлопотами и своими бесконечными записками.
– Ты остался один на белом свете! – говорил я. – Все твои предки ушли в прекрасную страну, где много пищи. Там с утра до вечера они сидят вокруг бочек с жирной рыбой, патокой и салом, облизывают пальцы, погружая их в банки с вареньем и французской горчицей; пьют все, что только пожелают, и ждут тебя. Для полного блаженства им недостает только тебя!
Ин-Ран вздыхал от счастья, закрывал глаза, как жирный кот, которого щекочут за ушами, набивал рот рисом и просил:
– Говори! говори еще: я люблю слушать о своих предках.
– Там у тебя будет жена, такая… похожая на тебя! закутанная в блестящие меха и сытая, толстая, с волосами, намазанными рыбьим жиром.
Нет ничего легче, как отправиться в эту счастливую страну. Я дам тебе крепкую веревку и покажу, что надо сделать, чтобы твоя душа соединилась с душами предков.
– Мы пойдем вместе! – отвечал радостно Ин-Ран. – Сначала ты, потом я. Угасающее племя не хочет, чтобы ты остался здесь и жалел о той прекрасной стране, о которой так хорошо рассказываешь.
Что мне было с ним делать? Приходил Миллер, веселый и довольный, видевший за этим тупым созданием необъятный исторический горизонт, шумные толпы народов, стекающих с гор в пустыни, подобно многоводным рекам, и постепенно теряющихся в дали веков. Для него этот грязный Ин-Ран был драгоценным ключом для входа в первобытный мир.
– Ну, что ты мне расскажешь, Угасающее пламя? – спрашивал Миллер, нежно смотря на лисью морду последнего человека. – Нет ли у тебя рассказов для друга?
– Есть! – отвечал Ин-Ран, вытирая жирный рот меховым рукавом. – Я уйду в далекую страну, куда переселились мои предки.
Миллер настораживался, как охотничья собака.
– Я слушаю, и если рассказ будет хорош, ты получишь фунт табака.
Замечу, что последний человек не курил, а жевал табак и это занятие доставляло ему величайшее наслаждение.
– Я с предками буду сидеть вокруг бочек с рыбой.
– С какой рыбой? – спрашивал Миллер и карандаш его впивался в бумагу.
– Не знаю! – Это глупое животное повторяло только то, что слышало от меня, и неспособно было даже придумать название рыбы.
– Но какая это рыба? соленая, сырая или вареная? – приставал Миллер.
– Всякая! большая и маленькая, жирная! потом я найду там жену.
– Постой! Слышите! – обращался доктор ко мне. – У них в загробном мире есть жены, которых ищут. Понимаете, ищут! Это важно, так как указывают на общность их верований с религией ассирийцев.
– Как же, Угасающее пламя, отправишься ты в эту прекрасную страну, населенную твоими предками?
– На веревке! вместе с своим другом.
– Изумительно! – восторгался Миллер. – Тут аналогия с нисхождением в тартар, спуск к вечному мраку. И заметьте, с другом, непременно с другом!
Я боялся, чтобы глупый Катт не сболтнул чего-нибудь о моем предложении отправиться в лучший мир, и всеми силами старался перевести разговор на другие предметы. Нарочно опрокидывал в огонь котел с рисовой похлебкой, устраивал маленькие пожары, ронял в реку чашки, которые мы потом вылавливали общими силами.
Иногда Миллер заставлял Ин-Рана петь. Раскачиваясь взад и вперед, живая древность без конца тянула одну и ту же ноту без слов: а… о… яяя… ооо… аа…
Больше он ничего не умел; но Миллер из всего ухитрялся извлечь пользу. Он научился обрабатывать древних людей, как на химическом заводе обрабатывают мусорные кучи, из которых добывают блестящие краски, духи, кислоты, удобрения, румяна, бумагу, масло, чернила и патоку.
Миллер уже исписал три толстых тетради и взялся за четвертую, когда я решил положить конец этому производству и получить кое-что в свою пользу.
Я сказал себе: мне нужны кости этого проклятого Ин-Рана, и я их достану. Достану без насилия и без нарушения христианских заповедей. Надо сделать так, чтобы он сам отправил себя вслед за своими единоплеменниками, и для этого оставалось только одно средство, – водка и спирт!
До этого дня мы с Миллером редко давали ему спиртные напитки, но теперь я решил давать их последнему отпрыску Каттов столько, сколько он сможет выпить.
Ин-Ран почувствовал себя на верху блаженства, доступного человеку в этом мире. Он пил водку не так, как пьем все мы, с остановками и пьяными разговорами. Нет! Он поступал проще: вставлял горлышко бутылки в рот и тянул жидкость до последней капли, потом отбрасывал посуду и засыпал там, где сидел. Я был, конечно, осторожен, чтобы не убить его слишком быстро, и строго распределял дневные порции.
Миллер удивлялся, откуда дикарь достает водку, но я притворялся еще более удивленным беспробудным пьянством Угасающего Пламени, и намекнул немцу, что для нас обоих страсть Ин-Рана к спиртным напиткам может оказаться очень полезной. Теперь я думаю, что Миллер отлично знал, откуда дикарь доставал водку, и только делал вид, что ему ничего не известно. Доктор желал получить кости Ин-Рана, и в конце концов, странствующему археологу было решительно все равно, от какой болезни умрет последний Катт. Мы с утра до вечера сидели около палатки рядом с кустарником, в котором валялся мертвецки пьяный дикарь, и ждали. Но конец не приходил! Последний человек дошел до четырех бутылок в день. Он пил денатурированный спирт, одеколон, коньяк, водку, всевозможные крепкие смеси, исхудал так, что его меховой мешок висел на нем складками, едва передвигался, ползая по траве; его воспаленное лицо и блестящие глаза указывали на горячечное состояние, но жизнь не уходила из этого худого, истощенного тела, горела, как искра под пеплом и ее нельзя было окончательно затушить всеми сортами напитков, которые он вливал в себя и днем и ночью.
Мы с Миллером страдали от мелкой мошкары, которая, как черная завеса, колебалась над поляной, от ночных холодов и лихорадок, но не желали ускорять дело и до конца помнили, что мы христиане. Я поставил около дикаря большую чашку, в которую постоянно вливал спирт и рисовую водку. Приходя в сознание, он протягивал руку к чашке, придвигал ее к себе и, не вставая, тянул жидкость.
Как-то вечером, когда багровое солнце опускалось за черную стену тайги, меня позвал тревожный голос Миллера.
– Идите скорей! посмотрите, что с ним такое?!
Древний человек встал, удерживаясь за стволы деревьев, потом выпрямился, диким голосом завыл какую-то песню, смотря кругом сумасшедшими глазами. В эту минуту на поляне, освещенной красным светом заходящего солнца, он показался мне даже величественным.
Миллер бросился за фотографическим аппаратом, но Ин-Ран, как дикий зверь, сделал большой прыжок через кустарник, росший над отвесным обрывом, и навсегда исчез в глубине реки.
Так погиб последний человек племени Каттов и вместе с ним утонула слава Миллера и мои честно заработанные деньги.
Немые волны
I
Непременный член землеустроительной комиссии, Павел Иванович Акулов, сидел в просторной комнате на земской квартире, пил чай с малиновым вареньем и лениво ругал Сергея Сиганова. Акулову давно надоели мужики, надоела его работа, которую он называл «землерасстройством», опротивела выжженная степь, пыльные дороги, пустынные, белые села вдоль безводных пересохших речек.
Недавно он промотал большое имение и рассказывал, что его потому и назначили непременным членом, что он в два года ухитрился спустить тысячу десятин великолепного чернозема.
Промотал свою землю и Сиганов, с той разницей, что он безобразничал и пьянствовал в родной Песчанке, а Акулов жил в Петербурге и два раза ездил за границу.
– Как же это ты? – спрашивал непременный член, щуря глаза от ослепительного света на выбеленных стенах, подведенных синькой, на вымазанном глиной полу, усыпанном желтым песком. – Был у тебя отруб в четыре с половиной десятины, хороший кусок! Если бы не такому дураку, как ты, можно было бы завести улучшенное хозяйство, ну, там сад, что ли, пруд выкопать, карасей туда напустить, раков! Умные люди на одной десятине живут. Посмотри на себя! Волжский разбойник какой-то, одной рукой десять пудов поднимаешь, а глуп, как тетерев.
Сиганов слушал непременного члена с спокойной улыбкой, как взрослые слушают детей, может быть, даже и не слушал совсем. Он смотрел в окно, за которым качались высокий бурьяны, и думал что-то свое, далекое от этой комнаты с чисто вымытыми стеклами и пустых путанных речей скучающего барина.
– Что бы сказать ему еще? – подумал Акулов, размешивая в чае сверкающие искры солнечного света.
– Ты как пропивал землю?
Сиганов переступил с ноги на ногу, оставляя на мягком глиняном полу глубокие следы, и лениво ответил:
– Обыкновенно, как пропивают: сначала дома, а потом музыку нанял, по степи с флагами ездил…
И вспомнив что-то, должно быть очень веселое, Сиганов улыбнулся широкой, как степь, улыбкой, и его большое лицо стало почти красивым.
– Чему же ты радуешься, дурак? – сказал Акулов.
– Пять дней ездили. Дьячок пришел из Павловки, фельдшер увязался, бабы, девки. Шли плясом верст по двадцать в день…
Непременный член слушал Сиганова и на фоне пустой степи видел отдельный кабинет загородного Московского ресторана, пьяный цыганский хор, рыжую, кудрявую француженку Марго, хрустальные вазы с крюшоном. В комнате толпятся какие-то незнакомые люди и все они с Акуловым на «ты», все куда-то исчезают, словно тонут в пестром, сверкающем водовороте, где кружатся красные бархатные диваны, цыганки, Марго в голубом платье, сверкающие вазы. В углу сидит приятель Акулова, предводитель дворянства Султанов. Он беспомощно свесил голову на манишку, залитую вином, опустил плечи и похож на деревянного складывающегося паяца, которого почему-то одели во фрак. Султанову дурно, он смешно открывает рот, как рыба на берегу, и услужающий человек заботливо отирает ему салфеткой колени и грудь.
Потом бледный хворый рассвет – разом выцвели и вылиняли все краски. Вместо сверкающего и кружащегося водоворота – грязная отмель, на которой осколки битой посуды, растрепанная, грузная фигура Султанова, объедки фрукт, залитая вином мебель. Акулов сжимает в руке пачку двадцатипятирублевок и, шатаясь, идет по длинному коридору, рассовывая деньги каким-то женщинам, лакеям, ресторанным распорядителям.
– А Париж! – Акулов даже привстал со стула, стараясь лучше рассмотреть в глубине степи картины, которые разом всплыли в его воображении. Высокий бритый проводник – агент Кука – с лицом пастора, идет впереди по лестнице, устланной красным ковром, уставленной пальмами, и ободряюще говорит:
– Первоклассный дом! С разрешения правительства, под контролем государства! Тут есть гобелены и мебель из Версаля, кушетка Марии Антуанетты…
Потом Акулов сидит на этой настоящей или поддельной мебели из дворца «короля солнца», за столом, украшенным бронзой, по которому агент Кука стучит пальцем и кричит:
– Нет ему цены! Историческая реликвия!..
А крутом гирлянда красивых девушек, почти девочек, в розовых и белых рубахах, через которые просвечивается горячее тело.
Агент Кука дремлет в дальнем углу, ожидая Акулова, и время от времени повторяет все одну и ту же фразу:
– Не бойтесь, это учреждение государственное. Тут были принцы и короли. Я сам тут с одним высоким гостем три дня в гроте жил. Ходили голые, питались устрицами и омарами от Прюнье.
– Еще бы! – будь она проклята, эта степь! – вслух сказал Акулов.
– Ну, и пропили все, – продолжал Сиганов. – Четыре десятины, надолго ли хватит? Да еще Елохину за водку и вино сорок целковых задолжал.
– Пропащий ты человек, Сиганов! Что же ты теперь будешь делать?
– Вот то-то, что делать! Тут уж ничего не придумаешь.
Сиганов говорил равнодушно, как будто дело шло не о нем и его совершенно не занимал вопрос, как будет жить без земли рыжий великан, голову и плечи которого он видел в зеркале против себя.
– Выселяйся в Сибирь, на Дальний Восток. Там теперь люди нужны.
Сиганов вздохнул и молчал.
– Повезут тебя даром, кормить будут даром, а там… – Акулов неопределенно махнул рукой в алмазную даль, – там столько богатства, что если бы оно досталось не таким дуракам, как мы, так в золоте зарыться можно.
– Где уж нам! – уныло ответил Сиганов.
– Ну едешь, что ли? все равно пропадать!
– Помирать все равно одинаково, что тут, что там. Хуже не будет, некуда!
– Ну вот, – Акулов закурил папиросу и примирительно сказал:
– Ты и России послужишь, государству… Знаешь, что такое государство?
Сиганов улыбнулся.
– А как же, очень даже знаю! Когда мужики бунт делали, мне от помещика Иваницкого зеркало преогромное досталось. Больше сажени. Не знаю, кто мне его на двор приволок. В хату не влезало, я его возле стены поставил. Так его от Павловки верст за пять видно было. Простояло два дня и бык его рогами разбил. Потом наказание было. Приехал виц.
– Вице-губернатор, – поправил Акулов.
– Плаксивый, как баба. Нас, как полагается, пороли, а виц сидит на крыльце в волости и каждому мужику наставление дает:
– Жалко, – говорит, – мне вас. Я понимаю, что порка обидна. – Это, – говорит, – вы, мужики, понять не умеете, а просвещенные народы не любят пороться.
Кто выслушал наставление, – скидывай штаны и иди под сарай, а виц плачет и кричит вдогонку: «Помни, что не люди тебя порют; а государство». Это мы знаем…
– Эх, Сиганов, все это не так. Голова у тебя большая, а глуп ты на удивление.
– За умными живем, – усмехаясь, ответил Сиганов.
– Ну, поговори мне еще! Писать тебя в Сибирь, что ли?
– Мне все одно.
– Ну, так я запишу.
– Записывайте, куда хотите! – Сиганов хлопнул дверью и вышел на залитую солнцем улицу.
– Эй, помещик, иди сюда! – закричал с угла лавочник Елохин, маленький, грязный, с красным носом и злыми, колючими глазами, славившийся своим сластолюбием.
У Елохина была установлена такса на девок, замужних баб, солдаток и вдов. Такса эта, переписанная четким почерком, висела у него в спальне за ситцевым пологом и служила предметом бесконечных разговоров для приятелей Елохина. Зимой, когда подъедался хлеб и в темных, грязных избах плакали голодные дети, бабы осаждали лавочника и Елохин уплачивал по таксе не деньгами, а товаром: гнилой мукой, ржавыми селедками и баранками.
На высоком крыльце рядом с Елохиным стоял молодой, щеголеватый дьякон из соседнего села. На дьяконе была новенькая шуршащая ряса, лакированные ботинки, белая шляпа и весь он казался таким чистеньким и сияющим, как обмытый камень в ручье.
– Вот, обратите внимание, – визглявым голосом говорил Елохин, указывая на Сиганова. – Чемпион безводной степи, силу имеет неимоверную, а девать ему этой силы некуда! всего имущества – курица с перешибленной ногой, да ведро без дна. Ну, плати проценты! Вы, отец дьякон, станьте сюда в холодок и посмотрите на представление.
– Брось! – сказал Сиганов, – доиграешься когда-нибудь!
– А ты плати.
– Ну ладно уж, командуй.
Сиганов снял ситцевую розовую рубаху и стоял около весов с гирями. Лавочник протянул ему крепкую бечевку. Великан зажал зубами один конец бечевки, а другой привязал к пятипудовой гире.
– Пиль! – закричал Елохин. Сиганов взял в каждую руку еще по гире.
– Алле!
Великан медленно выпрямился и, напрягая мускулы, осторожно двинулся по крутой лестнице.
– Мускулатура, отец дьякон! обратите внимание! Дьявол, а не человек. Музейная вещь, – кричал Елохин, размахивая тонкими руками.
Тело Сиганова казалось отлитым из темного металла, ветер растрепал его рыжие волосы и они беспорядочно падали ему на лоб, окружая голову огненным сиянием.
– Чемпион! – кричал Елохин. – В нем такая сила, что дуб вывернет, да еще с корней землю отрясет, а между тем баба его по таксе приходила.
Сиганов бросил гири на пыльную дорогу и угрюмо сказал:
– Довольно – давай водки!
Виноградов подмигнул дьякону и, подбоченившись, заговорил наставительным тоном:
– Как же я могу в присутствии духовной особы поощрять пьянство? Лимонада или клюквенного кваса выпей, а водки нет.
– Не ломайся! – крикнул Сиганов таким голосом, что дьякон от испуга соскочил с ящика и зашептал Елохину:
– Дайте ему водки! Ведь он дикий совсем. Чего ему жалеть; ни впереди, ни позади.
– Ну хорошо, хорошо. На, пей! – Сиганов залпом опорожнил стакан, взял из кадки огурец и молча спустился с крыльца.
– Такого человека да за границу бы, – сказал Елохин. – Смотрите, мол, на Русь, какая она в естественную величину!
– Погибают, потому что нравственность упала, – сладким голосом ответил дьякон. – Устоев нет, о церкви забывают.
Солнце опускалось к далекой линии курганов; степь сбросила грязные, пыльные лохмотья, стала ясной и печальной. Высокие бурьяны и колючие, важные чертополохи с красными, мягкими цветами запутались в золотой солнечной пряже; на серой, истомленной земле переплелись тонкие тени. Мелководная речонка, разлившаяся под мостом в конце площади, улыбнулась и зарделась среди кованых серебряных отмелей.
Сиганов пошел было домой, но, увидев с угла свою хату, в которой было скучно и пусто, повернул к реке. Ему было стыдно, что он ходит по селу без дела и, чтобы скрыть стыд, он начал громко ругать непременного члена, Елохина, дьякона и отца Димитрия, который ехал к мосту на дрожках, застланных новеньким, пестрым ковром.
Отец Димитрий недавно окончил семинарию и пошел в священники, потому что женился на дочери благочинного и получил хорошее приданое. В гостиной у него стояла зеленая плюшевая мебель и стол с бронзовыми львами на выгнутых ножках. Пол был застлан ковром с пунцовыми цветами, разбросанными по желтому полю.
Такой роскошной обстановки не было ни у кого в степи и отец Димитрий требовал, чтобы его гости держали себя у него так, чтобы видно было, что они ни на минуту не забывают об окружающем их великолепии.
Учителю и дьякону батюшка кричал:
– Не разваливайтесь! сидите прямо; не забывайте, где находитесь! Здесь один ковер стоит дороже, чем вся ваша драная мебель.
Сторож и псаломщик были так подавлены этой роскошью, что называли квартиру батюшки «миражем» и упорно отказывались входить в гостиную.
Крестьянам, приходившим поздравить отца Димитрия с праздником, позволяли взглянуть на мираж из дверей передней.
– Что, каково? – спрашивал батюшка, стуча согнутым пальцем по зеркалу в золоченной раме, поворачивая стулья и кресла. Его бледное, злое лицо с редкой черной бородкой жадно обращалось к толпе. – Хотелось бы посидеть на этаком диване? А?
– Где уж нам в этаком благолепии. Взглянуть и то хорошо.
Весь этот мираж, принесенный попадьей – хрустальная посуда, бронзовые подсвечники и лампы, мраморный умывальник и плюшевая мебель, – заслонили от отца Димитрия весь мир.
Он без конца ходил по комнатам, пересчитывал серебряные ложки, расставлял десертные тарелки, вазы, семь сортов рюмок и бокалов для вина и ликеров и мучился от тайного сознания, что он сам, сын дьячка, видевший дома деревянные искалеченные столы и стулья, не знает, как держать себя среди всего этого великолепия.
Оставаясь один, он устраивал репетиции приемов воображаемых гостей.
На лице снисходительное радушие. Вот он сидит тут в кресле; ветеринарный врач или земский начальник на диване. Нет! на диване сидят дамы: мужчины на стульях. Говорить надо медленно. Рука играет кистью бархатной скатерти, другая в кармане рясы.
Отец Димитрий устраивался в кресле и сбоку смотрел на себя в зеркало. Там было смущенное лицо, сгорбленная, деревянная фигура.
Плохо! далеко ему до актера Пронского, которого отец Димитрий еще семинаристом видел в пьесе «Великосветский зять». Батюшка хлопает дверью и идет к жене, некрасивой, маленькой женщине, которая по целым дням сидела у окна и смотрела в пустую степь.
– Лида, я вот тут придумал, – начинает отец Димитрий серьезно и внушительно. – Необходимо переставить диван к дверям, а кресла в беспорядке разбросать по комнате. Одно здесь, другое там.
– Как хочешь, – вяло отвечает матушка и всматривается в болезненную горячую даль, где нет ничего, кроме струящегося воздуха.
– Не понимаю, как ты можешь по целым дням сидеть неподвижно.
– А что же мне делать?
Делать, правда, нечего.
– Ну, так я переставлю?
Не дождавшись ответа, батюшка уходил в гостиную и долго возился с мебелью, и когда дело подходило к концу, с ужасом видел в зеркале отражение грязной улицы, с кучами навоза и свиней, подбирающих арбузные корки.
Эти свиньи словно гуляли в самой гостиной и маленькими глазами безучастно смотрели на позолоту и зеленый плюш. Приходилось переставлять все сначала.
В один весенний день пьяный Сиганов, босой, без шапки, остановился под окном дома отца Димитрия, скатал ком черной, тяжелой грязи и запустил им в блестящее окно. Со звоном посыпались стекла; второй комок грязи прилип к зеркалу, третий угодил в бронзовую лампу с шелковым абажуром.
Отец Димитрий, без рясы, выбежал на крыльцо и бестолково метался по широкому пустырю, на котором голубые лужи стояли в каймах талого снега. Он не кричал, а визжал от обиды и страха. Услышав этот визг, Сиганов застыл с откинутой назад рукой, в которой сжимал липкую грязь, с любопытством посмотрел на отца Димитрия, плюнул и ушел.
– В Сибирь иду! – кричал Сиганов, спускаясь к искрящейся реке, к истонченному, разрытому обрыву.
Отец Димитрий круто свернул в сторону и легкие дрожки запрыгали по кочкам.
– Боишься! – засмеялся Сиганов. – Не трону! надоели вы мне все. Если бы вы люди были, а то так, саранча…
– Хулиган! – крикнул батюшка. – Такому, как ты, в Сибири только и место.
– Это я-то хулиган? – спросил Сиганов, понижая голос до шепота, и в его фигуре, в выражении лица мелькнуло что-то дикое и хищное, совершенно чуждое мирной и тихой улице, грустным вербам над рекой, засыпающей, молчаливой степи.
– Ударь по лошадям, Егор! – закричал батюшка кучеру, но Сиганов успел уже выхватить вожжи и бешено гнал лошадей к обрыву, далеко под которым вечерними яркими цветами, пурпуром и золотом зацветала река. Лошади упирались и бились в упряжи; отец Димитрий выскочил на дорогу и что-то кричал мужикам, которые купались под обрывом. Из соседнего двора выбежал церковный староста Данилыч с двумя сыновьями. Все они разом набросились на Сиганова и сбили его с ног. Он сейчас же поднялся, отшвырнул повисшего на руке старосту и, ударив кнутом Егора, пошел обратно к площади.
– Вы были свидетелями! – кричал отец Димитрий. – Этого так нельзя оставить! Я губернатору буду жаловаться!
– Наплевать мне на твоего губернатора, – ответил Сиганов.
– Вы слышали?! Что же это такое?
– Оставь, батюшка! – суровым тоном сказал старик Данилыч, оправляя разорванную рубаху. – Дальше от него – меньше греха. Ему теперь один конец: он из всякого круга вышел. Помни, будешь жаловаться, я ничего не видел! У меня за домом сена пять стогов, чиркни спичкой, так полсела сгорит.
Чувствовалось какое-то скрытое беспокойство, затаенный страх в длинных, черных тенях, в шепоте верб, в красноватых, растекающихся мазках, которые заходящее солнце разбросало по стеклам окоп, по реке и пруду за селом.
Отец Димитрий молча пошел к дрожкам и угасшим голосом сказал Егору:
– Трогай! Уж если так с отцом духовным… Все вы тут заодно.
От обиды у него дрожала нижняя губа и хотелось плакать.
Степь и село, над которым поднимался проржавевший зеленый церковный купол, казались странными, непонятными и почти страшными.