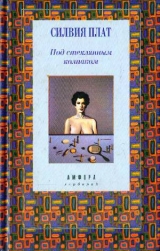
Текст книги "Под стеклянным колпаком"
Автор книги: Сильвия Плат
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Одиннадцать вроде бы, – ответил женский голос. Теперь и башмак казался мне женской туфлей, и я мысленно соотнесла его с голосом. – Их должно быть еще одиннадцать, но одной как будто нет, так что без этой вот их получается десять.
– Что ж, отведите эту в постель, а я позабочусь об остальных.
В моем правом ухе раздался глухой стук, становящийся все тише и тише. Затем где-то в удалении открылась дверь, послышались какие-то стоны и голоса, и дверь вновь закрылась. Две чужие руки скользнули мне под мышки, и женский голос произнес:
– Вставай, вставай, милочка, мы вдвоем справимся.
И я почувствовала, как меня буквально подняли на ноги, и двери начали медленно двигаться навстречу, одна за другой, пока перед нами не предстала открытая. В нее-то мы и вошли.
Простыня на моей постели была уже откинута, и женщина помогла мне лечь и закутала меня до подбородка, а потом какое-то время побыла со мной, сидя в кресле и оглаживая себя пухлой розовой ручкой. На ней были очки в золоченой оправе и чепец медсестры.
– Кто вы? – спросила я слабым голосом.
– Гостиничная медсестра.
– Что со мною?
– Отравление. У вас у всех отравление. Никогда не видела ничего подобного. И эту тошнит, и эту. Чем это вы, милые девушки, сегодня объелись?
– А что, еще кто-нибудь заболел? – с некоторой надеждой спросила я.
– Да все вы больны. Скулите, как собачонки, и зовете мамочку.
Комната вокруг меня преобразилась, исполнившись величайшего благородства, словно стулья, столы и стены перестали давить на меня всей своей тяжестью из сочувствия к моим страданиям и моей внезапно открывшейся уязвимости.
– Тебе сделали укол, – сказала медсестра, уже выходя из моего номера. – Сейчас ты уснешь.
И на том месте, где она только что стояла, возникла, как большой лист белой бумаги, дверь, а потом на месте двери возник белый лист еще большего формата, и я поплыла навстречу ему и с улыбкой погрузилась в сон.
* * *
Кто-то стоял у постели, протягивая мне белую чашку:
– Выпей-ка!
Я подняла голову. Подушка затрещала, как ворох соломы.
– Выпей, и тебе полегчает.
Толстостенную белую фарфоровую чашку поднесли прямо к моему носу. В призрачном свете, означавшем не то сумерки, не то вечер, я разглядела чистую и приятно пахнущую жидкость. На ее поверхности плавали масляные пятна, и ноздрей моих достиг слабый аромат курятины.
Я пристально вгляделась в юбку, служившую этой чашке фоном.
– Бетси, – пролепетала я.
– На хрен твою Бетси, это я.
Я подняла глаза и увидела Дорин. Ее волосы на фоне закатного окна, казалось, были охвачены золотым обручем. Лицо ее оставалось в тени, так что о выражении его я могла только догадываться, но почувствовала, как из кончиков ее пальцев струятся нежность и опыт. Сейчас она могла бы и впрямь сойти за Бетси, или за мою мамашу, или за пахнущую папоротником медсестру.
Я повернула голову и попробовала бульон. Мне показалось, что весь рот у меня набит песком. Я сделала еще один глоток, потом еще один и наконец выпила всю чашку.
Я почувствовала себя очищенной, благостной и готовой начать новую жизнь.
Дорин поставила чашку на подоконник, а сама села в кресло. Я заметила, что она не полезла за сигаретами, и, поскольку обычно она курила не переставая, это удивило меня.
– Что ж, ты чуть было не померла, – спокойно произнесла Дорин.
– Думаю, это из-за икры.
– Икра тут ни при чем. Все дело в начинке из крабов. Провели анализ и выяснили, что там было полным-полно птомаина.
Перед моим мысленным взором возникла череда стерильно белых кухонек «Женского журнала», уходящая в бесконечность. Я увидела, как один плод авокадо за другим разрезают, очищают и фаршируют крабами под майонезом, а потом фотографируют под ослепительными вспышками магния. Я увидела нежное, розовое в крапинку мясо, соблазнительно выглядывающее из-под пелены майонеза, и бледно-желтую чашку плода с крокодилово-зеленым ободком, в которую была заложена такая мина.
Отрава.
– А кто проводил анализ?
Я подумала, что доктор вскрыл кому-нибудь из нас живот и проанализировал в гостиничной лаборатории его содержимое.
– Да эти скоты из «Женского журнала». Как только вы все тут принялись блевать и ходить под себя, как младенчики, кто-то позвонил в офис, а из офиса перезвонили в «Женский журнал», и там взяли на анализ все, что оставалось от вашего банкета. Ну и умора!
– Ну и умора! – машинально отозвалась я. Хорошо было вновь оказаться в компании с Дорин.
– Вам прислали подарки, – добавила она. – Они в большой картонке, а картонка в коридоре.
– А как это они успели?
– Экстренная доставка! А как ты себе это представляешь? Не могли же они допустить, чтобы вы бегали по городу и рассказывали каждому встречному о том, как вас отравили в «Женском журнале». Если бы вы наняли хорошего адвоката, вы могли бы обобрать этот журнал подчистую.
– А что за подарки?
Мне начало казаться, что, если подарок будет достаточно хорош, я перестану расстраиваться из-за случившегося, тем более что в конце концов я чувствую себя такой чистой.
– Коробку еще не открыли, потому что все пока валяются у себя в номерах. Мне велели разнести бульон по комнатам, потому что я осталась единственной ходячей. Ну а я решила начать с тебя.
– Посмотри, что это за подарок, – взмолилась я. А затем, кое-что вспомнив, добавила: – У меня для тебя тоже есть подарок.
Дорин вышла в коридор. Я услышала шорох разрываемого картона, и тут же она вернулась, держа в руке толстую книгу в твердом переплете. Вся обложка была покрыта какими-то фамилиями.
– «Тридцать лучших рассказов года»! – Она бросила книгу мне на живот. – И еще одиннадцать точно таких же, в той же коробке. Наверно, они решили, что нужно же вам что-нибудь почитать, пока вы тут валяетесь. – Она сделала паузу. – Ну, а где мой подарок?
Я полезла в сумочку и передала Дорин украшенное маргаритками зеркальце с ее именем. Дорин посмотрела на меня, я выдержала ее взгляд, и мы обе расхохотались.
– Если хочешь, можешь и мой бульон выпить, – сказала она. – Они по ошибке налили двенадцать чашек, а мы с Ленни обожрались «жареными собаками», пока пережидали дождь, и в меня больше ничего не влезет.
– Ну так тащи, – сказала я. – Я умираю от голода.
5
На следующее утро в семь часов зазвонил телефон.
Я медленно вынырнула с самого дна черной дремоты. За зеркалом у меня уже была засунута телеграмма от Джей Си с выражением соболезнований по поводу крабовой начинки, пожеланием выздоровления и милостивым разрешением не являться сегодня в офис.
Поэтому я просто не представляла, кто бы это еще мог позвонить.
Я потянулась за трубкой и, взяв ее, положила подушку себе под щеку.
– Алло!
На другом конце провода был мужчина.
– Это мисс Эстер Гринвуд?
Мне показалось, что я расслышала в голосе легкий иностранный акцент.
– Вот именно.
– А это Константин Такой-то.
Фамилию я не разобрала, но в ней полно было звуков «с» и «к». Я знать не знала никакого Константина, но сразу же заявить об этом не решилась.
А потом вспомнила о миссис Уиллард и ее переводчике-синхронисте.
– Ну да, конечно же! – воскликнула я, садясь на кровати и берясь за трубку обеими руками. Хотя я и не давала миссис Уиллард разрешения знакомить меня с кем-нибудь по имени Константин.
Я коллекционирую знакомых с интересными именами. К тому времени у меня уже был приятель по имени Сократ. Высокого роста, страшный, как смерть, и чрезвычайно интеллектуальный, он был сыном крупного греческого кинопродюсера из Голливуда. Но к тому же он был еще и католиком, что означало полную бесперспективность наших взаимоотношений. Вдобавок к Сократу, я была знакома с русским белоэмигрантом по имени Аттила. Он работал в Бостонском институте менеджмента.
Постепенно я начала осознавать, что Константин пытается назначить мне свидание на сегодняшний вечер.
– Не угодно ли вам во второй половине дня осмотреть здание ООН?
– Я его как раз осматриваю, – ответила я с легким истерическим смешком.
Мой собеседник остался в полном недоумении.
– Я вижу его из окна.
Возможно, ему казалось, что я говорю по-английски чересчур быстро. В разговоре возникла пауза.
Затем он сказал:
– А потом мы где-нибудь перекусим.
Я почуяла одно из любимых выражений миссис Уиллард, и душа у меня ушла в пятки. Миссис Уиллард всегда приглашала вас «перекусить». Я вспомнила, что этот человек, едва приехав в Штаты, гостил у миссис Уиллард. Она участвовала в одной из тех программ, согласно которым вы принимаете иностранца у себя в доме, а потом, отправившись за границу, живете у него.
И я поняла, что миссис Уиллард пожертвовала своим шансом пожить в России в обмен на сделанное мне приглашение перекусить в Нью-Йорке.
– Хорошо, я с удовольствием с вами перекушу, – невольно передразнила я. – А в котором часу вы за мной заедете?
– Я заеду в два. Я сам поведу машину. Вы ведь живете в гостинице «Амазонка»?
– Да.
– Что ж, я знаю, где это.
Сперва я подумала было, что в его последнем замечании есть некий тайный смысл, но потом сообразила, что наверняка кто-нибудь из девиц, живущих в «Амазонке», работает в ООН и Константину довелось с одной из них встречаться. Я предоставила ему возможность положить трубку первым, бросила затем свою и сердито откинулась на подушки.
Затем я опять принялась предаваться фантазиям о встрече с человеком, который страстно полюбит меня с первого взгляда, – и все это на основе таких жалких авансов! Осмотр здания ООН с последующим сэндвичем!
Я попыталась разобраться в своих чувствах.
Возможно, переводчик-синхронист, подсунутый мне миссис Уиллард, окажется уродливым коротышкой, и мне придется поглядывать на него свысока, как я в конце концов начала смотреть на Бадди Уилларда. Эта мысль принесла мне известное удовлетворение, потому что я действительно смотрела на Бадди Уилларда свысока, и, хотя все на свете были по-прежнему убеждены в том, что я выйду за него замуж, как только его выпишут из туберкулезного санатория, я-то знала, что никогда не выйду за него, даже если на Земле не останется больше ни одного мужчины.
Потому что Бадди Уиллард оказался лицемером.
Разумеется, сначала я об этом и не догадывалась. Я думала, что парня приятней него на целом свете нет. В течение пяти лет я обожала его издалека, а он на меня даже и не смотрел, а потом началось воистину замечательное время, когда я все еще обожала его, а он уже не мог отвести от меня глаз, а потом, когда его чувства становились все сильнее и сильнее, я, по чистой случайности, обнаружила, каким чудовищным лицемером он на самом деле является, – и вот теперь он собирался на мне жениться, а я ненавидела его всей душой. Самым скверным в этом было то, что я не могла просто так взять да и высказать ему все, что я о нем думаю, потому что, прежде чем мне представилась такая возможность, он подцепил туберкулез, и теперь мне предстояло утешать и подбадривать его до тех пор, пока он не окрепнет настолько, чтобы выслушать убийственную правду.
Я решила не спускаться завтракать в кафетерий. Ведь для этого понадобилось бы одеться, а какой смысл одеваться, если хочешь провести все утро в постели? Конечно, я могла бы, наверное, позвонить и заказать завтрак в номер, но это означало бы, что мне придется дать тому, кто принесет его, на чай, а я никогда не знала, сколько именно нужно давать. Здесь, в Нью-йорке, пытаясь дать на чай, я уже несколько раз попадала в пренеприятпейшие истории.
Как только я впервые прибыла в гостиницу «Амазонка», лысый карлик в униформе служащего отеля подхватил мой чемодан, донес его до лифта, проводил меня до номера и отпер его. Разумеется, я сразу же кинулась к окну, чтобы посмотреть, какой из него открывается вид. Через некоторое время я обнаружила, что карлик по-прежнему торчит в номере, крутит зачем-то краны умывальника, приговаривая: «Вот это холодная вода, а это горячая», включает и выключает радио и рассказывает мне, как называются нью-йоркские вокзалы, поэтому мне стало как-то не по себе, и я, отвернувшись от него, решительно произнесла:
– Благодарю вас за то, что поднесли мой чемодан.
– «Благодарю вас!» Ну и ну! – Передразнив меня, он саркастически рассмеялся и, прежде чем я обернулась посмотреть, что это на него нашло, ушел, хлопнув дверью со страшной силой.
Позже, когда я поделилась своим недоумением с Дорин, она воскликнула:
– Ах ты, дурочка! Он ждал, что ты ему дашь на чай.
Я спросила, сколько же ему полагалось дать, и Дорин сказала, по меньшей мере четвертак, а если чемодан был очень тяжелый, то и все тридцать пять центов. Но я прекрасно могла дотащить чемодан и сама, а позволила бою помочь себе только потому, что ему так явно этого хотелось. Мне казалось, что такого рода услуги входят в стоимость номера.
Терпеть не могу платить людям за то, что прекрасно могу сделать сама, это страшно меня нервирует.
Дорин сказала, что чаевые должны составлять десять процентов от суммы счета, но у меня как-то все время не оказывалось нужного количества мелочи, а глупо ведь протягивать человеку полдоллара со словами: «Тут вам пятнадцать центов на чай, а тридцать пять извольте, пожалуйста, вернуть».
Впервые взяв в Нью-Йорке такси, я дала водителю на чай десять центов. На счетчике был доллар, поэтому я решила, что десять центов – это именно то, что нужно, и протянула свой гривенник таксисту с улыбкой и даже чуть разрумянившись. Но он подержал его в горсти – и все глядел на него, все глядел, словно не в силах был отвести глаз, и когда я уже вылезла из машины не без опасения, что ухитрилась сунуть ему канадский десятицентовик вместо американского, он вдруг запричитал:
– Мадам, я ведь тоже живой человек. Мне тоже есть надо! – И причитал он таким громким голосом, что я бросилась бежать. К счастью, на светофоре зажегся красный, иначе он, должно быть, погнался бы за мной на своей машине.
Когда я попросила Дорин объяснить мне, в чем состояла моя промашка, она сказала, что, должно быть, с тех пор как она в последний раз была в Нью-Йорке, правила переменились и на чай теперь следует давать пятнадцать процентов. Или так, или конкретно этот водитель оказался самым настоящим рвачом.
* * *
Я потянулась за книгой, присланной из «Женского журнала».
Когда я открыла ее, из книги выпала карточка типа почтовой открытки. На лицевой стороне ее был изображен пудель в цветастом жакетике, сидящий с грустной мордочкой на подстилке, а на внутренней стороне тот же пудель растянулся на подстилке с блаженным видом, он явно спал и видел хороший сон, а внизу шла стихотворная надпись: «Покой и сон – и малютка спасен». Она была отпечатана типографским шрифтом, а внизу кто-то приписал от руки чернилами: «Поскорей поправляйся! Твои подруги из „Женского журнала"».
Я перелистывала страницы, просматривая один рассказ за другим, пока не дошла до истории о смоковнице.
Эта смоковница росла на зеленом лугу, расположенном между домом одного еврея и католическим монастырем, и каждое утро еврей и прекрасная монахиня, одетая в черное, встречались под деревом и собирали спелые смоквы, пока однажды они не увидели, как в птичьем гнезде, устроенном на одной из веток смоковницы, лопнуло яйцо и из него вылез наружу крошечный птенчик. И пока они следили за этим, их руки переплелись, и с тех пор молодая монахиня больше никогда не приходила собирать смоквы с евреем, а вместо нее приходила уродливая кухарка, и, закончив сбор плодов, она всегда пересчитывала смоквы, чтобы еврею не досталось больше, чем ей, причем его это приводило в величайшее бешенство.
Я подумала о том, что это замечательный рассказ, особенно в той части, где речь шла о смоковнице зимой, под снегом, и о ней же весной, когда она покрыта зелеными листьями. Дочитав рассказ до конца, я расстроилась. Мне захотелось прокрасться между строчками, примерно так, как пробираешься сквозь дыру в заборе, и улечься спать под этой чудесной смоковницей.
Мне показалось, что мы с Бадди Уиллардом были похожи на этого еврея с его монахиней, хотя, конечно же, мы не были ни евреями, ни католиками. Мы оба были унитарианского вероисповедания. И все же мы с ним встретились под нашей воображаемой смоковницей, и хоть наблюдали мы не за тем, как птенец вылезает из скорлупы, а за тем, как ребенок появляется на свет из материнского лона, но потом случилось нечто ужасное, и мы разошлись каждый своей дорогой.
Лежа сейчас в моей белой, чистой гостиничной кроватке, я почувствовала себя одинокой и слабой и вообразила, будто нахожусь в санатории в Адирондаке, – и тут же ощутила себя последней дрянью. В своих письмах Бадди постоянно извещал меня о том, что он читает поэта, бывшего одновременно и врачом, и о том, что ему удалось выяснить, будто какой-то знаменитый русский писатель-новеллист был доктором тоже, и не означает ли это, что творчество и врачевание могут прекрасно уживаться друг с другом.
Эта песня сильно отличалась от той, которую Ьадди пел мне оба года нашего знакомства. Я прекрасно помню, как однажды он с улыбкой спросил у меня:
– А знаешь, Эстер, что такое стихотворение?
– Нет. А что?
– Куча дерьма.
И он посмотрел на меня, столь явно гордясь тем, как ему пришла в голову такая замечательная мысль, что я перевела взгляд на его белокурые волосы, синие глаза и белые зубы – а у него были очень белые и очень здоровые крупные зубы – и сказала:
– Наверное.
И только целый год спустя, уже в Нью-Йорке, я поняла, что мне нужно было тогда ему возразить.
Я провела кучу времени в мысленных поединках с Бадди Уиллардом. Он был на пару лет старше меня и очень эрудирован, так что в наших спорах постоянно брал верх. В разговорах с ним мне неизменно приходилось держать ухо востро.
Мысленные поединки с Бадди до определенной развилки в точности следовали за нашими подлинными беседами, но там, где я в яви, потупив голову, отвечала: «Наверное», в мыслях я разражалась какой-нибудь остроумной и язвительной тирадой.
И сейчас, лежа на спине, я представила себе, как Бадди задает мне вопрос:
– А знаешь, Эстер, что такое стихотворение?
– Нет. А что? – отвечаю я.
– Куча дерьма.
И тут, пока он улыбается и пыжится от гордости, я отвечаю:
– А что такое, по-твоему, трупы, которые ты вскрываешь? Кучи дерьма. И люди, которых ты, как тебе кажется, лечишь. Кучи дерьма. Дерьмо как дерьмо. Мне сдается, что хорошо написанное стихотворение живет куда дольше, чем сотня таких людей.
И разумеется, на это у Бадди не нашлось бы никакого ответа, потому что я сказала бы ему сущую правду. Люди сделаны из дерьма, люди набиты дерьмом, и я не понимаю, почему лечить это дерьмо – занятие более достойное, чем сочинять стихи, которые кто-нибудь может запомнить и прочитать наизусть другому в часы тоски, болезни или бессонницы.
Беда моя была в том, что я принимала все, что говорил мне Бадди Уиллард, за чистую монету. Помню первую ночь, когда он поцеловал меня. Это было после дня первокурсника в Иейле.
Странны были сами по себе обстоятельства, при которых он пригласил меня на этот праздник.
На рождественские каникулы он вдруг свалился к нам в дом как снег на голову. Он был в толстом белом свитере и казался таким красивым, что я буквально не могла отвести от него глаз. А он возьми да и скажи:
– А можно мне как-нибудь заехать в колледж повидаться с тобой, а?
Я была просто потрясена. До этих пор я видела Бадди лишь по воскресеньям в церкви, куда мы приезжали каждый из своего колледжа, и только с порядочного расстояния; и я не могла понять, почему это он вдруг заявился повидать меня, – а ему пришлось пробежать от своего дома до нашего две мили, но он сказал, что это он так готовится к кроссу.
Разумеется, наши матери между собой дружили. Они вместе ходили в школу, а потом обе вышли замуж за своих учителей и осели в одном и том же городишке, но Бадди все время, пока мы учились в начальной школе, вечно куда-нибудь уезжал – то на семинар для одаренных подростков, то – летом – подработать денег в Монтане, поэтому дружба наших матерей не имела ровным счетом никакого значения.
После этого неожиданного визита я долгое время ничего о Бадди не слышала, аж до одного милого субботнего утра в начале марта. Я сидела у себя в комнате общежития и готовилась к предстоящему в понедельник экзамену по истории крестовых походов, штудируя жизнеописания Питера Отшельника и Уолтера Нищеброда, – и тут у нас на первом этаже зазвонил телефон. Обычно девицы спускались в холл к телефону по очереди, но поскольку я была единственной младшекурсницей на этаже, чаще всего гоняли вниз меня. Я обождала минуту, чтобы выяснить, не опередил ли кто-нибудь меня или, наоборот, не перегонит ли. Но потом сообразила, что никого нет – кто играет в сквош, кто уехал на уик-энд, – и подойти пришлось мне самой.
– Это ты, Эстер? – спросила дежурная, сидящая внизу. – Вот и хорошо: тебя какой-то мужчина спрашивает.
Услышав это, я крайне удивилась, потому что никто из мимолетных кавалеров, с которыми я встречалась на протяжении года, ни разу не позвонил мне и не попросил о повторном свидании. Мне, честно говоря, просто не везло. Я терпеть не могла спускаться вниз каждый субботний вечер, с руками, покрывшимися потом, и с дрожью любопытства во всем теле, – дожидаться, пока какая-нибудь из старших девиц не захочет познакомить меня с сыном лучшей подруги своей тетушки, и обнаруживать себя в компании с каким-нибудь бледным, грибообразным существом, у которого непременно торчащие уши, или заячья губа, или полиомиелит. Мне казалось, что я заслуживаю иного. В конце концов, я ведь не была ни калекой, ни страшилой, а просто училась с таким прилежанием, что не умела остановиться.
Что ж, я причесалась, тронула губы помадой и взяла с собой учебник истории – так я смогу сказать незнакомцу, будто иду в библиотеку (предосторожность нелишняя, потому что меня вполне могло дожидаться какое-нибудь чудовище), – и вот я отправилась к главным воротам и обнаружила там Бадди Уилларда. Он стоял, облокотившись о столик, на котором раскладывают почту. Он был в куртке цвета хаки на молнии, в синих шароварах и в легких, однако же зимних серых башмаках. Увидев меня, Бадди ухмыльнулся.
– Просто заехал поздороваться, – сказал он.
Мне показалось странным, что можно приехать в такую даль из Йейля, пусть даже автостопом, чтобы сэкономить деньги, – и все для того, чтобы просто поздороваться.
– Привет, – сказала я. – Пойдем-ка посидим на улице.
Я хотела выйти из помещения, потому что дежурила сегодня крайне любопытная старшекурсница и она уже поглядывала на меня с любопытством. Она пребывала в явном убеждении, что у Бадди плохой вкус.
Мы сели рядышком в два плетеных кресла. Небо было безоблачным, ветра не было, и нам стало чуть ли не жарко.
– У меня всего несколько минут, – начал Бадди.
– Да брось ты, оставайся лучше на ленч.
– Увы, не могу. Я иду на день первокурсников с Джоан.
Я почувствовала себя полной идиоткой.
– Как дела у Джоан? – спросила я холодно.
Джоан Джиллинг была из того же города, что и мы с Бадди, ходила с нами в одну церковь и училась в нашем колледже на курс старше меня. Здесь у нас она слыла важной шишкой – староста класса, председатель физического кружка, лучшая хоккеистка всего колледжа. Меня всегда подташнивало от нее – с ее огромными, цвета морской гальки глазами, с огромными, как могильные камни, зубами и оглушительным голосом. И вся она была огромна, как лошадь. Теперь уже я начала подозревать, что у Бадди плохой вкус.
– Да ведь ты ее знаешь. Она пригласила меня на эту танцульку за два месяца, и ее мать спросила у моей, соглашусь ли я на это, так что же мне еще оставалось делать?
– Ну, а почему ж ты согласился, если на самом деле тебе этого не хочется? – Голос мой прозвучал как-то подловато.
– Но мне нравится Джоан. Ей всегда наплевать на то, тратишь ты на нее деньги или нет, и ей по душе вылазки на природу. В последний раз, когда она приезжала ко мне в Йейль на уик-энд, мы приняли участие в велокроссе на Ист-Рок, и она оказалась единственной, кому не пришлось помогать на подъеме. Джоан – мировая девка.
Я похолодела от зависти. Я никогда не была в Иейле, а именно там большинству наших старшекурсниц особенно нравилось проводить уик-энды. Я решила, что от Бадди Уилларда мне ждать нечего. А если от человека ничего не ждешь, то он не способен разочаровать тебя.
– Пойди-ка тогда лучше да поищи Джоан, – сказала я деловитым тоном. – Через пару минут здесь появится мой парень, и ему вряд ли придется по вкусу, что я тут с тобой ошиваюсь.
– Твой парень? – Бадди был в полном недоумении. – А кто же это такой?
– Их, собственно говоря, двое. Питер Отшельник и Уолтер Нищеброд.
Бадди ничего не ответил, поэтому я поспешила добавить:
– Такие уж у них клички. – И, еще немного подумав – Они из Дартмута.
Подозреваю, что Бадди никогда не заглядывал в учебник истории, потому что я заметила, как он поджал губы. Он рывком поднялся из кресла и без особой надобности поддал ему ногой. Затем он бросил мне на колени бледно-голубой конверт с эмблемой Йейля.
– Здесь письмо, которое я собирался оставить для тебя в том случае, если не застану. В нем вопрос, на который ты можешь ответить тоже в письме. Задавать его тебе прямо сейчас мне как-то не хочется.
После его ухода я вскрыла конверт. Там было приглашение на день первокурсника в Иейле.
Я пришла в такое изумление, что, издав сперва нечленораздельный вопль, ворвалась в здание с криками:
– Еду! Еду! Еду!
После яркого солнечного света на крыльце здесь было темно, и я практически ничего не видела. Вдруг я обнаружила, что обнимаю и похлопываю по плечам дежурную. Услышав о том, что я еду на день первокурсника в Йейле, она продемонстрировала удивление и подчеркнутое уважение.
И, странное дело, отношение ко мне после этого резко переменилось. Старшекурсницы с нашего этажа начали сами со мной заговаривать и, случалось, услышав телефон, немедленно спешили к нему. И никто больше не делал громких и язвительных замечаний у меня под дверью о людях, тратящих золотое времечко в колледже на бессмысленную зубрежку.
Однако же на протяжении всего праздника Бадди обращался со мною так, как будто я доводилась ему тетушкой или кузиной.
Мы танцевали на гигантской дистанции друг от друга, пока музыканты не заиграли «Старый добрый грех», – и тут Бадди вдруг положил подбородок мне на макушку, как будто внезапно лишился последних сил. Затем на холодном черном ветру, какой только и дует в три часа ночи, мы медленно прошли расстояние в пять миль от танцевального зала до дома, в котором мне предстояло переночевать на короткой для меня кушетке в гостиной, но стоил такой ночлег всего пятьдесят центов, а вовсе не два доллара, как брали в домах с приличными кроватями.
Я была мрачна, плоска и полна самых смутных видений.
Я вообразила, будто Бадди влюбился в меня за этот уик-энд, и мне, следовательно, не придется больше до самого конца года ломать голову над тем, чем бы себя занять в субботу вечером. А когда мы уже практически подошли к дому, где меня ждала кушетка, Бадди сказал:
– Пойдем-ка наверх, в химическую лабораторию.
Я страшно удивилась:
– В химическую лабораторию?
– Да. – Бадди взял меня за руку. – Оттуда открывается чудесный вид.
И конечно же, в дальнем конце этой лаборатории нашелся закуток, откуда можно было увидеть огни Ныо-Хейвена.
Я застыла, делая вид, будто любуюсь ими, пока Бадди старался встать потверже. Когда он начал целовать меня, я держала глаза открытыми и пыталась не просто запомнить, а навсегда сохранить в памяти эти огни.
Наконец Бадди от меня оторвался:
– Ух ты!
– Что значит «ух ты»?
Меня удивила его реакция. Поцелуи наши были суховаты и мало вдохновляющи, и я, помнится, еще подумала, как это скверно, что от долгой прогулки у нас обоих растрескались губы.
– Ух ты, мне страшно нравится целоваться с тобой!
В ответ на что я скромно промолчала.
– Думаю, у тебя куча парней, – добавил Бадди.
– Можно сказать и так.
И действительно, можно было сказать и так, потому что каждую неделю я «отправлялась в свет» с кем-нибудь другим.
– Да, но мне приходится много заниматься.
– Мне тоже, – заспешила я. – Мне ведь необходимо получить стипендию.
– И все-таки, надеюсь, я смогу с тобой видеться по уик-эндам один раз в три недели.
– Это было бы недурно.
Я едва не лишилась чувств: так мне захотелось побыстрей вернуться в колледж и похвастаться перед подругами.
Бадди поцеловал меня еще раз, на прощание, у дверей дома, а на следующую осень, когда он получил стипендию в Высшей медицинской школе, я ездила к нему не в Йейль, а туда – и именно там я и выяснила, как он дурачил меня все эти годы и каким лицемером он был на самом деле.
Я выяснила это в тот день, когда мы присутствовали при родах.








