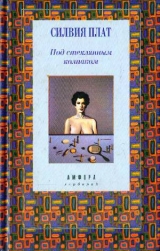
Текст книги "Под стеклянным колпаком"
Автор книги: Сильвия Плат
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
2
Квартиру Ленни невозможно было спутать с чьей-нибудь другой.
Она представляла собой точную копию внутреннего дворика на каком-нибудь ранчо, оборудованную, однако же, в многоквартирном нью-йоркском доме. Как он рассказал, кое-что тут ему пришлось перестроить, чтобы сделать помещение пошире, а к тому же он велел обшить сосновой панелью стены и соорудил специальный, также из сосновой панели, бар в форме подковы. Пол, как мне кажется, тоже был обшит сосной.
Огромные шкуры белых медведей были раскиданы па полу, а единственной мебелью служили несколько низких кроватей, застланных индейскими коврами. Вместо картин стены были украшены лосиными и бычьими рогами и чучелом кроличьей головы. Ленни потрепал кролика за нос и за окоченело застывшие уши:
– Переехал через него в Лас-Вегасе.
Он прошелся по комнате, и стук его каблуков казался пистолетными выстрелами.
– Акустика, – прокомментировал он и, становясь все меньше и меньше, исчез в каком-то внутреннем помещении.
И сразу же со всех сторон па нас обрушилась музыка. Затем она смолкла, и мы услышали голос Ленни, произносящий: «Перед вами ваш полуночный диск-жокей Ленни со свежею порцией пляски и пенья. Наш Номер Десять в силах перевесить ту штуку, что развеяла скуку прошлою ночью, разорвав ее в клочья. Итак, для самых бессонных ночная песня „Подсолнух"!»
Родилась я в Канзасе, обжилась я в Канзасе,
И когда отдалась – отдалась я в Канзасе!
– Зашибись, – сказала Дорин. – Просто зашибись.
– Не то слово.
– Послушай-ка, Элли, обещай мне кое-что, ладно?
Сейчас ей наверняка уже казалось, что меня и на самом деле так зовут.
– Конечно!
– Не вздумай сваливать, хорошо? А то мне с ним не совладать, если он вдруг начнет чудить. Ты видала, какие у него мускулы? – Дорин хихикнула.
Ленни вышел из задней комнаты:
– У меня тут на двадцать тысяч аппаратуры.
Он подошел к бару, взял три бокала и серебряное ведерко со льдом, а также большой миксер и принялся смешивать нам коктейль, подливая из разных бутылок.
Обещала мне ждать – и велела мне ждать.
А когда позабыла – позабыла мне дать.
– Потрясуха, точно?
Ленни подошел к нам, держа в руках все три бокала. Большие капли выступили на их поверхности, как пот, а кубики льда, пока он приближался к нам, звенели. И продолжали звенеть, когда Ленни передал бокалы нам. И тут музыка прервалась, и мы услышали, как голос Ленни объявляет следующий номер.
– Ничего нет приятней, чем послушать самого себя. Эй, подружка! – Взор Ленни на мгновение задержался на мне. – Фрэнки свалил, и хрен с ним. А тебе-то чего пропадать? Сейчас я свистну кого-нибудь из парней.
– Со мной все в порядке. Никого звать не нужно.
Не сообщать же ему, что хорошо бы позвать парня на несколько размеров больше, чем Фрэнки.
Ленни с явным облегчением вздохнул.
– Главное, чтобы тебе было хорошо. Я не хочу обижать подружку моей Дорин. – Он широко улыбнулся ей. – Верно ведь, солнышко?
Он протянул Дорин руку, и, не сказав друг другу ни слова, они принялись пританцовывать на месте, по-прежнему держа бокалы в свободной руке.
Я села на одну из кроватей и закинула ногу на ногу. Я старалась выглядеть равнодушной и бесстрастной. Однажды я видела группу пожилых бизнесменов, видела, как они безучастно наблюдают за алжирской танцовщицей, исполняющей танец живота, – вот на них я и попыталась было походить. Но стоило мне прислонить голову к стене под чучелом кролика, как кровать поехала по комнате на колесиках, я слетела с нее и очутилась внизу, на медвежьей шкуре, и голова моя прислонилась не к стене, а к кровати.
Мой напиток был каким-то водянистым и навевал на меня печаль. Каждый глоток все больше и больше отдавал на вкус затхлой водой. Посредине бокала было нарисовано алое лассо с желтыми крапинками. Я отпила уже на дюйм ниже этого лассо, немного обождала, а когда вновь поднесла бокал к губам, он был почему-то опять полон.
Откуда-то сверху, из динамиков, доносился голос Ленни:
– Вай-вай-вай, где мой родной Вайоминг?
Эта парочка не прекращала приплясывать даже в интервалах между музыкальными номерами. Мне показалось, будто я съежилась и превратилась в крошечное черное пятнышко на всех этих красных и белых коврах и сосновых панелях. Я чувствовала себя щелью в здешнем полу.
Есть нечто глубоко печалящее в том, что наблюдаешь, как двое людей все более и более влюбляются друг в дружку, особенно если ты единственный свидетель этой сцены.
Это все равно, что смотреть на Париж из окна купе, а поезд твой уносится прочь – и с каждой секундой город становится все меньше и меньше, и ты понимаешь, что на самом-то деле меньше и меньше, все более одинокой становишься ты, уносясь от всех тамошних огней, приключений и восторгов со скоростью миллион миль в час.
Все чаще и чаще Ленни и Дорин сталкивались друг с дружкой во время танца – и тогда они целовались, отхлебывали из бокалов и вновь обнимались. Мне хотелось просто растянуться здесь, на медвежьей шкуре, и заснуть, и проспать до той поры, пока Дорин не вздумается отправляться домой.
И вдруг Ленни взревел. Я села на полу. Дорин впилась зубами в ухо своему кавалеру.
– Отпусти, сука!
Ленни рванулся, и Дорин, взлетев в воздух, оказалась у него на плече, бокал выпал у нее из руки и, описав по воздуху длинную и широкую дугу, со слабым звоном ударился о стенную панель. Ленни, держа в руках Дорин, по-прежнему ревел и вертелся на месте с такой скоростью, что мне было совершенно не видно ее лица.
Я заметила, почти автоматически, как отмечаешь цвет чьих-либо глаз, что груди Дорин выскользнули из платья и слегка качаются в воздухе, как две спелые темно-янтарные дыни, а сама она, упав животом на плечо Ленни и судорожно суча ногами, кружится по комнате; но тут они оба расхохотались и начали кружиться помедленней, и Ленни потянулся укусить Дорин за попку сквозь платье в обтяжку – а я опрометью бросилась бежать из квартиры, чтобы не становиться свидетельницей дальнейшего, и, держась обеими руками за перила, кое-как спустилась по лестнице, причем даже не столько спустилась, сколько съехала.
Пока я не очутилась на лестнице, я и не подозревала о том, что в квартире у Ленни работал кондиционер. Тропическая, скопившаяся за день на тротуаре жара обрушилась на меня последней пощечиной. И главное, я и понятия не имела, где нахожусь.
Минуту-другую я подумывала о том, чтобы взять такси и поехать в конце концов на званый вечер, где веселились мои подруги, но затем отказалась от этой мысли, потому что танцы скорей всего уже закончились и мне вовсе не хотелось попасть в опустевший ангар танцевального зала, пол в котором усеян конфетти, окурками и скомканными салфетками, какие подают к коктейлям.
Я осторожно подкралась к ближайшему перекрестку, для пущей безопасности проводя пальцем левой руки по стенам домов, и поглядела на указатель. Затем достала из сумочки туристический план Ныо-Йорка. Сорок три улицы и пять авеню отделяли то место, где я сейчас находилась, от гостиницы.
Ходьба пешком никогда не причиняла мне никаких неудобств. Определив нужное направление, я пошла, ведя про себя счет пройденным кварталам, и, когда очутилась наконец в гостиничном холле, почувствовала себя полностью отрезвевшей, и только ноги себе слегка натерла, по и то по своей вине, потому что не надела носков или чулок.
Хол был совершенно пуст, если не считать ночной дежурной, тихо посапывающей у себя за стойкой посреди ключей от номеров и безмолвных телефонных аппаратов.
Я вошла в автоматический лифт и нажала кнопку своего этажа. Дверца лифта съехалась беззвучной гармошкой. В ушах у меня зазвенело, к я увидела огромную, грязноглазую китаянку, идиотически уставившуюся мне в лицо. Разумеется, это была я сама. Неприятно было убедиться в том, насколько усталой и потрепанной я выгляжу.
В холле на этаже не было ни души. Я прошла к себе в номер. Он был полон дыма. Сначала я подумала, что этот дым материализовался из воздуха, как своего рода воздаяние мне за мои грехи, но потом вспомнила, что здесь накурила Дорин, и нажала на кнопку, отворяющую форточку. Окна здесь были устроены так, что открыть их полностью и, скажем, высунуться наружу было нельзя, и почему-то это привело меня в бешенство.
Стоя у окна слева и прижавшись щекой к оконной раме, я видела панораму города со зданием ООН, подобным гигантскому зеленому улью в царящей вокруг него тьме. Я видела красные и белые огни на дороге и огни на мостах, названий которых не знала.
Тишина угнетала меня. Тишина и безмолвие. И это не было безмолвие окружающего. Это было мое собственное безмолвие.
Мне было совершенно точно известно, что автомашины производят какой-то шум, и люди в них и люди за освещенными окнами зданий производят шум, и река шумит, но я ничего не слышала. Город пребывал у меня за окном, плоский, как плакат, правда поблескивающий и вообще глянцевитый, – но с таким же успехом его могло там и не быть вовсе: не больно-то много радости он мне принес.
Фарфорово-белый телефонный аппарат на ночном столике мог связать меня с миром, но он был безмолвен, как голова покойника. Я попыталась вспомнить, кому я успела дать свой номер, чтобы загадать, кто бы все-таки мог мне сейчас позвонить, но единственной, кого я вспомнила, была мать Бадди Уилларда, взявшая мой номер, чтобы передать его какому-то своему знакомому переводчику-синхронисту, работающему в ООН.
Я коротко и сухо рассмеялась.
Могу себе представить, как будет выглядеть переводчик-синхронист, с которым меня хочет познакомить миссис Уиллард, если главным ее желанием было выдать меня за своего сына Бадди, проходящего сейчас курс лечения от туберкулеза в каком-то санатории в «Стране гор» – Адирондаке – в северо-восточной части штата. Мать Бадди даже ухитрилась найти для меня место официантки в этом санатории на лето, чтобы только Бадди не чувствовал себя таким одиноким. Ни она, ни сам Бадди так и не поняли, почему я предпочла вместо этого отправиться в Нью-Йорк. Зеркало над моим письменным столом было чуть потускневшим и, пожалуй, чересчур серебряным. Лицо, возникшее в нем, выглядело искривленным, как будто оно отражалось в металлическом оборудовании зубоврачебного кабинета. Я подумала было о том, чтобы забраться под простыни и попытаться заснуть, но это показалось мне настолько же отвратительным, как если бы я вложила грязное, испачканное жирными пальцами письмо в свежий, безукоризненно чистый конверт. Поэтому я решила принять горячую ванну.
Должно быть, есть на свете напасти, от которых не в силах исцелить и горячая ванна, но я таких почти не знаю. Как только меня начинает томить печаль, как только я чувствую себя умирающей, как только разнервничаюсь до такой степени, что не могу заснуть, как только в кого-нибудь влюблюсь или разлучусь с возлюбленным на неделю, как только дохожу до определенной точки отчаяния, я говорю себе: «А приму-ка я сейчас горячую ванну».
В ванне я предаюсь размышлениям. Вода должна быть предельно горячей – настолько горячей, что в нее страшно и больно поставить ногу. Затем, дюйм за дюймом, я постепенно погружаюсь в нее, пока вода не доходит до самого горла.
Я помню потолки в каждой ванной комнате, где мне доводилось принимать ванну. Я помню цвет и отделку потолков, помню их фактуру, помню трещины и темные пятна, помню, какой там имелся источник света. Я помню и сами ванны тоже: древние, стилизованные под античность сооружения на ножках грифона, и современные, сильно смахивающие на гроб конструкции, и роскошные ванны из красного мрамора, из которых открывается вид на дверь с орнаментом из речных лилий. И я помню форму и размеры всех кранов и всех тюбиков шампуня.
Нигде я не чувствую себя настолько собой, как в горячей ванне.
Я лежала в горячей ванне на семнадцатом этаже гостиницы только для женщин, высоко над суматохой и сумятицей Нью-Йорка, примерно час и в конце концов почувствовала себя очистившейся. Я не верю в крещение и в реки Иорданские или во что-нибудь другое в том же роде, но, сдается мне, в горячей ванне я ощущаю нечто схожее с тем, что испытывают верующие, погружаясь в освященную воду.
Я убеждала самое себя: «Дорин больше не существует, Ленни Шеперда больше не существует, Фрэнки больше не существует, Нью-Йорка больше не существует, их всех больше не существует, они растворяются, исчезают, не имеют никакого значения. Я их знать не знаю и никогда не знала, а сама я чрезвычайно чиста. Вся выпивка и все вонючие поцелуи, свидетелями которых я стала, и вся грязь, налипшая на мое тело по пути домой, превращаются сейчас в нечто чрезвычайно чистое».
И чем дольше я лежала в прозрачной горячей воде, тем чище себя считала, – и когда я вышла из ванны и закуталась в одно из белых мягких больших гостиничных полотенец, я казалась себе чистой и милой, как новорожденная.
* * *
Не знаю, как долго я спала, пока в дверь ко мне не постучали. Сперва я не придала этому значения, потому что человек, стучавшийся в мою дверь, приговаривал: «Элли, Элли, впусти меня, Элли». А я ведь никакой Элли знать не знала. Затем раздался стук совершенно иного рода – резкий и частый (а прежний был тяжелым и глухим) – и другой, куда более звонкий голос сказал: «Мисс Гринвуд, к вам тут друзья», и я сразу же поняла, что это Дорин.
Я вскочила на ноги и на мгновение чуть было не потеряла равновесие посреди темной комнаты. Я разозлилась на Дорин за то, что она меня разбудила. Мой единственный шанс забыть обо всем происшедшем заключался в том, чтобы хорошенько выспаться, а она ухитрилась отнять и его.
Я решила, что, если я сделаю вид, будто сплю и не слышу их, стук прервется, однако же этого не произошло.
– Элли, Элли, Элли, – бормотал первый голос, тогда как другой уже буквально шипел:
– Мисс Гринвуд, мисс Гринвуд, мисс Гринвуд.
Мне начало казаться, что у меня раздвоение личности.
Я открыла дверь и, моргая, уставилась в ярко освещенный коридор. Мне показалось, что стоит не день и не ночь, а какое-то сумеречное, третье время суток, внезапно втиснувшееся между ночью и днем, чтобы остаться в этом промежутке навеки.
Дорин стояла, держась за дверной косяк. Когда я вышла из комнаты, она рухнула Ко мне в объятия. Мне было не разглядеть ее лица, потому что голова у нее падала на грудь и белокурые волосы, вплоть до темных корней, закрывали его, а сами корни казались гавайской травяной юбочкой.
Я поняла, что низкорослая и широкоплечая женщина с усиками, одетая в черную униформу, была ночной дежурной. Она гладила наши дневные платья и бальные наряды в каморке, расположенной на этом же этаже. Я не могла взять в толк, откуда она знает Дорин и почему вдруг надумала помочь ей будить меня, вместо того чтобы препроводить в ее собственный номер.
Увидев, что Дорин очутилась в моих объятиях и затихла, если не считать нескольких влажных всхлипов, дежурная удалилась по коридору в свою кабинку к древней швейной машинке «Зингер» и к белой гладильной доске.
Мне хотелось броситься следом и заявить ей, что я знать не знаю никакой Дорин, потому что эта дежурная выглядела строгой, работящей и высоконравственной, как типичная иммигрантка из Европы былых времен, и напоминала мне мою австрийскую бабушку.
– Пусти меня, пожалуйста, – лепетала Дорин. – Пусти меня, пожалуйста, пусти меня, пожалуйста.
Мне показалось, что если я перенесу Дорин через порог и уложу ее к себе на постель, то уже никогда не смогу от нее избавиться.
Тело ее в моих руках было теплым и мягким, как ворох подушек, – особенно там, где она прижималась ко мне всей своей тяжестью, – а ноги ее в дурацких туфлях на высоком каблуке нелепо болтались в воздухе. Она была слишком тяжела, чтобы протащить ее по всему длинному коридору.
Я решила сделать единственно разумное – опустить ее на ковер прямо здесь, у порога, а самой пройти к себе в номер, запереться и лечь в постель. Когда Дорин проснется, она будет не в состоянии вспомнить, что с нею произошло, и решит, что, не добудившись меня, сама вырубилась под дверью, – а тогда поднимется и преспокойно отправится к себе в номер.
Я начала было осторожно опускать Дорин на зеленый ковер, но она внезапно всхлипнула и дернулась в моих руках. Струйка бурой рвоты вырвалась у нее изо рта и растеклась лужицей у меня под ногами.
И сразу же вслед за этим Дорин стала еще тяжелее. Ее голова, качнувшись, упала в лужицу, пряди белокурых волос опустились туда же, как корни дерева на подмытом рекой берегу, и я поняла, что она уснула. Я отшатнулась от нее. Я сама практически спала.
Этой ночью я приняла относительно Дорин важное решение. Я решила, что буду продолжать водить с ней знакомство, буду наблюдать за ней и слушать то, что она мне говорит, но в глубине души буду знать, что не имею с ней ничего общего. В глубине души я буду хранить верность Бетси и ее невинным подружкам. Я ведь на самом деле похожа не на нее, а на Бетси.
Я тихо прошла к себе в номер и закрыла за собой дверь. Немного поколебавшись, решила все же не запирать ее. Я просто была не в состоянии заставить себя это сделать.
Когда я проснулась душным и пасмурным утром, мне захотелось сперва одеться, побрызгать в лицо холодной водой и слегка подкрасить губы – и только после этого я медленно открыла дверь. Кажется, я боялась увидеть Дорин по-прежнему лежащей в лужице рвоты – чудовищное, но неопровержимое доказательство извращенности моей собственной натуры.
Но в коридоре никого не было. Ковер простирался из одного конца коридора в другой, чистый и как бы нетронутый, если не считать еле различимого темного пятна возле моей двери, как будто кто-то ненароком расплескал здесь стакан воды, но потом старательно затер следы инцидента.
3
На банкетном столе в редакции «Женского журнала» были расставлены разрезанные пополам зелено-желтые плоды авокадо, фаршированные крабами под майонезом, блюда с ростбифом и холодной курятиной и – на не слишком большом расстоянии друг от друга – объемистые креманки, полные черной икры. В этот день я не успела позавтракать в гостиничном кафетерии, ограничившись только чашкой черного кофе – настолько горького, что у меня защипало в носу, – и сейчас ощущала чудовищный голод.
До того как я приехала в Нью-Йорк, мне ни разу не довелось побывать в приличном ресторане. Если, понятно, не считать заведений вроде «Говарда Джонсона», в которых людишки типа Бадди Уилларда угощали меня исключительно жареной по-французски картошкой, чизбургерами и ванильным кремом. Не знаю, почему оно так, но хорошо поесть я люблю едва ли не больше всего на свете. И сколько ни съем, никогда не толстею. За одним-единственным исключением я сохраняю свой вес на протяжении уже десяти лет.
Мои любимые блюда хорошо заправлены маслом, сыром и жирной подливкой. В Нью-Йорке мы столько раз завтракали и обедали за казенный счет с сотрудниками редакции и со всякими заезжими знаменитостями, что у меня появилась привычка окидывать хищным взглядом твердые обеденные карточки с вписанным в них от руки сегодняшним меню, в котором разве что какой-нибудь гарнир из бобов стоил пятьдесят или шестьдесят центов, и выбирать самые шикарные, самые дорогие яства – и заказывать их сразу по нескольку.
Чувства вины я при этом не испытывала, потому что никому не приходилось платить за это из собственного кармана. Я следила за тем, чтобы управляться со своей трапезой достаточно проворно, иначе мне пришлось бы заставлять томиться моих спутниц, заказывавших себе, как правило, только зеленый салат и грейпфрутовый сок. Вели они себя так исключительно затем, чтобы похудеть. Почти все, с кем мне довелось встретиться в Нью-Йорке, стремились похудеть.
– Хочу от всей души поприветствовать самых хорошеньких и самых умных барышень, которых нам когда-либо доводилось принимать в нашей редакции, – произнес жирный и лысый распорядитель в свой ручной микрофон. – Этот небольшой банкет является всего лишь скромным проявлением гостеприимства, с которым наш «Женский журнал» и его прославленная «Экспериментальная кухня» встречают очаровательных посетительниц.
Пристойные, подобающие истинным барышням аплодисменты, – и мы усаживаемся за гигантский стол, застеленный крахмальной скатертью.
Здесь присутствовали одиннадцать девиц из нашей дюжины, большинство наших попечителей из редакции пригласившего нас журнала, а также в полном составе персонал «Экспериментальной кухни» «Женского журнала» в гигиенически-белых халатах, прелестных чепчиках и в безукоризненной косметике предписанного здесь телесного цвета.
Нас было только одиннадцать, потому что Дорин отсутствовала. По каким-то соображениям ей было уготовано место рядом со мной, и ее стул оставался пуст. Я прибрала для нее карточку у прибора – карманное зеркальце с надписью «Дорин», выведенной вязью сверху, и обрамленное орнаментом из маргариток, посредине которого на серебряной глади должно было всплывать лицо Дорин.
Дорин проводила время с Ленни Шепердом. Теперь она большую часть времени проводила с Ленни Шепердом.
«Женский журнал» – издание огромного формата с цветными вкладками, посвященными блюдам национальных и местных кухонь, причем тематика эта меняется ежемесячно. В час, предшествующий банкету, нас провели по бесчисленным кухонным помещениям и показали, как трудно, например, фотографировать яблочный пирог с мороженым, потому что при ярком освещении, необходимом для съемки, мороженое начинает таять и его шарики надлежит незаметно поддерживать сзади зубочистками и менять каждый раз, когда они становятся чересчур рыхлыми. При виде лакомств, от которых ломились все эти кухоньки, у меня закружилась голова. И дело не в том, что дома мы скверно питались. Моя бабушка неизменно приобретала что подешевле, и у нее вдобавок была пренеприятная привычка произносить, когда ты подносишь ложку ко рту, что-нибудь вроде: «Надеюсь, тебе это придется по вкусу. Оно обошлось мне в сорок один цент на фунт», вследствие чего начинало казаться, что пожираешь медяки, а вовсе не воскресный бифштекс.
Пока мы стояли за спинками наших стульев, внимая приветствию, я чуть нагнула голову и тайком оглядела стол, чтобы локализовать на нем расположение креманок с икрой. Стратегическая позиция одной из них была между мной и местом отсутствующей Дорин.
Я сообразила, что девице, которая сядет напротив меня, будет не дотянуться до этой креманки из-за огромного блюда марципанов, стоящего посредине, а что касается Бетси, место которой было справа от меня, то она чересчур воспитанна, чтобы потребовать от меня поделиться икрою, особенно если я прикрою креманку локтем и придвину поближе к своей тарелке. И кроме того, справа от Бетси, между ней и еще одной девицей, стояла точно такая же креманка, и Бетси вполне могла полакомиться из нее.
У нас с моим дедушкой была одна постоянная шутка. Он работал метрдотелем в загородном клубе в окрестностях нашего города, и каждую неделю, по воскресеньям, моя бабушка заезжала за ним, чтобы забрать его на понедельник. По понедельникам у него был выходной. Она брала с собой поочередно то моего брата, то меня, а дедушка всегда сервировал для нее и одного из внуков самый настоящий воскресный обед, как будто мы были ресторанными завсегдатаями. Для меня же он всегда припасал особенно лакомые кусочки, и в девять лет я уже стала страстной любительницей холодной телятины, икры и анчоусов.
Шутка же заключалась в том, что мой дедушка обещал в день моей свадьбы привезти мне столько икры, сколько я смогу съесть. И это и впрямь было шуткой, потому что я собиралась никогда не выходить замуж, но если бы и передумала, дедушке неоткуда было бы взять столько икры, сколько я могла бы съесть, разве что если бы он ограбил свой клуб и привез ее целый чемодан.
Под шумок, пока вокруг позвякивали бокалы с безалкогольными напитками, серебряные столовые приборы и фарфор, я покрыла всю свою тарелку ломтями холодной курятины. Затем намазала курятину черной икрой – причем таким толстым слоем, как будто мазала на хлеб ореховое масло. Затем принялась брать ломти курятины, один за другим, сворачивать их в трубочку и поглощать. При этом следила за тем, чтобы икра не выдавливалась наружу.
После долгих сомнений и колебаний насчет того, какой вилкой что брать, я поняла, что если ведешь себя за столом неверно, но с достаточной уверенностью и, может быть, даже с вызовом, как будто ты совершенно убеждена в том, что именно так и следует поступать, то это сойдет тебе с рук и никто не подумает, будто у тебя дурные манеры или ты плохо воспитана. Все решат, что ты оригинальна, экстравагантна и остроумна.
Я поняла это в тот день, когда Джей Си пригласила меня на ленч со знаменитым поэтом. Поэт явился одетым в чудовищно мятый и засаленный твидовый пиджак коричневого цвета, в серые брюки и красно-голубой джемпер, а дело происходило в весьма фешенебельном ресторане с фонтанами и канделябрами, где все остальные посетители были в строгих, темных костюмах и безукоризненно белых сорочках.
Поэт ел свой зеленый салат руками, выуживая с тарелки один лист за другим, и одновременно рассказывал мне об антагонизме между природой и искусством. Я не могла отвести глаз от бледных костистых пальцев, которые перепархивали из поэтовой тарелки к поэтову рту и обратно, каждый раз на переднем пути обремененные зеленой ношей. И никто не хихикал по его адресу и не делал ему никаких замечаний. Казалось, поедание зеленого салата руками – это самое естественное и единственно разумное занятие.
Никого из наших начальниц, равно как и никого из сотрудниц «Женского журнала», не оказалось поблизости от меня, а Бетси была мила и приветлива, она, наверно, и икру-то не любила, – и постепенно я начала проникаться все большей и большей самоуверенностью. Закончив первую порцию холодной курятины с икрой, я изготовила себе другую, точно такую же. А затем потянулась за авокадо, фаршированным крабами.
Авокадо – мой любимый фрукт. Каждое воскресенье дедушка привозил мне одно авокадо, припрятав его в чемодане под шестью грязными сорочками и воскресными комиксами. Он научил меня, как надо есть авокадо: выдавить густой сок и мякоть в глубокую тарелку, а затем, перемешав их как следует, наполнить пустую оболочку плода полученной начинкой. Сейчас мне ужасно недоставало этой начинки. Крабы не идут с ней ни в какое сравнение.
– А как демонстрация мехов? – спросила я у Бетси, когда ее возможные притязания на икру оказались бы уже явно запоздалыми. Я подгребла несколько последних соленых икринок с тарелки столовой ложкой и облизала ее досуха.
– Все было просто чудесно, – заулыбалась Бетси. – Нам показали, как можно смастерить пелерину на все случаи жизни из норковых хвостов и золоченой цепочки, причем точно такую же цепочку можно приобрести у Вулворта за доллар девяносто восемь центов. И Хильда сразу же после демонстрации пошла по магазинам мехов и накупила с большой скидкой кучу норковых хвостов, а потом зашла за цепочкой к Вулворту и прямо в автобусе изготовила себе пелерину.
Я уставилась на Хильду, сидящую сразу же за Бетси. И действительно, на ней была роскошно выглядевшая накидка из каких-то пушистых хвостов, скрепленная золоченой цепочкой.
Хильда вечно приводила меня в некоторое недоумение. В ней было шесть футов росту, на лице ее бросались в глаза огромные влажно-зеленые очи, толстые красные губы и какая-то чисто славянская отрешенность. Хильда делала шляпки. Ее сразу же сплавили в рубрику мод, отделив тем самым от девиц с более ярко выраженными литературными интересами, вроде Дорин, Бетси или меня. Нам-то всем поручили писать статьи, хотя большинство и писало их только на ерундовские темы, типа ухода за собой или здоровья. Я даже не знаю, умела ли Хильда читать, но шляпки она делала просто потрясающе. Здесь, в Нью-Йорке, она посещала специальную мастерскую, где совершенствовалась в своем искусстве, и каждый день, отправляясь туда, она надевала новую шляпку, изготовленную собственноручно из соломки, мехов, ленточек или чего-нибудь еще, но неизменно изящную.
– Потрясающе, – пробормотала я, – просто потрясающе.
Мне не хватало Дорин. Она бы непременно отпустила какое-нибудь язвительное, бьющее не в бровь, а в глаз замечание насчет Хильды и ее пелеринки – и это меня взбодрило бы.
У меня было очень тяжело на душе. Как раз нынешним утром не кто иной, как Джей Си, сумела вывести меня на чистую воду, и теперь я начинала осознавать, что все те грустные подозрения, которые я питала относительно собственной персоны, понемногу оправдываются, и я даже не в состоянии скрыть этого от окружающих. После беспрерывной девятнадцатилетней гонки за всякого рода наградами, призами, премиями и стипендиями я начала сдавать, сбиваться с темпа, медленно, но неуклонно сходить с дистанции.
– А почему ты не поехала туда вместе с нами? – спросила Бетси.
У меня возникло впечатление, что она начинает повторяться, потому что тот же вопрос она вроде бы задавала мне минуту назад, но я пропустила его мимо ушей.
– Ты ходила куда-нибудь с Дорин?
– Нет. Я хотела поехать на демонстрацию мехов, но позвонила Джей Си и велела мне прийти в офис.
Насчет моего желания поехать на демонстрацию мехов – это было неправдой, но я пыталась убедить самое себя, что дело обстояло именно так и только поэтому меня раздосадовал звонок Джей Си.
Я сообщила Бетси о том, как все утро пролежала в постели, предаваясь мыслям о демонстрации мехов. Правда, я не рассказала ей, что ко мне в номер зашла Дорин и заявила:
– Какого черта ты намыливаешься на этот дурацкий показ? Мы с Ленни собрались поехать на Кони-Айленд, так почему бы тебе не присоединиться к нам? Ленни пригласит для тебя какого-нибудь славного парня. А день пропадет так на так с этим банкетом и с кинопремьерой после обеда, и нас с тобой никто не хватится.
Я чуть было не поддалась искушению. Демонстрация мехов – это, конечно же, сущий идиотизм. Меха меня никогда не интересовали. Но в конце концов я решила проваляться в постели до тех пор, пока мне это не надоест, а затем отправиться в Сентрал-парк и полежать там на травке. Там самая густая трава, какую можно найти в здешней каменной пустыне.
Я сказала Дорин, что не поеду ни на демонстрацию мехов, ни на банкет, ни на премьеру, но на Кони-Айленд с ними я тоже не поеду – я просто поваляюсь в постели. Но после ухода Дорин я задумалась над тем, почему не могу больше следовать предложенному нам распорядку, и почувствовала себя от таких раздумий больной и усталой. А затем я задумалась о том, почему в таком случае не могу делать всего того, что нам делать не велено, как поступает та же Дорин, и почувствовала себя еще более больной и усталой, чем прежде.
Не знаю, который был час, но я слышала, как девицы разгуливают и переговариваются в холле, собираясь на демонстрацию мехов, а потом все стихло, и я лежала на спине в постели и глядела вверх, на белый потолок, и тишина казалась мне все более и более оглушительной, пока я не почувствовала, что от нее у меня вот-вот лопнут барабанные перепонки. И в эту минуту зазвонил телефон.








