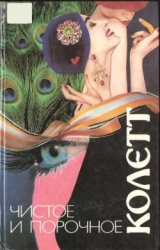
Текст книги "Кошка"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
– В чём же дело? – удивился Ален. – Не понимаю… Протяни ещё раз руку.
– Ну нет! – воспротивилась Камилла. – Л вдруг она взбесилась?
Ален тем не менее отважился погладить Саху. Вздыбленная шерсть на хребте кошки опустилась, она податливо изогнула спинку под его ладонью, но горящие глаза были по-прежнему обращены на Камиллу.
– Что всё это значит? – медленно повторил Ален. – Гляди, у неё ссадина на носу, я и не заметил. Засохшая кровь. Саха! Саха! Будь умницей! – принялся он увещевать кошку, видя, что ярость всё жарче разгорается в жёлтых глазах.
Глядя на раздувшиеся щёки, ощетинившиеся, точно отвердевшие усы готовой к прыжку хищницы, можно было подумать, что разъярённая кошка смеётся. Боевой задор раздвинул лиловые уголки пасти, напряг мускулистый подвижный подбородок – нечто общепонятное, некое забытое людьми слово силилось обозначиться на кошачьей мордочке…
– А это что? – спросил вдруг Ален.
– Что «это»?
Взгляд кошки пробудил в Камилле отвагу и инстинкт самозащиты. Склонившись над ватманом, Ален разглядывал влажные следы: неровные пятна, окружённые четырьмя отпечатками поменьше.
– У неё ноги… мокрые? – медленно проговорил Ален.
– Верно, по луже прошлась, – откликнулась Камилла. – Вечно ты из мухи делаешь слона!
Ален посмотрел на сухой синий вечер за окном.
– По луже? Откуда еще лужа?
Он повернулся к жене, неузнаваемо подурневший из-за широко раскрывшихся глаз.
– Ты не знаешь, что значат эти следы? – Голос его звучал резко. – Не знаешь, конечно. Это страх, понимаешь? Страх. Пот от страха, кошачий пот – другого у них не бывает… Значит, она испугана…
Он осторожно поднял переднюю ногу Сахи и осушил пальцем мясистые подушечки, потом высвободил из шёрстки живой белый чехол, куда убирались втяжные ногти.
– У неё когти обломаны… – говорил он как бы про себя. – Она пыталась удержаться… цеплялась… скребла по камню, стараясь зацепиться… Она…
Он смолк, взял кошку под мышку и унёс, не говоря ни слова, в ванную.
Оставшись одна. Камилла напряжённо прислушивалась, сплетя пальцы рук, и казалось, что руки у неё связаны.
Послышался голос Алена:
– Госпожа Бюк, у вас есть молоко?
– Да, сударь! В холодильнике.
– Так оно ледяное…
– Я могу подогреть на плите… Минутное дело… Вот, пожалуйста… Это для кошки? Она не захворала?
– Нет, она… – Ален запнулся и продолжал уже другим голосом: —…Ей не очень хочется мяса в такую духоту… Спасибо, госпожа Бюк. Да, вы можете идти. До утра.
Камилла слышала, как муж ходит по кухне, как полилась вода из крана: Ален готовил пищу для кошки и наливал ей свежей воды.
Рассеянный полусвет, отбрасываемый металлическим абажуром, падал на застывшее лицо Камиллы – одни глаза медленно двигались.
Ален вернулся в комнату, рассеянно подтягивая кожаный пояс, и сел за стол чёрного дерева. Он не позвал Камиллу, и она заговорила сама:
– Ты отпустил госпожу Бюк?
– Да. Я поспешил?
Он закуривал, скосив глаза на огонёк зажигалки.
– Я хотела сказать ей, чтобы завтра она принесла… Впрочем, это не так уж и важно, можешь не извиняться.
– Я не извинялся, а нужно было бы.
Он подошёл к распахнутому окну, глядя в синюю ночь. Он внимательно прислушивался к внутренней дрожи – пережитое волнение отношения к этому не имело, – к трепетанию сродни глухому предупреждающему тремоло оркестра. Над Фоли-Сен-Жам взлетела ракета, лопнула, раскидав святящиеся лепестки, и, по мере того как они горели один за другим, синяя ночь обретала покой и пыльную глубину. Когда в парке Фоли-Сен-Жам раскалённым добела светом зажглась горка с пещерой, колоннада и водопад, Камилла подошла к Алену.
– Гулянья? Давай подождём салюта… Слышишь? Гитары…
Он не ответил, поглощённый внутренней дрожью. По рукам бегали мурашки, ноющую поясницу точно булавками кололо. Он чувствовал ту отвратительную слабость, обессиленность, которую испытал в школьные годы после спортивных соревнований, бега или гребли. Он уходил тогда злой, равно безразличный к победе или поражению, дрожащий от возбуждения и разбитый усталостью. Лишь часть его души пребывала в покое – та, что не тревожилась более о Сахе… Прошло уже много – или совсем мало – времени с тех пор, как, увидев обломанные когти Сахи и её безумный испуг, он потерял представление о времени.
– Это не праздничный салют – скорее танцы, – сказал он.
По тому, как Камилла пошевелилась рядом с ним в темноте, он догадался, что она уже не ждала ответа. Осмелев, она подошла ближе. Он чувствовал, что она подходит без опаски, увидел бок белого платья, обнажённую руку, лицо, поделённое надвое правильным маленьким носом – на половину, жёлтую от света комнатных ламп, и половину голубую, тонущую в светлой ночи; и в той и другой стороне – по большому резко мигающему глазу.
– Да, танцы, – согласилась она. – Это не гитары, а мандолины… Слушай!..
Серенады звучат… под балконом кра-са-виц…
На самой высокой ноте голос у неё сорвался, она кашлянула, как бы извиняясь.
«До чего же тонкий голосок! – поразился Ален, – Что случилось с её голосом? Ведь он у неё такой же мощный, как глаза! Она поёт голосом маленькой девочки и не вытягивает нот…»
Мандолины смолкли, ветром донесло одобрительный гул голосов и рукоплескания, некоторое время спустя взлетела ракета, распустилась зонтиком из сиреневых лучей с повисшими над ними каплями яркого огня.
– Ой! – вскрикнула Камилла.
Вспышка выхватила из мрака точно две статуи: Камилла, изваянная из сиреневого мрамора, и Ален, из более светлого камня, – волосы зеленоватые, глаза бесцветные. Когда ракета погасла, Камилла вздохнула.
– Всегда слишком скоро кончается! – пожаловалась она.
Вдали вновь заиграла музыка. Но по прихоти ветра инструменты верхнего регистра заглохли – слышны были лишь две тяжкие ноты сильных четвертей, исполняемые духовыми инструментами ритмической группы.
– Жаль! – заговорила вновь Камилла. – У них ведь наилучший в городе джаз-оркестр. Это «Love in the night»… [5]5
«Любовь в ночи» (англ.)
[Закрыть]
Она принялась напевать мелодию едва слышным, дрожащим пискливым голоском, как бы едва отплакавшись. От незнакомого голоса Алену становилось совсем уже не по себе, он возбуждал в нём жажду откровения, желание сломать то, что – может быть, давно уже, а может быть, и минуту назад – воздвигалось между Камиллой и им, чему ещё не было имени, но что быстро росло, мешало ему по-приятельски обнять Камиллу за шею, то, из-за чего он оставался на месте, прислонившись спиной к стене, ещё не остывшей от дневного жара, и настороженно ждал… Он нетерпеливо сказал:
– Спой ещё…
Длинные ленты в три цвета исчертили небо над парком, поникнув подобно ветвям плакучей ивы, и осветили удлинённое недоверчивое лицо Камиллы.
– А что петь?
– «Love in the night»… Да всё что хочешь… Поколебавшись, она отказалась.
– Дай лучше послушать джаз. Даже отсюда слышно, какое бархатное звучание…
Он не стал настаивать, обуздал нетерпение, подавил ознобливую дрожь внутри.
В небе рассыпался целый рой весёлых солнышек, невесомо воспаривших над ночью. В уме Ален сравнивал их с созвездиями своих любимых снов. «Вот эти недурны… Постараюсь взять их с собой, – степенно размышлял он. – Совсем я забросил свои сны…» Потом в небе над Фоли просияло и простёрлось вширь нечто вроде блуждающей жёлто-розовой зари, которая разбилась на золотые кружки, огненные перистоструйные фонтаны, слепящие металлические ленты… В зареве этого чуда, которое приветствовали детские крики на нижних балконах, Ален увидел задумчивую, сосредоточенную Камиллу, погрузившуюся в себя самоё, – иные огни манили её…
Колебания Алена кончились, едва ночь сомкнулась вокруг них. Он просунул свою обнажённую руку под нагую руку Камиллы. Как только он коснулся её, то словно увидел эту руку, белую, едва тронутую солнцем, опушённую нежными прилегающими к коже волосками, золотистыми ниже локтя, более бесцветными ближе к плечу…
– Какая ты холодная… – тихо молвил он. – Ты не заболела?
Она заплакала совсем тихо и с такой поспешностью, что Ален заподозрил: она заблаговременно приготовилась к слезам.
– Нет, это из-за тебя… Из-за тебя… Потому что ты не любишь меня…
Он прислонился к стене, притянул Камиллу к своему бедру. Он чувствовал, что она дрожит и холодна от плеча до колен над закатанными чулками. Она послушно прильнула к нему всей тяжестью своего тела.
– Ох-ох! Не люблю! Это что, очередная сцена ревности из-за Сахи?
Он ощутил, как сразу напряглись все мышцы опиравшегося на него тела, наливаясь силой, готовясь к новой схватке. Ален заговорил настойчиво, чувствуя, что время настало, что нечто неуловимое делает разговор своевременным:
– И это вместо того, чтобы принять, как я принял, эту прелестную зверюшку… Разве другие молодые пары не держат кошку или собаку? Может быть, ты хочешь попугая, уистити, чету голубей, собаку, чтобы и я взревновал?
Она передёрнулась, издала в знак несогласия какой-то жалобный сдавленный звук. Глядя перед собой, Ален прислушивался к своему голосу, подбадривал себя: «Ну же, ну! Еще два-три ребячества, какой-нибудь вздор, и дело пойдёт… Она как кувшин: опрокинь, если хочешь опорожнить… Ну! Ну!..»
– Может, тебе хочется львёнка, крокодильчика не старше пятидесяти лет? Нет?.. Тогда удочери Саху… Сделай над собой небольшое усилие, и ты увидишь сама…
Камилла с такой силой рванулась из его рук, что он покачнулся.
– Нет! – крикнула она. – Этого не будет никогда! Слышишь? Никогда!
Кипя от бешенства, она перевела дух и повторила уже не так громко:
– Даже и не думай! Ни за что!
«Вот оно!» – ликовал внутренне Ален.
Он втолкнул Камиллу в комнату, опустил наружную штору, зажёг плафон и затворил балконную дверь. Точно испуганная зверюшка, Камилла отскочила к двери. Ален распахнул её, предупредив:
– Но только без крика!
Он подкатил Камилле единственное кресло, уселся верхом на единственный стул подле широкой разобранной постели, застланной свежими простынями.
Задёрнутые на ночь клеёнчатые занавеси бросали зеленоватый отблеск на бледное лицо Камиллы и смявшееся белое платье.
– Стало быть, не поладим? – начал Ален. – Жуткий случай, так? Или она, или ты?
Она коротко кивнула, и он понял, что шутливый тон придётся оставить.
– Чего ты добиваешься? – возобновил он прерванную речь после краткого молчания. – Чтобы я сказал то, чего сказать не могу? Ты прекрасно понимаешь, что я не отрекусь от этой кошки. Я стал бы подлецом и перед собой, и перед ней…
– Знаю… – проронила Камилла.
– И перед тобой тоже, – докончил Ален.
– Ну, передо мной…
Камилла выставила отстраняющую руку.
– Ты тоже идёшь в счёт, – твёрдо перебил её Ален. – Получается, что тебя не устраиваю я. Саху тебе не в чем упрекнуть, кроме как в любви ко мне.
Она молча смотрела на него растерянно и нерешительно. Он почувствовал досаду, оттого что она вынуждала задавать ещё какие-то вопросы. Он думал поначалу, что короткая яростная перепалка ускорит развязку, какой бы она ни была, и с полным доверием решил положиться на сей простой способ. Однако, сорвавшись поначалу на крик, Камилла присмирела и не подлила ни капли масла в огонь. Ален решил набраться терпения:
– Скажи-ка малыш… Что? Нельзя называть тебя малышом? Скажи, если бы это была не Саха, а другая кошка, ты стала бы более терпимой?
– Конечно, – очень быстро ответила она. – Ведь ты не любил бы её так, как эту.
– Верно, – подтвердил Ален расчётливо-беспристрастно.
– Да ты и женщину не любил бы так! – продолжала Камилла, начиная горячиться.
– Тоже верно, – согласился Ален.
– Ты вообще не похож на любителей животных… Вот Патрик, тот любит их: обхватывает здоровенных псов за шею, валяет их по земле, мяукает, дразня кошек, пересвистывается с птицами…
– Ну что ж, он не из привередливых, – заметил Ален.
– Ты не такой, ты любишь Саху…
– Я никогда не скрывал это от тебя, но и не лгал, говоря, что Саха не соперница тебе…
Он умолк и опустил веки над своей тайной – тайной чистоты.
– Соперница сопернице рознь, – язвительно заметила Камилла.
Краска залила вдруг её лицо, она пошла на Алена, пьянея от внезапного гнева.
– Я видела вас! – выкрикнула она. – Когда ты ночуешь на своём диванчике. Так вот, утром, ещё затемно, я видела вас вдвоём…
Она вытянула дрожащую руку к террасе.
– Вы сидели там… и даже не слышали меня! Вот так сидели, щека к щеке!..
Она подошла к окну, отдышалась, вернулась к Алену.
– По совести, это ты должен мне сказать, есть ли у меня причины не любить эту кошку и страдать.
Ален так долго молчал, что она вновь вспылила:
– Говори же! Скажи что-нибудь! Это становится невыносимо… Чего ты ждёшь?
– Продолжения. Выскажись до конца.
Ален медленно встал, наклонился над женой и тихо спросил, указывая на балконную дверь:
– Ведь это ты, да? Ты её сбросила?
Камилла проворно отбежала за кровать, но отрицать не стала. Нечто похожее на улыбку появилось на лице Алена, когда она отпрыгнула от него, и он проговорил задумчиво:
– Ты столкнула её. Я верно почувствовал, что ты бесповоротно изменила наши отношения. Ты сбросила её… Она обломала когти, цепляясь за стену дома…
Он поник головой, мысленно представив себе эту картину.
– Да, но как ты её сбросила? Схватила за шиворот? Воспользовалась тем, что она уснула на бортике? Готовилась заранее? Она отбивалась?
Он поднял голову, посмотрел на руки Камиллы.
– Нет, царапин не видно. А как она тебя изобличила, когда я заставил тебя дотронуться до неё!.. Она была великолепна…
Отведя взгляд, он посмотрел на ночь, на звёздную пыль, на вершины трёх тополей, на которые падал свет из их окон.
– Что же, я ухожу, – кратко объявил он.
– Но послушай… Послушай… – прошептала Камилла с неистовой мольбой в голосе.
Тем не менее она не пыталась помешать ему, когда он вышел из комнаты. Он хлопал дверцами шкафов, разговаривал с кошкой в ванной. По изменившемуся звуку шагов она поняла, что Ален обулся для выхода в город, и невольно взглянула на часы. Он снова вошёл, неся Саху в пузатой корзине, с которой госпожа Бюк ходила в магазин. Наспех одетый, непричёсанный, с шейным платком, он, казалось, возвращался с любовного свидания. Слёзы подступили к глазам Камиллы, но, услышав, как в корзине заворочалась Саха, она стиснула губы.
– Ну вот, я ухожу, – повторил Ален.
Он опустил глаза, приподнял корзину и расчётливо-жестоко поправился:
– Мы уходим.
Он приладил плотнее сплетённую из лозы крышку, пояснил:
– Ничего другого на кухне не нашёл.
– Ты идешь к своим? – спросила Камилла, стараясь говорить так же спокойно, как Ален.
– Естественно.
– А ты… Я могу видеть тебя в ближайшие дни?
– Конечно.
От неожиданности самообладание едва не оставило её. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не оправдываться, не плакать.
– Ты останешься здесь на ночь одна? – спросил Ален. – Не будешь бояться? Если ты настаиваешь, я останусь, но…
Он повернул голову в сторону террасы.
– …но, если откровенно, мне не хотелось бы… Как ты объяснишь своим?
Оскорблённая тем, что он уже отослал её к родителям, Камилла вздёрнула голову.
– Я не обязана давать им отчёт. Я полагаю, это касается меня одной. Не испытываю особого желания выслушивать советы домашних.
– Совершенно с тобой согласен… на какое-то время.
– К тому же мы можем решить всё завтра…
Он поднял незанятую руку, не допуская возможности какого-либо «завтра».
– Нет. «Завтра» не будет. Сегодня нет «завтра». Он обернулся на пороге.
– В ванной я оставил свой ключ и деньги, которые мы держим здесь…
Она иронически перебила его:
– А почему не ящик консервов и компас?
Она храбрилась и глядела вызывающе, упёршись рукою в бок, высоко держа голову на красивой шее, «Так сказать, силой не держим», – подумал Ален. Он хотел было ответить каким-нибудь модным зубоскальством того же пошиба, стряхнуть волосы на лоб, окинуть её презрительным взглядом сквозь ресницы, не задерживающимся ни на чём другом, но отказался от этой игры, несовместимой с продовольственной корзиной, ограничившись неопределённым кивком на прощание.
Она не переменила своей вызывающе-картинной позы. Уже уходя, он увидел то, чего не заметил вблизи: круги под глазами и испарину, выступившую на висках и гладкой шее.
Выйдя из подъезда, он привычно перешёл на другую сторону улицы с ключом от гаража в руке. «Нет, этого я сделать не могу», – подумал он, поворачивая к шоссе, до которого было довольно далеко и где по ночам рыскали в поисках клиентов такси. Саха несколько раз мяукнула, он успокоил её голосом. «Этого я сделать не могу, хотя было бы несравненно удобнее воспользоваться машиной. Выбраться ночью из Нёйи – чистое безумие». Он надеялся обрести блаженный покой, но удивительное дело: едва он остался в одиночестве, как почувствовал себя растерянным. И ходьба не успокоила его. Наконец ему попалось блуждающее такси. Доехали за пять минут, но ему показалось, что прошла целая вечность.
Стоя под газовым фонарём, он ждал, когда откроют ворота, его знобило, несмотря на тёплую ночь. Саха, учуявшая запах сада, помяукивала в поставленной на тротуар корзине.
Потянуло ароматом глициний, вторично расцветших в это лето, и Ален задрожал ещё сильнее, переминаясь с ноги на ногу, точно стоял мороз. Не замечая в доме никакого движения, несмотря на густой заполошный трезвон приворотного колокольчика, он позвонил ещё раз. Наконец в небольших строеньицах у гаража зажёгся свет, по гравию зашаркали ноги старого Эмиля.
– Эмиль, это я! – подал он голос, когда бесцветное лицо старого слуги прижалось к прутьям ограды.
– Господин Ален! – вскричал Эмиль преувеличенно дребезжащим голосом. – Надеюсь, молодая хозяйка пребывает в добром здравии? Погоды такие, что не мудрено и захворать… Я вижу, господин Ален с чемоданом?
– Нет, это Саха. Оставьте, я сам понесу. Нет, шары не зажигайте: свет может разбудить матушку… Вы только отомкните мне входную дверь и ступайте спать.
– Госпожа не спит, это она меня вызвала – не слышал звонка у ворот: только заснул, сами понимаете…
Ален ускорил шаги, чтобы не слышать пустопорожней болтовни, неуверенного шарканья за спиной. Он не спотыкался на поворотах дорожки, хотя ночь стояла безлунная: ему помогала не сбиться большая лужайка, более светлая, чем засаженные цветами участки. Засохшее, увешанное вьющимися растениями дерево посредине неё походило на стоящего великана, перекинувшего через руку плащ. Ален остановился, когда грудь ему стеснил сильный запах политой герани. Он наклонился, ощупью откинул крышку корзины и выпустил кошку.
– Наш сад, Саха…
Он слышал, как она скользнула на волю и, полный нежности к ней, не стал ей мешать. Он возвращал, посвящал ей ночь, свободу, рыхлую, мягкую землю, бодрствующих насекомых и спящих птиц.
За жалюзи на первом этаже горела, ожидая его, лампа. Ален нахмурился: «Слова… Слова… Объяснения с матерью… А что объяснишь? Это так просто… Это так трудно…»
Ему хотелось лишь тишины, комнаты в букетиках неярких тонов, постели, но особенно ему хотелось плакать, рыдать непрерывно, точно кашляя – хотелось тайного, скрываемого от всех утешения…
– Входи, милый, входи!..
Он редко захаживал в материнскую комнату, с детства эгоистически ненавидел капельницы, коробочки, наперстянки, тюбики гомеопатических снадобий и сохранил эту нелюбовь. Но сердце его растаяло при виде простенькой узенькой кровати и женщины в шапке седых волос, приподнявшейся в постели, опираясь на руки.
– Ничего страшного, мама, не путайтесь…
Эти нелепые слова он сопроводил улыбкой, раздвинувшей одеревеневшие щеки вправо и влево, и сам её устыдился. Усталость вдруг обрушилась на него, напускная его бодрость стала настолько очевидна, что он смирился. Он сел в изголовье и развязал шейный платок.
– Прошу извинить за мой вид – пришёл в чём был… В такой поздний час, не предупредив…
– Нет, ты предупреждал, – возразила госпожа Ампара.
Она бросила взгляд на пыльные туфли Алена.
– В такой обуви только бродяги ходят…
– Я прямо из дома, мама. Довольно долго пришлось искать такси, да кошка ещё…
– Вот как! – с понимающим видом заметила она. – Ты и кошку прихватил!
– Разумеется… Если бы вы знали…
Он умолк, сдерживаемый какой-то непонятной стыдливостью. «О таком не рассказывают. Это не для материнских ушей».
– Камилла не слишком жалует Саху, мама.
– Знаю, – бросила в ответ мать.
Она принуждённо улыбнулась, колыхнула взбитыми волосами.
– Это очень даже нешуточное дело!
– Для Камиллы – да, – вторил ей Ален недобрым голосом.
Он встал, походил среди мебели в надетых на лето чехлах, как принято в захолустных городках. Как только он решил не выдавать Камиллу, ему стало не о чем говорить.
– Знаете, мама, обошлось без битья посуды… Стеклянный столик цел, и соседи снизу не приходили спрашивать, что происходит. Мне нужно лишь немного… одиночества, покоя… Не скрою от вас, я больше не могу, – выпалил он, присаживаясь на кровать.
– Ну, от меня ты и не скрывал, – подтвердила госпожа Ампара.
Она нажала ладонью Алену на лоб, запрокидывая к свету его лицо, мужское лицо, где начинала отрастать светлая бородка. У него вырвался какой-то хнычущий звук, он отвёл глаза, то и дело менявшие цвет, и нашёл в себе силы ещё отсрочить поток слёз, какими жаждал облегчиться.
– Мама, если моя старая кровать не застелена, я укроюсь чем угодно…
– Твоя постель готова, – успокоила его мать.
Он обнял мать, поцеловал её в глаза, в щёки и волосы, ткнулся ей носом в шею, пролепетал «спокойной ночи» и пошёл прочь, шмыгая носом.
В прихожей он, воспрянув духом, не стал тотчас подниматься к себе, послушный зову ночи на исходе и Сахи. Далеко он не пошёл, ему довольно было крыльца. Он сел в темноте на ступеньку, вытянул руку и коснулся меха, чутких усов и прохладных ноздрей Сахи.
Она вилась то вправо, то влево, следуя особому обряду ластящейся хищницы. Кошка показалась ему совсем маленькой, лёгкой, как котёнок. Ему хотелось есть, и поэтому он думал, что и кошка голодна.
– Утром поедим… Скоро уже… Скоро рассвет… От Сахи уже пахло мятой, геранью и самшитом.
Она покоилась в его ладонях, доверчивая и недолговечная – вероятно, ей было отпущено не более десяти лет жизни – и он страдал, размышляя о быстротечности столь великой любви.
– После тебя я стану принадлежать любой, какая только пожелает… Женщине… Женщинам… Но никакой другой кошке.
Дрозд просвистел четыре ноты, громом раскатившихся по саду, и смолк, но проснулись другие пичуги и защебетали в ответ. На лужайке и в цветниках начали обозначаться прозрачные краски. Ален различал уже хмурую белизну, закоченелый красный цвет, от которого веяло ещё большим унынием, чем от чёрного; островки жёлтого, вклинившегося в зелёное пространство: быстро насыщавшуюся цветом жёлтую округлость цветка, парившего среди глазков и лун… Пошатываясь, засыпая на ходу, Ален доплёлся до своей комнаты, скинул одежду, отвернул одеяло на застланной кровати и отдался в прохладный плен простыней.
Лёжа на спине и откинув одну руку, между тем как кошка в сосредоточенном молчании месила ему передними лапками плечо, он стремительно, безостановочно падал в глубины покоя, как вдруг очнулся и всплыл в рассветный час, к покачиванию пробудившихся дерев, милому скрежету далёкого трамвая.
«Что такое? Я хотел… Ах да! Я хотел плакать…» Он усмехнулся, и сон объял его.
Сон его был неспокоен, обилен видениями. Два или три раза он решил уже, что пробуждается и сознаёт, где находится, но всякий раз особое выражение стен спальни, раздражённо наблюдавших за порханиями крылатого глаза, указывало ему на его ошибку.
«Да сплю же я, сплю…»
«Я сплю», – повторил он, услышав хруст гравия. «Говорят вам, сплю!» – крикнул он ногам, топтавшимся под дверью. Ноги удалились, и спящий поздравил себя во сне. Однако, непрестанно окликаемый извне, он вынырнул и открыл глаза. Солнце, оставленное в мае на подоконнике, стало августовским солнцем и не поднималось выше атласного ствола тюльпанного дерева напротив дома. «Как состарилось лето», – подумал Ален. Нагой, он вылез из постели, принялся искать, во что одеться, нашёл куцую пижамку с узкими рукавами и вылинявший банный халат, который с удовольствием и натянул на себя. Его манило окно, но в изголовье кровати он наткнулся на забытую там фотографию Камиллы. Он с любопытством рассматривал маленький глянцевый снимок – некачественная работа, тут недодержано, тут передержано. «А она больше походит на неё, чем мне казалось, – пришло ему в голову. – Как же я не замечал? Четыре месяца назад я говорил: "Очень мало сходства: она утончённее и мягче…", но я ошибался…»
Ровно дующий ветер шумел в древесной листве, словно река. Объятый радостью, чувствуя, как сосёт под ложечкой от голода, Ален вкушал тихое блаженство. «Какое счастье чувствовать, что выздоравливаешь!..» Как бы в довершение сказочной мечты в дверь стукнули согнутым пальцем, и вошла Басканка с подносом в руках.
– Но я позавтракал бы в саду. Жюльетта! Некое подобие улыбки изобразилось среди седой поросли вокруг рта.
– Я подумала… Но если господину Алену угодно, я отнесу поднос в сад!
– Нет-нет, оставьте здесь! Страсть как проголодался! Саха влезет в окно…
Он кликнул кошку. Она явилась из незримого убежища, точно сгустившись из воздуха при звуке своего имени, прянула вверх по стеблям ползучих растений и соскользнула наземь – забыла о сломанных когтях.
– Подожди, сейчас спущусь!
Он принёс её на руках, и оба наелись всласть: она – сухариков с молоком, а он – бутербродов, запиваемых обжигающим кофе. Под ручку горшочка с медом на краешке подноса была воткнута маленькая роза. «Это не с материнских кустов», – определил Ален. То была небольшая, нескладная, какая-то худосочная роза, сорванная, судя по всему, с нижней ветки куста, издававшая терпкий запах, присущий жёлтым розам. «Это мне личное приношение от Басканки».
Блаженствовавшая Саха, казалось, прибавила в весе со вчерашнего дня. Распушив грудку, она взирала на сад глазами ублаготворённой властительницы. Четыре дымчатые полоски ясно обозначились между ушами.
– Видишь, как всё просто. Саха? Да? Для тебя, во всяком случае…
Явился старый Эмиль и попросил обувь Алена.
– Один шнурок совсем истёрся… У господина Алена нет запасного? Пустяки, вдёрну свой, – умилённо блеял он.
«Сегодня положительно мой день», – думал Ален. Это было так не похоже на его вчерашние заботы: одеваться, собираться в урочный час в контору Ампара, возвращаться в урочный час обедать в обществе Камиллы…
– Но мне не во что одеться! – воскликнул он.
В ванной комнате он нашёл свою тронутую ржавчиной бритву, круглый кусочек розового мыла и старенькую зубную щётку, которыми и воспользовался с восторгом жертвы воображаемого кораблекрушения. Но сойти пришлось в кургузой пижамке, понеже Жюльетта унесла его одежду.
– Саха! Саха! Пошли…
Кошка бросилась вперёд, он неловко пустился следом, скользя в обтрёпанных сандалиях из рафии.
Он подставил плечи благостному солнечному жару, прикрыв веками глаза, отвыкшие от зелёного блеска лужайки, от горячего цветного света, отражённого густо толпящимися амарантами с их мясистыми гребнями, клумбой красного шалфея, обсаженной гелиотропами.
– Всё тот же, всё тот же шалфей!
Сколько помнил Ален, это насаждение, сделанное в виде сердца, всегда имело красный цвет, его неизменно окаймляли гелиотропы и осеняла старая чахлая вишня, на которой в иной год поспевала в сентябре пригоршня ягод…
– …Шесть… Семь… Семь зелёных вишен!
Он обращался к кошке, которая, глядя перед собой золотистыми пустыми глазами, одурманенная необыкновенно густым благоуханием гелиотропов, приоткрыла пасть, выказывая признаки близкого к тошноте упоения, которое овладевает кошками от непомерно сильных запахов.
Желая несколько привести себя в чувство, она пожевала какой-то травки, прислушалась к голосам, потёрлась мордочкой о жёсткие стебли подстриженной бирючины, но не позволила себе никакой неприличности, никакой безрассудной шалости – она шествовала достойно, окружённая серебристым нимбом. «Её сбросили с десятого этажа, – размышлял, глядя на неё, Ален. – Её схватили и швырнули вниз… Наверное, она отбивалась, может быть, вырвалась, но была схвачена вновь и сброшена… Казнена…»
Игрой воображения он старался разжечь в себе праведный гнев и не мог. «Если бы я на самом деле всей душой любил Камиллу, что бы сейчас творилось со мною…» Вокруг него блистало его королевство, и, как всякому королевству, ему грозила беда. «Мать уверяет, что не пройдёт и двадцати лет, как станет невозможно держать такие усадьбы, такие сады. Наверное, она права, и я готов их лишиться, но не желаю никого пускать сюда…» Он встревожился, услышав телефонный звонок в доме. «Полно, неужто я боюсь? Да и не настолько глупа Камилла, чтобы звонить мне. Надо отдать ей должное: никогда не встречал молодой женщины, более умеренно пользующейся этим аппаратом…»
Однако, помимо воли, он побежал неуклюже, роняя сандалии, оступаясь на круглых камушках и крича на ходу:
– Мама, кто звонит?
На крыльце появился белый пухлый пеньюар, и Ален устыдился своего крика.
– Как я люблю на вас этот толстый белый пеньюар, мама! Всё тот же, всё то же…
– Благодарю тебя за пеньюар, – отвечала госпожа Ампара. – Она ещё немного помедлила, испытывая терпение сына. – Звонил господин Вейе. Половина десятого. Начинаешь забывать обычаи дома?
Она расчесала пальцами волосы сына, застегнула пуговицы куцей пижамы.
– Нечего сказать, хорош! Надеюсь, ты когда-нибудь снимешь эти опорки?
Ален испытывал благодарность матери за ловкость, с которой она сообщала разговору нужное направление.
– Не беспокойтесь, мама! Непременно займусь всем этим…
Госпожа Ампара нежно остановила широкое и неопределённое движение его руки.
– Где ты будешь вечером?
– Здесь! – воскликнул Ален, чувствуя, что слёзы подступают к глазам.
– Боже мой! Какой же ты ребёнок! – укорила его мать.
Он ухватился за слово с серьёзностью бойскаута.
– Не спорю, мама. Я как раз собирался поразмыслить над тем, как мне поступить, чтобы выбраться из детского возраста…
– И как же? Через развод? Но эта дверь скрипит!
– Зато впустит свежий воздух! – дерзко возразил Ален, набравшись смелости.
– Не кажется ли тебе, что разлука… на какое-то время… отдых или путешествие… могли бы дать не худшие результаты?
Ален негодующе воздел руки.
– Но, бедная моя мама, вы даже не знаете… Вы даже вообразить себе не можете…
Он собирался всё рассказать, поведать ей о покушении.
– Предпочитаю оставаться в неведении! Все эти обстоятельства меня не касаются. Будь же немного… щепетильнее, что ли?.. – поспешно проговорила госпожа Ампара.
Ален воспользовался её целомудренным заблуждением.
– Видите ли, мама, есть ещё одно неприятное обстоятельство, связанное с переплетением семейных и торговых интересов… с точки зрения семейства Мальмеров развод был бы непростителен, какова бы ни была доля вины Камиллы… дочь, прожившая с мужем каких-то три с половиной месяца… Я просто слышу, как они…







