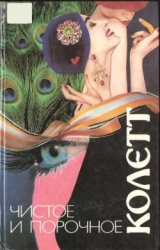
Текст книги "Кошка"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
– Немного лучше… Да, пожалуй, немного лучше… «Ей было приятно, когда я просил её что-то скрывать от Камиллы…»
Вспомнив последнюю материнскую ласку, он потуже затянул брючный ремень под пиджаком. «Я похудел, похудел. Нужно больше двигаться, только не в постели…»
Он шёл налегке, одетый по-домашнему. Засвежевший ветерок осушал тело, гоня перед ним горький запах пота, присущий блондинам и родственный запаху чёрного кипариса. Позади остался в неприкосновенности семейный оплот, подпольное неизменно союзное ему воинство, так что остаток дня должен был прожиться легко. Вероятно, до самой полуночи он будет, сидя подле тишайшей Камиллы, дышать вечерним воздухом, то отзывающимся лесной сыростью, когда они будут ехать меж дубрав, обведённых илистыми рвами, то веющим сухостью и запахом гумна… «И я принесу Сахе настоящего пырея!»
Он жестоко осуждал себя из-за кошки, тихонько жившей в своей высокой башне. «По моей вине она стала точно куколка бабочки!» В час супружеских игрищ она неизменно исчезала, Ален ни разу не видел её в треугольной спальне.
Питалась она кое-как, забывала свой выразительный язык, ничего более не требовала, и главным её занятием стало ожидание. «Снова она ждёт, ждёт за прутьями решётки… Меня ждёт».
Выходя на лестничную площадку, он услышал за дверями восклицание Камиллы:
– Тварь поганая! Чтоб ты сдохла!.. Что?.. Нет, когда скажете, госпожа Бюк… Осточертело мне это! Осточертело!
Последовало ещё несколько бранных выражений. Стараясь производить как можно меньше шума, Ален повернул ключ в замочной скважине, но не мог заставить себя подслушивать в собственном доме. «Подлая тварь? Какая тварь? Тварь в этом доме?»
Камилла в лёгком пуловере без рукавов и вязаном берете, каким-то чудом держащемся на самом затылке, яростно натягивала на обнажённые руки перчатки с раструбами. Видимо, она никак не ожидала возвращения мужа.
– Ты? Откуда ты свалился?
– Не свалился, а вернулся. На кого это ты ополчилась?
Уклоняясь от ответа и ловко отвлекая внимание Алена, она сама перешла в наступление:
– Что с тобой стряслось? В кои-то веки явился вовремя! Я готова, тебя только и жду!
– Ты меня не ждёшь, потому как я вовремя. Так на кого же ты ополчилась? Я слышал «подлая тварь». Это что же за тварь?
Глаза её заметно скосились, но выдержали взгляд Алена.
– Да собака! – воскликнула она. – Чёртова собака с нижнего этажа! Слышишь, лает? Слышишь?
Подняв палец, она требовала внимания. Ален заметил, что обтянутый перчаткой палец дрожит. По простоте душевной ему хотелось увериться совершенно.
– Вообрази, мне показалось, что ты говорила о Сахе…
– Я? – поразилась Камилла. – Сказать такое о Сахе? Ну уж нет! С какой стати? Так мы идём или нет?
– Выведи машину, я иду следом, только возьму платок и пуловер…
Первым делом он отправился проведать кошку, но на самой прохладной террасе, подле полотняного кресла, в котором Камилла спала порою после обеда, обнаружил лишь осколки стекла и бессмысленно уставился на них.
– Сударь, кошка у меня, – послышался журчащий голосок госпожи Бюк. – Ей приглянулся соломенный табурет, она о него когти точит.
«В кухне! – с болью в душе подумал Ален. – Моя маленькая пума, моя садовая кошечка, моя кошечка из страны сирени и майских жуков, и где? На кухне… Нет, так продолжаться не может!»
Он поцеловал Саху в лоб, тихонько расточая ей освящённые обычаем похвалы, и посулил ей пырей и сладких акациевых цветков. Ему показалось, однако, что и кошка, и повариха держатся как-то скованно, в особенности госпожа Бюк.
– Мы можем вернуться, а может, и не вернёмся к ужину, госпожа Бюк. У кошки есть всё, что нужно?
– Да, да, сударь! – заторопилась госпожа Бюк. – Поверьте, сударь, делаю всё, что в моих силах…
Толстуха раскраснелась и, казалось, готова была расплакаться. Неловким ласковым движением она погладила кошку по голове. Саха выгнулась и издала короткое урчание, что-то молвила на языке несчастной пугливой кошки. Сердце её друга преисполнилось печали.
Прогулка оказалась более приятной, нежели он предполагал. Внимательно следя за дорогой, слаженно двигая руками и ногою, Камилла подкатила к холму Монфор-л'Амори.
– Поужинаем на вольном воздухе. Ален? Да, милый?
Она улыбнулась ему, не поворачивая головы, как всегда прекрасная в сумерках: коричневая от пудры щека словно просвечивала, край глаза и зубы соперничали белизною. В лесу Рамбуйе она опустила ветровое стекло, и ветер наполнил уши Алена шелестом листвы и журчанием вод.
– Ой, крольчишко! – воскликнула Камилла. – Фазан!
– А вот ещё кролик! Ещё…
– Не ценят своего счастья!
– У тебя на щеке ямочка, как на твоих детских фотографиях, – заметил несколько оживившийся Ален.
– Лучше не говори, меня просто распирать начинает! – бросила она, передёрнув плечами.
Он ждал, когда она вновь улыбнётся и появится ямочка, перевёл взгляд на крепкую гладкую шею, без малейшего намёка на жировую складку, твёрдую круглую шею белокожей негритянки. «Ну конечно, она пополнела. Впрочем, это необыкновенно красит её, ведь и грудь тоже…» Но тут мысли его обратились к нему самому, и он, хмурясь, услышал, как заворочалась извечная мужская обида: «Она полнеет оттого, что занимается любовью… Полнеет за мой счёт». Сунув руку под пиджак, он ревниво ощупал свои бока и перестал любоваться детской ямочкой на детской щеке.
Тем не менее он испытал прилив тщеславного удовольствия, когда, усевшись некоторое время спустя за столик известного ресторанчика, заметил, что ужинавшие по соседству люди, прервав трапезу и беседу, уставились на Камиллу. Ален с Камиллой переглядывались, улыбались, кивали подбородками с самодовольным щегольством, приличествующим «молодой чете».
Однако ради него Камилла приглушила голос, держалась несколько томно и выказывала предупредительность, в которой не было ничего напускного. Отвечая ей тем же, Ален перенял из её рук салатницу со свежими помидорами и корзинку с земляникой, настоял на том, чтобы она отведала цыплёнка в сметане, и подливал ей вино, которое она не любила, но пила единым духом.
– Ты ведь знаешь, я не люблю вино, – приговаривала она всякий раз, осушив бокал.
Солнце закатилось, но небо, где застыли курчавые тёмно-розовые облачка, оставалось светлым, почти белым. Однако из густого леса, стеной высившегося за столиками ресторанчика, выползли сумерки и прохлада. Камилла положила руку на руку Алена.
– Что? Что такое? В чём дело? – встрепенулся он.
Она с удивлением отняла руку. Малая толика выпитого вина смеялась в её увлажнившихся глазах, где крохотными пляшущими кружочками отражались золотые шары, подвешиваемые к решётчатому навесу.
– Да ничего! Нервный, как кошка!.. Что, нельзя и руку положить?
– Мне показалось, что ты собираешься сказать мне что-то… что-то важное. Мне показалось, – выпалил он, – ты хочешь объявить мне, что забеременела…
Резкий смешок Камиллы привлёк к ней внимание посетителей ресторанчика.
– И это тебя настолько потрясло?.. Обрадовался бы или… наоборот?
– Честно говоря, не знаю… А ты? Была бы рада или нет? Мы так мало об этом думали… Во всяком случае, я… Почему ты смеёшься?
– Видел бы ты свое лицо! Будто тебя приговорили к смертной казни… Ой, не могу!.. У меня сейчас ресницы потекут…
Указательными пальцами она с двух сторон поднимала ресницы.
– Что ж тут смешного? Дело нешуточное, – отвечал Ален, радуясь возможности перевести разговор на другое.
Но его сверлила мысль: «Почему я так испугался?»
– Дело нешуточное для тех, у кого нет крова над головой, возразила Камилла, – или есть всего лишь двухкомнатная квартирка. Но мы-то…
Черпая в коварном хмеле веру в будущее, Камилла умиротворённо курила и рассуждала вслух, точно вокруг никого не было, усевшись боком к столику и перекинув ногу через колено.
– Одёрни юбку, Камилла!
Но она продолжала, не расслышав:
– У нас есть главное для ребёнка. Есть сад, да какой сад!.. Детская, лучше какой и не найти, и ванная в придачу.
– Детская?
– Ну да, твоя бывшая комната – её теперь перекрашивают. Кстати, я очень тебя прошу, не нужно фриза с уточками и пихтами на небесно-голубом фоне. Зачем прививать дурной вкус нашему отпрыску?..
Ален и не помышлял прерывать её. Щёки Камиллы горели. Она говорила отрешённо, как бы силою воображения творя издали образы грядущего. Никогда прежде она не казалась ему столь прекрасной. Он не сводил глаз с её шеи, гладкой колонны мягко круглящихся мышц, с её ноздрей, выпускающих две струи дыма… «Наслаждаясь со мной, она стискивает зубы и дышит, расширяя ноздри, как лошадка…»
С её алых презрительных уст слетали пророчества столь нелепые, что они уже не ужасали его. Камилла преспокойно строила свою женскую жизнь среди обломков прошлого Алена. «Вот, извольте! – поразился он. – Продумано до мелочей… А нам, простакам, и невдомёк!» На месте ненужной лужайки будет устроен теннисный корт… Что же до кухни и буфетной…
– Ты никогда прежде не замечал, насколько они неудобны и как много места пропадает там зря? То же и гараж… Всё это я говорю тебе лишь затем, милый, чтобы ты знал, что я всё время думаю о том, как нам по-новому наладить жизнь… Но, главное дело, нам нужно бережно обходиться с твоей матерью – она так мила! – и ничего не предпринимать, не получив её согласия… Я права?
Он наудачу кивал или качал головой, собирая рассыпавшуюся по скатерти землянику. После того, как прозвучали слова «твоя бывшая комната», на него снизошел недолгий покой, предвестник безразличия, как бы притупивший его чувствительность.
– Лишь одно может заставить нас спешить, – продолжала между тем Камилла. – Ты обратил внимание, что свою последнюю открытку Патрик послал с Балеарских островов? Если он не станет задерживаться на пляжах, то может вернуться скорее, чем наш декоратор кончит работу – чтобы сдохла в страшных корчах эта помесь Пенелопы и черепахи! Но я пущу в ход голос сирены: «Мой милый Патрик…» А на Патрика, да будет тебе известно, мой голос сирены очень сильно действует…
– С Балеарских островов… – задумчиво прервал её Ален. – Балеарских…
– Совсем рядом… Куда ты? Хочешь уйти? Так славно было…
Встав из-за столика, протрезвевшая, она зевала и дрожала от озноба.
– Поведу я, – распорядился Ален. – Под сиденьем есть старенькое пальто. Набрось и поспи.
Навстречу фарам неслись тучи однодневок, ртутно сверкающих мотыльков, каменно твёрдых жуков-усачей. Автомобиль словно гнал перед собой волну воздуха, наполненного крылами. Камилла действительно уснула, не меняя положения, приученная не приваливаться даже во сне к плечу или руке водителя, и лишь поклёвывала носом, когда машину встряхивало на неровностях.
«Балеары», – всё твердил про себя Ален. Видя вокруг чёрный воздух, а перед собой – белый свет, притягивающий, отбрасывающий, уничтожающий крылатых тварей, он возвращался в кишащее образами преддверие снов, под небесный свод, усеянный пылью лопнувших личин, откуда глядели на него враждебно большие глаза, готовые сдаться в следующий раз, назвать пароль, условное число. Отвлёкшись, он даже забыл повернуть на более короткую дорогу между Поншартреном и заставой под Версалем. Камилла что-то пробормотала во сне. «Браво! – мысленно похвалил Ален. – Надежный рефлекс. Славные надёжные чувства всегда начеку… Как же ты приятна мне и сколь легко нам пребывать в согласии, когда ты спишь, а я бодрствую…»
Их волосы и рукава были влажны от росы, когда они вышли из машины на своей совсем новой, безлюдной в свете месяца улице. Ален поднял голову: на десятом этаже, посреди отражения почти полного круга месяца чернела маленькая рогатая тень кошки, ждавшей, склонив голову. Он указал на неё Камилле:
– Гляди! Тебя дожидается!
– У тебя зоркие глаза, – ответила она зевая.
– Как бы не упала. Не окликай её.
– Успокойся. Она не пойдёт, если я её позову.
– Причина ясна! – усмехнулся Ален.
Едва обронив эти два слова, он уже жалел о них. «Рано, рано, да и время неудачное выбрано!» Рука Камиллы, протянувшаяся к кнопке звонка, застыла.
– Причина ясна? Какая причина? Ну же, говори! Верно, я вновь вела себя непочтительно к священному животному? Кошка жаловалась на меня?
«Многого же я добился!», – размышлял Ален, закрывая гараж. Он еще раз пересёк улицу и подошёл к жене, ожидавшей его с воинственным видом. «Либо я пойду на попятный в обмен на спокойную ночь, либо добрым тумаком закрою прения… Рано, рано…»
– Я, кажется, задала тебе вопрос!
– Давай прежде поднимемся к себе.
Притиснувшись друг к другу в тесной кабине лифта, они не проронили ни слова. Едва переступив порог, Камилла далеко отшвырнула берет и перчатки, давая понять, что ссора не кончена. Ален уже хлопотал вокруг кошки, упрашивая её покинуть опасное место. Не желая огорчать его, терпеливое животное последовало за ним в ванную комнату.
– Если это из-за того, что ты слышал, когда давеча вернулся… – начала Камилла крикливо, едва он вернулся в комнату.
Но Ален уже принял решение и устало прервал её:
– Ну что мы можем сказать друг другу, малыш? Лишь то, что сами уже знаем. Что ты не любишь кошку, что накричала на матушку Бюк из-за того, что кошка разбила вазу или стакан, уж не знаю, – я видел осколки. В ответ скажу тебе, что Саха дорога мне, что ты вряд ли ревновала бы меньше, если бы я сохранил привязанность к одному из друзей детства… На это ушла бы целая ночь. Благодарю покорно. Предпочитаю выспаться. Кстати, посоветовал бы тебе на будущее сделать самой первый ход и заранее обзавестись собачкой.
– На будущее? Какое ещё будущее? На что ты намекаешь? Какой ещё первый ход?
Ален пожал плечами. Камилла покраснела, лицо помолодело необыкновенно, глаза сверкали ярко, предвещая слёзы. «Боже, какая тоска! – стенал Ален в душе. – Сейчас она признается, согласится со мной. Тоска!..»
– Послушай, Ален…
Сделав над собой усилие, он притворился сильным, властным.
– Нет, молчим! Нет и нет! Ты не заставишь меня завершить чудесный вечер бесплодным спором. Нет, ты не обратишь ребячество в трагедию и не истребишь во мне любовь к животным!
Какое-то безрадостное веселье блеснуло в глазах Камиллы, но она промолчала. «Верно, переусердствовал. «Ребячество» – это было лишнее. Да, кстати, и любовь к животным… Тут надобно разобраться». Маленькое существо сумеречно-голубого цвета, подбитое, подобно облаку, серебром, сидящее на краю головокружительной ночной бездны овладело его мыслями и умчало его прочь от бездушного мира, где он упорно оборонял от чужих свою лазейку в сугубо личное, себялюбивые, поэтичное…
– Что ж, мой юный недруг, – объявил он с притворным благожелательством, – пошли отдыхать.
Она отворила дверь ванной, где Саха, устраивавшаяся ночевать на махровой табуретке, почти не обратила на неё внимания.
– Но почему, почему ты сказал «на будущее»?.. Шум воды заглушил, поглотил голос Камиллы.
Ален отмалчивался. Улёгшись рядом с ней на широкой постели, он пожелал ей доброй ночи, наугад чмокнул её в напудренный нос. В ответ Камилла с жадным постаныванием поцеловала его в подбородок.
Рано проснувшись, он тихонечко перебрался на узенький диван, стиснутый меж двух стеклянных стенок, напоминающий скамейку в зале ожидания. Сюда же он приходил досыпать и в следующие ночи. Он задёргивал с той и другой стороны плотные клеёнчатые занавеси, совсем ещё новые, но уже полувыгоревшие от солнца, вдыхал собственный запах луговой колючки и цветущего самшита. Закинув одну руку, а другую положив себе на грудь, он покоился царственно беззащитный, как в ночи своего детства. Витая под узенькими потолками треугольного обиталища, он горячо призывал прежние сны, распуганные чувственной истомою.
Он ускальзывал с большей лёгкостью, чем того хотелось бы Камилле, вынужденный бежать, оставаясь на месте, просто уходя в себя с тех пор, как бегство стало чем-то другим, нежели бесшумное сбегание по лестнице, стук захлопнутой дверцы такси, короткое письмо… Ни одной из любовниц не дано было предвосхитить Камиллу с её девичьей расторопностью, Камиллу с её непредсказуемыми плотскими желаниями, но и Камиллу с её самолюбием оскорблённой любовницы тоже.
Устроившись в очередной раз после побега из спальни на скамье из зала ожидания и примащивая затылок на пухлой подушечке, какую предпочитал всем прочим, Ален тревожным слухом ловил звуки в покинутой опочивальне. Но Камилла ни разу не отворила дверь. Оставшись в одиночестве, она поправляла смятую простыню и шёлковое ватное одеяло, досадливо и сокрушённо прикусывала согнутый палец, резким движением опускала длинный хромированный козырёк, из-под которого падала на постель узкая полоса белого света. Ален оставался в неведении, обретала ли она сон в опустевшей кровати, где постигала в столь юные годы ту истину, что проведённая в одиночестве ночь обязывает встать утром во всеоружии. И на следующий день она являлась свежая, немного накрашенная, отринув вчерашний махровый пеньюар и пижаму. Но она никак не могла уразуметь, что мужская страсть скоропреходяща и что, даже если она вспыхивает вновь, ничто уже не повторяется.
Лёжа в одиночестве, овеваемый ночным воздухом, внемля приглушённым воплям судов на недалёкой Сене, дающим ему острые ощущения тишины и высоты его обиталища, неверный супруг гнал от себя сон, дожидаясь Сахи. И вот она возникала, тень более синяя, чем была позади её, и усаживалась на краю поднятой стеклянной стенки. Она настороженно сидела там и не сходила на грудь Алена, хотя он и манил её знакомыми ей словами.
– Иди же, моя маленькая пума! Иди, моя горная кошечка, сиреневая кошечка! Саха! Саха!
Она не поддавалась на уговоры, не желая покинуть своё место на подоконнике над Аленом. Были видны лишь её очертания на фоне неба, рисунок опущенного подбородка и ушей, чутко ловящих звуки его голоса. Он не мог различить выражение её глаз.
Порою в рассветный час, когда занимался сухой ветреный день, они сиживали вдвоём на восточной террасе и щека к щеке наблюдали, как бледнеет небо и вспархивают поодиночке белые голуби с великолепного кедра в парке Фоли-Сен-Жам, вместе удивляясь тому, что далеки от земли и так несчастливы. При виде летящих птиц Саха вытягивалась гибким, полным охотничьей страсти движением, издавая по временам нечто похожее на «эк… эк», бледное подобие прежнего «мэк… мэк» – возгласа, звучавшего в минуты волнения, вожделения и кровожадной игры.
– Наша комната, – шептал ей на ухо Ален. – Наш сад… Наш дом…
Саха вновь худела. Ален находил её лёгкой и прелестной, но ему было больно видеть, что она так кротка и терпелива, как всякое существо, живущее надеждой и томящееся ожиданием.
Сон вновь одолевал Алена по мере того, как разгоравшийся день укорачивал тени. Расплываясь и утрачивая спервоначалу сияющий венец в парижских испарениях, затем уменьшаясь, съёживаясь и уже начиная припекать, солнце поднималось по небу, приветствуемое птичьей трескотнёй в садах. На террасах, у края балконов, в двориках, где томились деревца-узники, встающий день обнажал беспорядок душной ночи, одежды, брошенные на тростниковом шезлонге, пустые стаканы на жестяном столике, пару сандалий… Алену претила неряшливость тесных людских жилищ, осаждённых летним зноем. Одним прыжком он переносился в постель сквозь зияющую створку стеклянной стены.
Саха не следовала за ним, то прислушиваясь к звукам в треугольной комнате, то безучастно наблюдая пробуждение далёкого земного мира. Вот из ветхого домишка выбежала спущенная собака, в молчании обежала садик и подняла лай, лишь порыскав бесцельно вокруг дома. В окнах появлялись женщины, сердитая служанка хлопала дверьми, выколачивала оранжевые диванные валики на плоской итальянской крыше; неохотно вылезши из постели, мужчины закуривали первую сигарету с горьким привкусом…
Наконец в лишённой живого огня кухне Скворечни начинали позвякивать, стукаясь друг о друга, автоматическая кофеварка со свистком и электрический чайник; из иллюминатора ванной комнаты тянуло запахом духов Камиллы и слышались зевки с подвывом… Саха обречённо поджимала лапки под себя и притворялась спящей.
Одним июльским вечером обе они ждали Алена. Кошка лежала на бортике террасы, вытянув перед собою лапки. Рядом с ней Камилла опиралась на тот же бортик скрещёнными руками. Камилла не любила этот балкон, предоставленный кошке в личное пользование и перегороженный по обе стороны каменными стенками, которые защищали его от ветра и полностью обособляли от передней террасы.
Они взглянули друг на друга без особого умысла, и Камилла ничего не сказала. Облокотившись о парапет, она наклонилась, словно пересчитывая ряды оранжевых навесов, сбегающие с этажа на этаж до самого низа головокружительной стены, и задела кошку, которая встала, сторонясь, потянулась и легла немного дальше.
Оставаясь одна, Камилла становилась очень похожа на девочку, которая не хотела здороваться. Детство воскресало в выражении бесчеловечной невинности и ангельской жестокости, облагораживающем лица детей. Беспристрастно строгим, ничего в частности не осуждающим взглядом она окидывала Париж, небо над ним, с каждым днём меркнувшее всё раньше. Она нервически зевнула, выпрямилась, с рассеянным видом сделала несколько шагов, вновь склонилась над бортиком, вынуждая кошку соскочить. Саха с достоинством удалилась, почтя за благо перебраться в комнату. Но дверь гипотенузы оказалась затворена. Она уселась и начала терпеливо ждать. Однако некоторое время спустя ей пришлось сойти с места, потому что Камилла принялась расхаживать от стенки к стенке. Кошка вновь вскочила на бортик. Но Камилла, точно забавы ради, согнала её оттуда, опершись на локти, и Саха вернулась к запертой двери.
Глядя вдаль, Камилла неподвижно стояла к ней спиной. Кошка глядела на эту спину, дыша все чаще. Она поднялась, два или три раза повернулась вокруг себя, остановила вопросительный взгляд на запертой двери… Камилла не двинулась с места. Саха раздула ноздри, беспокойно задвигалась, словно её затошнило, из её глотки вырвалось долгое тоскливое мяуканье – жалкая защита от непреклонной и безмолвной воли. Камилла резко повернулась.
Она была немного бледна, и пудра на щеках выделялась теперь двумя овальными пятнами. Она притворялась, будто мысли её заняты чем-то, как если бы тут был свидетель, и даже принялась что-то напевать, не разжимая губ, и снова начала расхаживать от перегородки к перегородке в такт напеву, но голос у неё сорвался. Кошка, уклоняясь от её ноги, оказалась вынужденной одним прыжком вскочить на бортик, потом вновь прижаться к двери.
Саха овладела собой и скорее умерла бы, нежели испустила новый вопль. Преследуя кошку, но как бы не замечая её, Камилла сновала взад и вперед без единого звука. Саха вспрыгивала на бортик, лишь когда нога приближалась вплотную, и соскакивала, лишь уклоняясь от руки, готовящейся низвергнуть её с десятиэтажной высоты.
Она уклонялась проворно, перепрыгивала расчётливо, не сводя глаз с недруга своего, не унижаясь ни до ярости, ни до мольбы. От потрясения, от ощущения смертельной угрозы чувствительные подушечки её ног увлажнились от пота, оставляя на отделанном под мрамор балконе похожие на цветы отпечатки.
Судя по всему, у Камиллы первой стали иссякать силы, и поколебалось преступное её упорство. Первый признак слабости появился, когда она взглянула на тускнеющее солнце и на ручные часы, прислушиваясь к тонкому позвякиванию за дверями. Ещё немного, и решимость оставила бы её, как сон отлетает от лунатика, и она стала бы невинна и утомлена… Саха почувствовала колебания недруга, замешкалась на бортике, и тут Камилла, выбросив перед собою обе руки, столкнула кошку в пустоту.
Прежде чем попятиться от парапета и прислониться спиною к стене, Камилла успела услышать скрежет ногтей по наружной обмазке балкона, увидеть голубое, изогнувшееся двойной дугой тельце, точно форель в водопаде.
Её не искушало желание глянуть сверху в тесный садик, обведённый новой оградой из дикого камня. Вернувшись в квартиру, она прижала ладони к ушам, отняла их, помотала головой, точно услышав комариный писк, и едва не уснула. Но когда завечерело, она встала и прогнала сумрак, зажигая напольные лампы, горящие желобки, ослепительные грибы и светильники под длинным хромированным козырьком, напоминавшим веко, льющее жемчужный свет поперёк кровати.
Она двигалась упруго, трогала предметы лёгкими ловкими руками, как бы грезя.
– Я точно похудела… – произнесла Камилла вслух. Затем она переоделась в белое.
– Моя муха в молоке, – сказала она, передразнивая Алена.
Тут ей припомнилось нечто из её чувственных радостей, щёки её порозовели, она вернулась к действительности и стала ждать возвращения Алена.
Она напряжённо прислушивалась к гудению лифта, вздрагивая от каждого громкого звука, от глухих упругих толчков, лязга захлопывающихся дверей шахты, скрежета, напоминающего скрип якорной цепи, прорывающейся и глохнущей музыки – от разнородных шумов, какие разносятся в недавно построенных домах. Однако лицо её не выразило удивления, когда в прихожей вместо нащупывающего постукивание ключа в замке раздалось утробное жужжание звонка. Она побежала к входу и отворила сама.
– Запри дверь, – распорядился Ален. – Надо прежде посмотреть, всё ли у неё цело. Идём, посветишь мне.
Он держал на руках живую Саху. Ален прошёл прямиком в комнату, сдвинул в сторону безделушки на «невидимом» туалетном столике и осторожно поставил кошку на стеклянную плиту. Она держалась на ногах уверенно и прямо, но обводила комнату взглядом своих глубоко посаженных глаз, как будто попала в чужое жилище.
– Саха! – вполголоса окликнул её Ален. – Будет просто чудо, если она ничего себе не повредила… Саха!
Кошка взглянула на него, точно желая успокоить друга, и прижалась щекой к его руке.
– Пройдись, Саха!.. Ходит! Просто невероятно, пролететь шесть этажей! Удар смягчил навес над балконом третьего этажа… Её отшвырнуло на газончик напротив привратницкой. Вахтер видел, как она свалилась. Я, говорит, подумал, что зонтик упал… Что это у неё белое на ухе?.. Нет, ничего, просто испачкалась о стену. Ну-ка, послушаем сердце…
Он уложил кошку на бок и прижал ухо к часто дышащей грудке, прислушиваясь к беспорядочным ударам живой машинки. Белокурые волосы Алена упали ему на лицо, глаза закрылись – казалось, он уснул, припав головой к боку Сахи. Вот он словно проснулся, вздохнул и устремил взгляд на Камиллу, молча глядевшую на них:
– Вообрази, она в полном порядке! Во всяком случае, я ничего не обнаружил, не считая страшного сердцебиения, но у кошек это явление обычное. Как же это случилось? Я спрашиваю тебя, бедная моя малышка, только откуда тебе знать? Она свалилась с этой стороны, – проговорил он, взглянув на распахнутую балконную дверь. – Ну-ка, Саха, спрыгни на пол! Можешь?
После некоторого колебания она соскочила, но сразу легла на ковёр. Она часто дышала и озиралась с тем же нерешительным видом.
– Может быть, позвонить Шерону?.. Хотя гляди: умывается! Она не стала бы умываться, если бы у неё были какие-нибудь внутренние повреждения… Уф!
Ален потянулся, швырнул пиджак на кровать, подошёл к Камилле.
– Сколько волнений!.. Как же ты хороша в белом… Поцелуй меня, моя муха в молоке!
Она прильнула к нему, покорная рукам, вспомнившим наконец о ней, и вдруг судорожно разрыдалась.
– Как? Ты плачешь?
Сам взволнованный, он уткнулся лбом в чёрные мягкие волосы.
– Я… Я и не знал, представь себе, что у тебя доброе сердце…
Она нашла в себе силы не рвануться из его объятий. Впрочем, Ален тотчас вернулся к Сахе и хотел вывести её на террасу, где было не так душно. Однако кошка заупрямилась, дальше порога не пошла и легла там, глядя в сумерки, голубые, как её мех. Временами она вздрагивала и настороженно глядела в глубь треугольной комнаты.
– Это у неё от потрясения, – пояснил Ален. – Надо бы устроить её на вольном воздухе…
– Оставь её, – слабым голосом попросила Камилла. – Раз ей не хочется.
– Её желания равносильны приказам, сегодня в особенности! Что-нибудь съестное ещё осталось? Хотя в такую поздноту… Половина десятого!
Мамаша Бюк выкатила столик на террасу, и они сели ужинать, обозревая восточную часть Парижа, наиболее обильную огнями. Ален много говорил, пил воду, подкрашенную красным вином, корил Саху за неуклюжесть, за неосторожность, за «кошачьи огрехи»…
– «Кошачьи огрехи» – это своего рода спортивные ошибки, связанные с определённым уровнем цивилизации и одомашнивания… Они не имеют ничего общего с неловкостью, с почти нарочитой порывистостью движений…
Но Камилла уже не спрашивала: «Откуда ты знаешь?»
После ужина он взял кошку на руки и унёс её в комнату, где она согласилась выпить молоко, от которого ранее отказалась. Лакая, она дрожала всем телом, как бывает у кошек, когда им наливают слишком холодного питья.
– Нервное потрясение, – повторил Ален. – Я всё-таки попрошу Шерона зайти завтра утром и посмотреть её… Ох, совсем из головы вон! – вдруг весело вскричал он. – Звони консьержке! Забыл забрать у неё рулон эскизов, который оставил там наш меблировщик, этот чёртов Массар.
Камилла пошла звонить, а усталый, разморённый Ален повалился во вращающееся кресло и закрыл глаза.
– Алло? – слышался голос Камиллы. – Да… Наверное, это самое и есть… Такой большой рулон… Благодарю.
Ален смеялся, не открывая глаз.
Она вернулась и смотрела, как он смеётся.
– Что за голосишко? Откуда у тебя этот новый голосок? «Такой большой рулон… Благодарю…», – пропищал Ален, передразнивая её. – Таким голосочком ты пользуешься, только когда говоришь с консьержкой? Поди сюда, тут и двоих маловато будет, чтобы переварить последние творения Массара.
Он раскатал на столе чёрного дерева большой лист ватмана. В ту же секунду Саха, которую любая бумага притягивала, как магнит, вскочила на акварельные эскизы.
– Как это любезно с её стороны! – умилился Ален. – Она даёт мне понять, что у неё ничего не болит. О, моя избегшая гибели!.. Нет ли у неё шишки на голове? Шишки нет. Всё-таки пощупай, Камилла!
Несчастная маленькая убийца сделала попытку разрушить стену отчуждения, воздвигшуюся вокруг неё, послушно протянула руку и осторожно, с робкой ненавистью, коснулась головы Сахи…
Раздался дикий вопль, кошку подкинуло, точно с ней приключился приступ падучей. Камилла вскрикнула, точно от ожога. Стоя посреди листа с набросками, вздыбив шерсть на загривке, разинув сухую алую пасть, усаженную зубами, кошка бросала молодой женщине неистовое обвинение.
Ален встал с места, готовый защищать их друг от друга.
– Осторожно! Она… Может быть, на неё нашло помрачение? Саха!..
Саха бросила на него исступлённый, но осмысленный взгляд, отметающий сомнения в здравости её ума.
– Что случилось? До какого места ты дотронулась?
– Я до неё не дотрагивалась… Она говорила тихо и отчуждённо.







