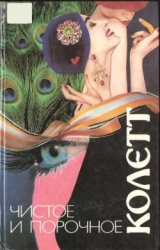
Текст книги "Кошка"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Тем не менее Саха решила одолеть все коварные преграды. Она приноровилась к неопределённому времени трапез, утреннего вставания и отхода ко сну, избрала местом ночлега табурет с махровой обивкой в ванной, обследовала всю Скворечню без напускного отвращения или показной диковатости. В кухне она снисходительно внимала напрасным речам госпожи Бюк, приглашающей «киску» отведать сырой печени. Едва Ален с Камиллой выходили, она устраивалась на стенке террасы над головокружительной пропастью, которую измеряла оком, бесстрастно провожая взглядом спинки реющих внизу ласточек и стрижей. Камилла приходила в ужас от её бестрепетного сидения на высоте десятого этажа, от взятого ею обыкновения подолгу умываться на бортике террасы.
– Запрети ей! – кричала она Алену. – От этой картины у меня обрывается сердце и сводит икры!
Ален только улыбался с видом знатока, любуясь своей кошкой, к которой вернулись жизнерадостность и аппетит.
Правда, в ней не было заметно цветущего здоровья или особой весёлости. Её мех не переливался уже, как прежде, всеми цветами, как сизая грудь голубя. Во всяком случае, жилось ей теперь лучше: она ждала глухого удара лифта, возносящего к ней Алена и принимала от Камиллы неумелые знаки внимания вроде крошечного блюдечка молока в пять часов или куриной косточки, протягиваемой сверху, как если бы ожидалось, что она начнёт подскакивать, точно пёсик.
– Да не так! Вот как! – вмешивался Ален.
С этими словами он клал кость на банный коврик, а то и прямо на бежевый ковёр с длинным ворсом.
– Бедный Патрик! Во что превратится его ковёр! – ужасалась Камилла.
– Кошка не станет грызть кость или кусок жёсткого мяса на гладкой поверхности. Когда кошка берёт из тарелки кость и кладёт на ковёр, чтобы её там разгрызть, ей говорят, что на ковре грязно. Но, чтобы дробить кости или рвать мясо, кошка должна прижимать свою добычу лапой либо к земле, либо к ковру. Только кто это знает…
Изумлённая Камилла прервала его:
– А тебе откуда это известно?
Он никогда не задумывался над этим и поэтому решил отшутиться:
– Тс-с-с! Просто я очень умён… Только молчок! Господину Вейе об этом не известно…
Он растолковывал ей привычки и обычаи кошачьего племени, как учат иностранному языку, изобилующему премудростями, помимо своей воли вкладывая в свою науку много чувства.
Камилла слушала, не сводя с него глаз, и поминутно задавала вопросы, на которые он отвечал со всей откровенностью.
– Почему кошка играет с бечёвкой, но боится толстого гардинного шнура?
– Потому что шнур – это змея. Такой же примерно толщины… Она боится змей.
– А она когда-нибудь видела змею?
Ален поднял зеленовато-серые глаза в оправе чёрных ресниц, которые казались ей такими красивыми, такими «изменническими», как она выражалась…
– Нет… Думаю, что нет… Да и где бы она могла видеть змею?
– Тогда как же?
– Она воображает змею, придумывает её. Ты сама испугалась бы змеи, даже если никогда не видела бы змей.
– Да, но мне рассказывали о них, я видела их на картинках. Мне известно, что они существуют.
– И Сахе известно.
– Откуда же?
Он улыбнулся с видом превосходства.
– Откуда? Это у них врождённое, как у людей аристократизм.
– Значит, я не аристократична?
Сочувствие смягчило его голос:
– Ничего не поделаешь… Впрочем, утешься: я тоже не этой породы. Ты мне не веришь?
Сидя у ног мужа, Камилла воззрилась на него, раскрыв глаза, насколько было можно, – так смотрела когда-то на него девочка, не желавшая сказать слова приветствия.
– Приходится верить, – с важностью промолвила она.
Они повадились почти ежедневно ужинать у родителей, из-за жары, как утверждал Ален, «и из-за Сахи», лукаво присовокупляла Камилла. Как-то после ужина Саха взобралась на колено своего друга.
– А я? – спросила Камилла.
– У меня два колена, – прозвучало в ответ.
Впрочем, кошка недолго пользовалась своим правом. Таинственным образом уловив нечто, она снова вскочила на стол полированного чёрного дерева, уселась на своё голубоватое отражение в жидкой сумеречной глубине, и ничто не казалось бы в ней необычным, когда бы не напряжённое внимание, с каким она следила за чем-то незримым в пространстве прямо перед собою.
– Что ты там увидела? – удивилась Камилла.
К этому часу каждый вечер она теряла всякий лоск: белая пижама, волосы, с которых уже наполовину сошла помада, валились на лоб, щёки после многократных припудриваний становились тёмно-бурыми. Ален иногда так и ходил в костюме без жилета, но Камилла нетерпеливо стаскивала с него пиджак, галстук, расстёгивала ему воротничок, закатывала рукава сорочки, обнажая тело Алена и стараясь коснуться его. Ален, хотя и называл её бесстыдницей, не противился. Она смеялась с некоторым надрывом, подавляя в себе желание, он же опускал глаза, стараясь скрыть чувство, вызванное не одними плотскими вожделениями. «Как исказилось это лицо от желания, даже рот покривился. Такая молодая женщина… Кто её научил вот так упреждать меня?»
Они садились вдвоём за круглый столик у распахнутого окна Скворечни, рядом с которым помещалась небольшая «сервировочная» каталка на обтянутых резиной колёсиках. Три старых тополя, единственные уцелевшие от бывшего здесь некогда прекрасного сада, покачивали вершинами у самой террасы, а огромное багряное солнце закатывалось над Парижем за их чахлыми засыхающими кронами в густой дымке испарений.
Кушанья госпожи Бюк, плохо накрывавшей на стол, но отменно готовившей, оживляли застолье. Посвежевший Ален отвлекался мыслями от минувшего дня, от конторских помещений фирмы «Ампара» и опеки господина Вейе. Две заточённые в башне пленницы радостно встречали Алена. «Ждала меня?» – шептал он на ухо Сахе.
– Я слышала, как ты подъехал! – объявляла Камилла. – Здесь слышно решительно всё.
– Скучала? – спросил он однажды вечером, со страхом ожидая, что она начнёт жаловаться. Но чёрный хохолок отрицательно колыхнулся.
– Ничуть! Ездила к маме. Она показывала мне жемчужину.
– Какую жемчужину?
– Прелестную девицу, которая будет у меня горничной. Как бы Эмиль не сделал ей ребёночка! Она недурна собой.
Смеясь, Камилла засучивала широкие рукава белого крепа на голых руках и разрезала дыню с красной мякотью, вокруг которой вертелась Саха. Между тем Алену было не смешно, его приводила в ужас одна мысль, что в его доме появится новая служанка.
– Да? Представь себе, со времени моего детства мать ни разу не меняла слуг.
– Да это и видно! – вскидывалась Камилла. – Не дом, а музей какой-то!
Она откусывала прямо от полукруглого ломтя дыни и смеялась, обратившись лицом к заходящему солнцу. Ален с восхищением, хотя и без особого одобрения смотрел на это лицо, где всё было так ярко: и что-то хищное, и блеск глаз и узких губ, и какая-то неподвижность итальянских лиц. Тем не менее он предпринял ещё одну попытку сохранить беспристрастность.
– Мне показалось, что ты почти перестала видеться с подругами… Может быть, ты могла бы устроиться так, чтобы…
– Какими подругами? – с живостью возражала она. – Ты намекаешь на то, что тяготишься мною? Что мне нехудо проветриться, да?
Ален вздёрнул брови, поцокал языком, и она сразу сбавила тон из присущего простолюдинам почтения к презирающим их.
– Да, верно… у меня в детстве-то подруг почти не было, а уж теперь… Ты можешь представить меня в обществе какой-нибудь девицы? Мне пришлось бы либо обращаться с ней как с малолеткой, либо отвечать на все её гаденькие вопросы: «А чем вы здесь занимаетесь?.. А как он это делает?..» Знаешь, девицы, – не без горечи продолжала она, – подленько себя ведут между собой… Каждая сама по себе, не то, что вы, мужчины.
– Извини! Я не из компании «вы, мужчины»!
– Это-то я понимаю, – уныло молвила Камилла. – Я даже иногда думаю, не лучше было бы…
Грусть редко посещала её, обыкновенно в ней чувствовалось либо глухое несогласие, либо невысказанное сомнение.
– А много ли друзей у тебя самого? Один Патрик, да и с ним не очень-то, если откровенно…
Камилла оборвала речь, увидев досадливое движение Алена.
– Давай не будем об этом, – рассудительно предложила она, – иначе мы поссоримся.
Протяжные детские визги взлетали вверх, вторя пронзительным крикам стрижей. Прекрасные жёлтые глаза Сахи, в которых с приближением ночи всё шире расплывались зрачки, ловили в воздухе нечто незримое, движущееся, зыбкое.
– Куда это смотрит кошка, не знаешь? Там ведь ничего не…
– Для нас ничего…
Ален с грустью вспомнил о лёгкой дрожи, о сладком опасении, возникавших у него в прежней жизни, когда его подруга-кошка укладывалась вечером ему на грудь…
– Надеюсь, ты её не боишься? – снисходительно осведомился он.
Камилла расхохоталась, как если бы только и ждала этого оскорбления.
– Боюсь?.. Ты знаешь, меня не так легко испугать!
– Дурочка ты! – с досадой проронил Ален.
– Допустим, – возразила она, пожав плечами. – На тебя гроза действует.
Камилла показывала на синие тучи, всё выше громоздившиеся на небе по мере того, как приближалась ночь.
– Ты такой же, как Саха, – не любишь грозу.
– Грозу никто не любит.
– Я вот отношусь к ней без всякого отвращения, – заметила Камилла с видом ценительницы, – и уж во всяком случае не боюсь.
– Во всем мире боятся грозы, – раздражённо отвечал Ален.
– Значит, я не такая, как весь мир.
– А для меня такая, – парировал он, и в голосе его зазвучали, неожиданно и естественно, благожелательные нотки, не введшие Камиллу в заблуждение.
– Ой, гляди! Задам я тебе трёпку! – тихонько пригрозила она.
Ален нагнулся к ней через стол, подставляя голову. Зубы его блеснули.
– Задай!
Однако она отказала себе в удовольствии взъерошить его золотистые волосы, подставить свою обнажённую руку этому сверкающему рту.
– У тебя нос горбатый, – безжалостно бросила она ему.
– Это всё гроза! – рассмеялся он.
Острота не пришлась по душе Камилле, но первые громовые раскаты отвлекли её внимание. Бросив салфетку, она выбежала на террасу.
– Иди сюда! Полюбуемся молниями!
– Нет, иди ты, – отвечал Ален, не трогаясь с места.
– Куда?
Он подбородком указал на спальню. На лице Камиллы появилось упрямое выражение, столь знакомая ему смесь упрямства и вожделения. Она еще колебалась:
– Может быть, сначала полюбуемся молниями?
Ален отрицательно повёл головой.
– Но почему же, злюка?
– Потому что я боюсь грозы. Выбирай: гроза или я…
– Что ж тут выбирать!..
Она устремилась в спальню с такой готовностью, что душа его преисполнилась гордости, но, последовав за нею, он увидел, как она нарочно зажгла и нарочно же выключила плоский светильник у широкой кровати.
Когда они затихли, в распахнутые окна начал хлестать теплый дождь, благоухающий озоном. Лежа в объятиях Алена, Камилла дала понять, что ей хотелось бы, пока гроза не унеслась, чтобы он ещё раз забыл рядом с ней о своем страхе перед грозой. Но Ален, пугливо считавший широченные плоские сполохи и громадные ветви слепящего огня, выраставшие от земли до неба, отодвинулся от Камиллы. Смирившись, она приподнялась на локте и расчесала пальцами потрескивающие волосы мужа. При мигающих вспышках молний из тьмы возникали два синеватых гипсовых лица и тотчас проваливались во тьму.
– Подождём, когда кончится гроза, – уступила она.
«Вот, пожалуйста! – подумал Ален. – Это всё, что она нашлась сказать после близости, которая, видит Бог, стоила того. Лучше бы уж промолчала. Как выражается Эмиль, молодая хозяйка за словом в карман не лезет…»
С раскатистым треском блеснула длинная, как сон, молния, огненным клинком мелькнула в толстом хрустальном срезе «невидимого» столика.
Камилла прижала к Алену голую ногу.
– Успокаиваешь меня? Ты ведь у нас молний не боишься.
Ему приходилось напрягать голос, чтобы перекричать гулкие раскаты и шум хлещущего по плоской крыше ливня. Он чувствовал усталость и раздражение, с ужасом сознавая, что лишился отныне одиночества. Одним порывом он перенёсся мысленно в свою старую комнату, оклеенную белыми обоями в цветах холодных оттенков, в комнату, которую никто не пытался украсить или обезобразить. Он так истосковался по этому, что вслед за плоскими светлыми букетиками на обоях ему мерещилось теперь тихое бормотание старенького, плохо отрегулированного калорифера, и запах сухого погреба, исходящие от патрубка с медным ободком, вделанного в паркетный пол. Но вот это бормотание слилось с ропотом, звучащим во всём доме, с шелестом голосов слуг, вылощенных многолетней привычкой, по пояс погребённых в своём полуподвале, которых и сад уже не манил… «Слуги говорили «она», разумея мать, а я, едва надев короткие штанишки, уже был для них "господин Ален"…»
Он очнулся от оглушительного удара грома, незаметно погрузившись, утомлённый любовью, в короткое забытьё. Над ним склонилась, опираясь на локоть, молодая жена, – она так и не переменила положения.
– Люблю глядеть на тебя спящего, – промолвила она. – Гроза уходит.
Усмотрев в последних словах напоминание. Ален сел в постели.
– Последую её примеру. Немыслимая духота! Пойду спать на скамью в зале ожидания.
На их языке скамьей назывался узкий диванчик, составлявший всю обстановку несуразной комнатки, своего рода застеклённого коридорчика, где Патрик собирался принимать в лечебных целях солнечные ванны.
– Нет-нет! Прошу тебя! – взмолилась Камилла. – Останься!
Но он уже слезал с кровати. Яркая вспышка сполохов осветила суровый лик оскорблённой Камиллы.
– У-у-у, бяка!
С этими словами Камилла дёрнула его за нос. Рука Алена занеслась сама собою, и он, не изведав раскаяния, резко опустил непочтительную ладонь. Ветер и дождь стихли на время, и они остались вдвоем среди тишины, словно оглохнув от неё. Камилла потирала ушибленную руку.
– Да ты… – проговорила наконец Камилла, – да ты… Ты просто хам…
– Возможно, – признал Ален. – Но я не люблю, чтобы касались моего лица. Тебе мало остального? Никогда не касайся моего лица.
– Ну конечно, – медленно продолжала Камилла, – ты хам.
– Может быть, хватит? Впрочем, я не сержусь на тебя, но впредь будь осмотрительнее.
Он подобрал под себя спущенную с кровати голую ногу.
– Видишь этот большой серый прямоугольник на ковре? Светает. Давай спать?
– Да… конечно… – проговорила она тем же неуверенным голосом.
– Ну, иди сюда!
Он откинул левую руку, чтобы она положила на неё голову, и Камилла покорно придвинулась, настороженная и почтительная. Довольный собою Ален дружески подпихнул её, привлёк к себе, обняв за плечи, но на всякий случай оставив между ними известное расстояние, немного выставив колени, и быстро уснул. Проснувшись, Камилла осторожно дышала, обратив взгляд к белевшему посреди ковра пятну. Она слушала щебетанье птиц, радующихся окончанию грозы среди листвы трёх тополей, шумящей, как ливень. Поворачиваясь во сне, Ален высвободил из-под Камиллы руку и бессознательным движением трижды ласково провел по её голове ладонью, привыкшей гладить шёрстку более нежную, чем её мягкие чёрные волосы.
Отношения несовместимости установились между ними к концу июля – наступила как бы новая пора жизни со своими неожиданностями и своими удовольствиями. Ален принял её, как если бы в разгаре лета вдруг водворилась неуютная весна. Свое нежелание делить родительский кров с молодой чужачкой он уносил с собой, без усилий скрывал его, ворочал в себе и тайно бередил мысленным и неодобрительным созерцанием нового супружеского жилища. Однажды в знойный день, серый и безветренный, изнемогающая Камилла воскликнула, стоя на их капитанском мостике:
– Давай плюнем на всё, а? Сядем в коляску и закатимся куда-нибудь к воде! Давай, Ален?
– Не возражаю, – ответствовал он с настороженно-хитрой готовностью. – Куда поедем?
Пользуясь передышкой, пока она перечисляла пляжи и гостиницы, он глядел на бессильно распластавшуюся Саху, неторопливо размышлял и делал выводы: «Я не хочу ехать с ней. Я… я не могу. С удовольствием буду гулять с ней, как у нас теперь заведено, возвращаться вечером, возвращаться за полночь, но не более того. Я не желаю проводить вечера в гостиничном номере, в казино, в…» Он затрепетал. «Мне нужно время. Готов признать, что медленно привыкаю, что у меня трудный характер, что… Но ехать с ней я не хочу». Он устыдился, поймав себя на том, что мысленно называет Камиллу «она», подобно Эмилю и Адели, которые также пользовались этим местоимением, толкуя о «хозяйке».
Камилла накупила дорожных карт, и они совершали воображаемые путешествия по Франции, разъятой на прямоугольные доли и разложенной на полированной столешнице чёрного дерева, где смутно отражались их опрокинутые лица.
Они считали километры, поносили свой автомобиль, со вкусом переругивались и чувствовали, как воскресает под действием вновь обретённого дружества и почти готово вернуться прежнее. Тропические ливни, обрушивавшиеся при полном безветрии, затопили последние июньские дни и террасы Скворечни. Устроившись под защитой стеклянной стенки, Саха наблюдала, как змеятся по мозаичному полу плоские язычки воды. Камилла промокала их, возя ногами салфетки. Небо, город, хлещущая вода приобрели цвет туч, разбухших от неиссякающей влаги.
– Может быть, поедем поездом? – вкрадчиво предлагал Ален.
Он знал заранее, что, заслышав ненавистное слово, Камилла взовьётся. И она-таки взъярилась и изрыгнула богохульство.
– Я опасаюсь, что ты будешь скучать, – гнул своё Ален. – Бее эти путешествия, о которых мы с тобой толковали…
– Все эти летние гостиницы… Все эти засиженные мухами столовки… Все эти усеянные телами пляжи… – жалобным голоском продолжала она. – Понимаешь, мы оба привыкли ездить, но единственное, что мы умеем делать, так это накручивать километры, но не путешествовать.
Понимая, что Камилла немного жалеет себя, он чисто по-братски поцеловал её, но она сразу повернулась к нему, укусила его в губу и под ухом, так что они вновь предались утехам, сокращающим время и естественно завершающимся скорым утолением плотской страсти. Алена это утомляло. Ужиная у матери с Камиллой, он подавлял зевоту, госпожа Ампара опускала глаза, а Камилла не могла удержаться, чтобы не испустить самодовольный смешок. Она с гордостью заметила, что у Алена появилась привычка к её телу. Он овладевал ею с каким-то даже ожесточением, а утолив свою страсть в короткой схватке, отталкивал Камиллу от себя и, тяжело дыша, перебирался на тот край постели, где простыни хранили свежесть.
Она с невинным видом переползала к нему, чего он ей не прощал, хотя вновь уступал без единого слова. Такой ценой он получал потом, оставленный в покое, возможность доискиваться первопричины того, что он называл их несовместимостью. Ему доставало ума не связывать её с частыми соитиями. Вооружившись здравомыслием, чему способствовала усталость, он проникал в сокровенные уголки души, где мужская враждебность к женщине живет извечно, не подвластная времени. Порою она обнаруживалась в чём-то сугубо будничном, где до того дремала невинно при ярком свете дня. Так, он был удивлён, и даже весьма неприятно, заметив, насколько черны волосы Камиллы. Лёжа в постели за спиной жены, он разглядывал на её подбритом затылке короткие волоски, располагающиеся рядами, как иглы на панцире морского ежа, и чертящие кожу, точно штриховка горных образований на карте, причём самые короткие синели под тонкой кожей, готовясь вылезть наружу через чернеющие устьица.
«Неужто у меня не было никогда брюнетки? – удивился Ален. – Я знавал двух-трёх чернушек, но не помню, чтобы они были до такой степени черны!». Он протягивал к свету собственную руку, изжелта-белого, как обычно, цвета, руку светловолосого мужчины, на которой поблёскивал золотистый пушок, а жилки просвечивали зелёным. Он сравнивал собственные волосы с воронёными зарослями Камиллы, где между причудливыми завитками и ровно лежащими, на редкость густыми волосяными стержнями сквозила странно белая кожа.
Увидев однажды тонкий, очень чёрный волос, прилипший к краю бачка, он испытал приступ тошноты. Позднее этот лёгкий невроз претерпел изменения, ибо источником его стала вместо частностей самоё форма, и Ален, сжимая в объятьях утолившее желание тело молодой женщины, чьи резко обозначенные тенями изгибы скрывала ночная тьма, сетовал на то, что дух созидающий, обнаружив педантичность, какой отличалась аленова няня-англичанка – «не больше чернослив, чем рис, мой мальчик, не больше рис, чем цыплёнок», – истратил на Камиллу ровно столько глины, сколько было надобно, не позволив себе ни единой прихоти, ни разу не расщедрившись. Упрёки эти и сожаления сопровождали его в преддверии сна, в те неуловимые мгновения, когда ему мерещился сумеречный мир и являлись выпуклые глаза, рыбы с греческим носом, луны и подбородки. Ему хотелось тогда, чтобы пышные ягодицы в сочетании с тонкой талией, модные в начале века, вознаграждали его за маленькие незрелые груди Камиллы. Иногда, уже в полусне, он отдавал предпочтение тяжёлой груди, двум колышущимся глыбам плоти с чувствительными окончаниями. Такого рода желания, являвшиеся во время объятий и не оставлявшие его и позднее, исчезали после полного пробуждения и не посещали его среди дня. Они принадлежали исключительно короткому перешейку между кошмарами и сладострастными грезами.
От разгорячённого тела молодой женщины веяло нагретым деревом, берёзой, фиалками, сложным составом тёмных стойких запахов, долго сохранявшихся на ладонях. Эти душистые испарения рождали в Алене сильные противоречивые ощущения и не всегда возбуждали в нём желание.
– Ты как запах роз: отбиваешь аппетит, – объявил он однажды Камилле.
Она неуверенно взглянула на него с тем несколько стеснительным и задумчивым выражением, с каким принимала двусмысленные похвалы.
– Сколько же в тебе от людей тридцатых годов! – тихо молвила она.
– Меньше, чем в тебе, – возразил Ален. – Конечно же меньше. Я знаю, на кого ты походишь.
– На Мари Дюба. Уже слышала.
– Сильно ошибаешься, деточка! Ты напоминаешь, если не считать пробора посередине головы, всех дев, ливших слёзы на башне во времена Лоизы Пюже. [4]4
Пюже, Лоиза (1810–1889) – французский композитор, сочинительница романсов.
[Закрыть]Их слёзы капали на первую страницу романсов из твоего большого выпуклого глаза – слезам так легко соскальзывать на щёку с твоего припухлого нижнего века…
Одно за другим чувства обманывали Алена и выносили приговор Камилле. Но ему, во всяком случае, пришлось признать, что она умеет благожелательно отнестись к некоторым слетающим с его уст словам, словам неожиданным, не столько благодарным, сколько дерзким, в те минуты, когда, лёжа на полу, он окидывал её сквозь ресницы взглядом и судил, без снисхождения и поблажек, о её вновь обретённых достоинствах, о несколько однообразном, но уже изощрённо эгоистическом пыле столь юной супруги, как и о скрытых в ней возможностях. То были минуты озарения, совершенной ясности, когда Камилла старалась продлить полубезмолвие объятий, дрожь канатного плясуна, шатающегося над пропастью.
В сущности бесхитростная, она и не подозревала о том, что, наполовину обманутый корыстными подзадориваниями, страстными призывами и даже новоявленным бесстыдством полинезийского пошиба, Ален каждый раз овладевал женой последний раз. Он овладевал ею, как если бы затыкал ей рот ладонью, чтобы не кричала, или оглушал ударом по голове. Когда в полном облачении она усаживалась с ним в родстере, он уже не видел, как бы внимательно ни всматривался, того, что делало её злейшим его врагом, ибо, когда прекращалась одышка и сердце вновь билось ровно, он уже не был отважным юношей, который освобождался от одежд, чтобы повергнуть в прах женщину, делящую с ним ложе. Короткий обряд страсти, старание сочетать естественное с гимнастикой, притворная или истинная благодарность становились прошлым, тем, что, скорее всего, никогда уже не повторится. И тогда его вновь начинала тревожить главная забота, казавшаяся ему в чём-то почётной и естественной, вновь вставал перед ним вопрос, выдвигавшийся на первое, давно им заслуженное место: как сделать, чтобы Камилла не жила в МОЁМ доме?
Теперь, когда «работы» не вызывали в нём более враждебности, он искренне уповал на возвращение под родительский кров, на умиротворяющую жизнь близко к земле, неизменно обретающую опору в земле, в детишках её. «Здесь мне худо от воздуха. Ах! – вздыхал он. – Видеть изнанку листьев, птичьи брюшки…» Но тут же строго одёргивал себя: «Пастораль – не решение вопроса». Тогда он прибег ко лжи, неизменной своей союзнице.
В пополуденный час июльского дня, когда от солнечного жара плавился асфальт, он возвратился в свой удел, рядом с которым Нёйи являл зрелище безлюдных улиц, пустых трамваев и зевающих за заборами псов. Прежде чем покинуть Камиллу, он устроил Саху на одной из террас Скворечни, где было посвежее, испытывая смутное беспокойство, как всякий раз, когда оставлял вдвоём обеих своих женщин.
Сад и дом спали, железная калитка отворилась бесшумно. На лужайках пылали, разбросанные отдельными кучами, перезрелые розы, алые маки, первые цветы канн с их рубиновыми раструбами, тёмные венчики львиного зева. Новая дверь и два новых окна зияли сбоку в стене первого этажа. «Всё уже кончено», – отметил про себя Ален. Как в сновидениях, он ступал по траве.
Из полуподвала слышались голоса. Ален остановился, рассеянно прислушался. Такие знакомые голоса старых слуг, раболепных, по привычке брюзжащих.
Некогда они говорили «она» и «господин Ален», льстя белокурому мальчонке, малолетнему худенькому хозяину, его ребяческой властности. «Я был королём», – думал, грустно усмехаясь, Ален…
– Значит, вскорости ОНА будет ночевать тут? – явственно послышалось в полуподвале.
«Это Адель», – узнал Ален. Прислонившись к стене, он слушал разговор, не ведая угрызений.
– Само собой, – отвечал дребезжащим голосом Эмиль. – Только нескладно всё устроено в этой квартире.
Тут вступила горничная, седеющая бородатая женщина из басков.
– Ясное дело, коли в ванной слышно, что делается в туалете. Навряд понравится господину Алену.
– В последний раз, как ОНА приезжала, говорила, мол, ей не нужно занавесок в маленькой гостиной, потому как соседей нет со стороны сада.
– Соседей нет? А мы что же? Когда в прачечную носим? То-то нам будет видно, как ОНА устроится там с господином Аленом!
Ален догадался, что слуги тихонько пересмеиваются. Вновь раздался голос престарелого Эмиля:
– А может, ничего особо не увидим… Частенько придётся ей отбой-то давать. Господин Ален не из таковских, чтоб всякие там вольности себе позволять на диванах-то без поры, без времени…
Наступило молчание, слышно было лишь чирканье ножа по точильному камню. Но он ждал, привалившись к нагретой солнцем стене дома, в забывчивости отыскивая взглядом дымчатую шёрстку Сахи между пламенеющим кустом герани и ярким ковром лужайки.
– От ЕЁ духов у меня так голова болит, – возобновила разговор Адель.
– А платья-то? – с живостью подхватила Жюльетта-Басканка. – Настоящие модные дамы разве так одеваются? С её воображальством она больше смахивает на этих, какие из артистов. А уж горничную ОНА сюда притащит, как пить дать, из сиротского приюта, а не то кого и похуже…
Стукнула фрамуга, и голосов не стало слышно. У Алена обмирало сердце, тряслись ноги, и дышал он тяжело, как человек, вышедший живым из рук убийц. Он не испытывал ни удивления, ни гнева. Не было существенной разницы между его мнением о Камилле и приговором, вынесенным судом в полуподвале. Сердце сильно билось оттого, что он подло подслушивал, не был наказан за сию низость и неправедно собирал свидетельства сторонников, единомышленников своих. Ален отёр лицо и глубоко вдохнул воздух, точно ему стало вдруг дурно в этой обстановке всеобщего женоненавистничества, языческого поклонения единому мужскому началу. Вставшая после полуденного отдохновения мать опускала шторы в своей спальне и увидела его, стоящего под её окнами, прильнувшего щекой к стене. Вразумлённая материнской мудростью, она тихонько окликнула его:
– Что, мальчик мой? Уж не захворал ли?
Движением влюблённого юноши он через подоконник взял её руки в свои.
– Я совершенно здоров, мама… Вот, прогуливался и надумал заглянуть.
– И правильно надумал.
Она не поверила ему, но оба притворно улыбались друг другу.
– Мама, могу ли я обратиться к вам с небольшой просьбой?
– Денег, поди, нужно? Да и то сказать, в этот год вы стеснены в средствах, дети мои!
– Нет, мама… Хочу просить вас не говорить Камилле, что был сегодня у вас. Я ведь так зашёл, без особой надобности… То есть просто чтобы поцеловать вас, а раз так… И вот ещё что… хочу просить вашего совета. Но это между нами, хорошо?
Госпожа Ампара потупилась, погрузила пальцы в курчавые седые волосы свои, попыталась уклониться от доверительности.
– Ну, я не болтлива, сам знаешь… Но прежде взгляни, что у меня на голове делается! Ни дать ни взять старая бродяжка безродная… может быть, посидишь у меня в холодке?
– Нет, мама… Как вы думаете, есть ли какой-нибудь способ – хожу вот и всё об этом думаю – способ приличный, разумеется, какой бы всем по душе пришёлся, помешать Камилле поселиться здесь?
Сжимая материнские руки, Ален готов был к тому, что они дрогнут или попытаются высвободиться. Но они покоились в его ладонях, прохладные и гладкие.
– С молодыми мужьями такое случается, – проговорила мать с чувством неловкости.
– Простите, не понял?
– Да, да! У молодожёнов либо всё слишком уж хорошо, либо из рук вон плохо. Даже и не знаю, что лучше. А только всегда что-то да не так.
– Мама, ведь я вас не о том спрашиваю. Я спрашиваю, есть ли какой способ…
Впервые он терялся перед матерью. Она не помогала ему. Он раздосадованно отвернулся.
– Ты как ребёнок. Ссоришься с женой, бежишь в такую-то жару на улицу, являешься ко мне с разными вопросами… Ну почём я знаю!.. Такое решают только разводом… или переездом… или уж я не знаю как…
Едва начав говорить, она уже задыхалась, и Ален пенял себе лишь за то, что лицо её покраснело, что, произнесши всего несколько слов, она уже с трудом переводила дух. «На сегодня довольно», – благоразумно решил он.
– Мы не ссорились, мама. Просто я никак не могу привыкнуть к мысли… Мне не хотелось бы, чтобы…
Он неловко повёл рукой, показывал на сад, зелёную скатерть газона, усеянную лепестками дорожку под сводом розовых кустов, на дымчатое облачко пчёл над цветущим плющом, несуразный и свято чтимый дом…
Материнская рука, которую он задержал в своей ладони, сомкнулась, сжалась в твёрдый кулачок. Неожиданно он поцеловал эту чуткую руку: «Довольно, на сегодня довольно…»
– Я ухожу, мама. Господин Вейе позвонит вам завтра в восемь часов насчёт понижения курса акций… Я лучше выгляжу, мама?
Он поднял глаза, позеленевшие в тени тюльпанного дерева, запрокинув лицо, состроив по привычке, из любви к матери, а также из дипломатических соображений прежнее детское выражение; моргнул, чтобы глаза ярче блестели, обворожительно улыбнулся, шаловливо надул губы… материнская рука разжалась, просунулась в окно, коснулась Алена, ощупала на нём известные ей особо чувствительные у него места: лопатку, кадык, руку у плеча. Лишь проведя по нему рукой, мать проговорила:







